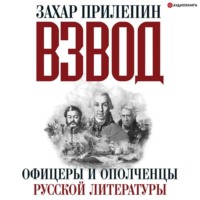«Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы» adlı səsli kitabdan sitatlar, səhifə 2

«Слово «Родина», заметим, в русской поэзии впервые ввёл в употребление Державин – имея в виду «малую родину» (страну именовали Отчизной); и вот оно уже начинает обживаться в стихах…».

«Денис Васильевич Давыдов – однополчанин! – написал в своей «Современной песне» в том же 1836-м о Чаадаеве:
Старых барынь духовник,
Маленький аббатик,
Что в гостиных бить привык
В маленький набатик».

«Которое уже десятилетие пытаются имитировать Чаадаева: взгляните, я тоже сноб, у меня тоже на лице словно бы усталая иезуитская маска, я тоже, что самое важное, презираю ничтожество России, – ах, разве я не Чаадаев?
Нет, не Чаадаев.
За Чаадаевым был Семёновский полк, сражение при Кульме, Ахтырский гусарский и ещё несколько сражений, безупречная воинская служба и целые поколения русских офицеров в роду, – всё то, чего у вас нет, и вы пришить себе это не сможете, потому что некуда, нет подходящей суровой нитки. Имитаторы и фарисеи – куда вам Чаадаев, зачем?
Что вы, наконец, будете делать с его христианским чувством, которое являлось основной его мировоззрения?»

«Русский народ, при всей своей внешней суровости очень поэтичен и сентиментален, он ценит свойственные ему самому черты в тех, кого выбирает своими героями.
Да простят мне вольность сравнения, но Давыдов был, как ни парадоксально, в некотором роде Высоцким своей эпохи».

«Ну а кому приятно, если ты, наблюдая себя в зеркале, уверен, что почти уже стал европейцем, а тут тебе сообщают, что ты невежда и лакей».

"Этот русский генерал сделан из материала, из которого делаются маршалы", - сказал однажды Наполеон о Раевском.

"Все они, все были просто людьми. Можно набраться смелости и позвать их в гости.
Державин топает в прихожей, сбивая снег. Шишков подъехал к соседнему кварталу и решил оттуда пройтись пешком. Давыдов видит шампанское и чувствует себя отлично. Глинка всем рад. Батюшков уже хочет уйти. Вяземский никак не решит, чего в нем больше: раздражения на Давыдова или любви к этому невозможному, светлому, бесстрашному человеку. Чаадаев сказался больным. Раевский далеко, но прислал подробное письмо. Бестужев еще дальше, но тоже пишет.
Наконец, Пушкин.
Скоро явится Пушкин".

стоять себя. Да и чего бояться нам, если дело на то пойдёт, – передряги, которую могут поднять недовольные при разгаре европейской войны? Французам она опаснее, нежели нам. Могут вспыхнуть частные беспорядки в Польше, но Польша теперь не восстанет, как в 1830 году. Мятеж в Россию не проникнет». В чём-то Вяземский был прав, в чём-то – нет; но чем дальше, тем дело оборачивалось хуже. Переживая приступы брезгливости, он писал про журналистов и журналы свободной Европы, что они «вопиют и беснуются против так называемых самовластных и неслыханных требований России. Дура-публика не обращает внимания на официальные документы и увлекается криками журнальных крикунов». «Журналы уморительны своей нелепостью… кричат и шумят, а ничего не объясняют». «…La Presse врёт и беснуется. Журналы не имеют никакого понятия о России и Турции, но расправляются ими как своей собственностью». Переезжая из страны в страну, картину Вяземский видел везде примерно одну и ту же. В 1854-м лондонская «Таймс» писала: «Хорошо было бы вернуть Россию

«Роскошь есть первый враг всех добродетелей вообще, –

сдерживает ухмылку, потому что, если засмеётся в голос, – упадёт от боли в обморок. Чаадаев скучает, но он уже придумал остроту и лишь ждёт удобного момента, чтоб устало её произнести. Раевский злится и беспокоен. Играет желваками. Всё внутри у него клокочет. Несносные люди, несносные времена! Бестужев разглядывает дам. Дамы разглядывают Бестужева: Вера, я тебя уверяю, это же тот самый Марлинский. Наконец, Пушкин. Пушкин верхом, Пушкина не догнать. Склянка тёмного стекла, спасибо тебе. Им было проще, жившим тогда, в середине прошлого века: Булату, Натану или, скажем, Эмилю – кажется, кого-то из них звали Эмиль, их всех звали редкими именами. Золотой век они описывали так, словно рисовали тишайшими, плывущими красками: всюду чудился намёк, мелькало что-то белое, бледное за кустами. Обитатели Золотого века, согласно этим описаниям, ненавидели и презирали тиранов и тиранию. Но только нелепые цензоры могли подумать, что речь идёт о тирании и тиранах. Разговор шёл о чём-то другом, более близком, более отвратительном. Если вслушиваться в медленный ток романов о Золотом веке, можно различить журчание тайной речи, понятной только избранным. Булат подмигивал Натану. Натан подмигивал Булату. Остальные просто моргали. Но в итоге многое оставалось будто бы неясным, недоговоренным. Блестящие поручики отправлялись на Кавказ – но что всё-таки они там