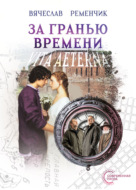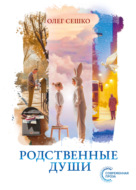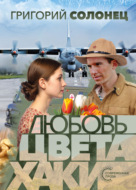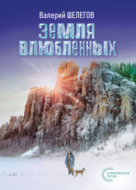Kitabı oxu: «Безмолвие тишины»
Серия «Современная проза» основана в 2024 году
© Козырева А. А., 2025
© Оформление. ОДО «Издательство “Четыре четверти”», 2025
* * *
Яблочный Спас
I
В субботу к вечеру приехала тёща.
Лёшка Зырянов возился в саду, когда внезапно увидел её. Грузная и потная – по-собачьи чутко уловил грубый чужой запах издалека, – она подбористо вышагивала по пыльной, в сухих колдобинах деревенской улице.
Навстречу ей он не вышел, но и работа уже не спорилась. Работа – всегдашняя, радостная в своей обычности и нужности – застопорилась, и ныло-поскуливало беспомощно и тоскливо в груди. Лёшка продолжал бестолково слоняться по буйно цветущему саду, а когда жена громко и требовательно позвала ужинать, – давняя жестокая тревога придавила окончательно.
Дурные предчувствия не обманули – скандал разразился скоро, как по расписанию. Татьяна с матерью кричали в два голоса, перебивали друг дружку, визгливо суетились вокруг него, а он – истукан истуканом – молча сидел на стуле.
Неприятно удивляла Татьяна. Такой вот, обабившейся в одночасье, чужой и склочной, он её никогда не видел. И теперь, невольно наблюдая отяжелевшее в злобе, распухшее красными хмельными пятнами, обрамлённое светлыми вздыбившимися кудряшками лицо, пытался всё же уловить иные черты – прежние, дорогие и знакомые, а уловив, вытянуть их на свет Божий. Вдруг одумается, вернёт былое обличье, спохватится, ужаснётся себе и улыбнётся – мило, кротко, а он будет вновь и вновь, как всегда, в радостном недоумении любоваться ею.
Только продолжало, поскуливая, саднить сердце, робко сопротивляющееся хаю и вою, разбухающему кислотой перебродившей браги.
Возбуждённый непривычным шумом Никитка ошарашенно лупился на взрослых, а тёща – благо что крепка и двужильна – схватила внука и, как куль, вскинув его стягом, с удвоенной силой завопила:
– О сыне! О сыне, ирод, подумай! Яму ли чё, как табе, в энтой дыре сгинуть? Энто ты, дурак малохольный, тута подыхать собралси и подыхай – рыдать не станем! А яму – не дам! – она зло пучила маленькие кроличьи глазки. А Никитка очумело таращился с высоты на отца: вот-вот расплачется, – и безвольно вздрагивал тоненькими, как прутики, ножками. – И дочерь я табе тута сгубить не дам!
Зырянов подхватился со стула, надеясь перехватить сынишку и отнести его на постель, но Татьяна тигрицей рванула наперерез, вцепилась в Никитку и пихнула за спину. И они вдвоём с матерью, как стеной, укрыли мальчика собой.
– Не смей яво трогать! Не смей трогать его! – визгливая разноголосица придавила до немоты, и Лёшка выскочил за дверь.
На крыльце придержал бег, в мгновенье ока вобрав в себя мир, распростёршийся вокруг. Тишина и покой…
Это был тот дивный час в природе, когда только-только потухли лучистые сумерки, и вечер соприкоснулся с ночью, и не зажёг ещё небесный фонарщик свой желтушный фонарь, и не успела дотянуться до выключателя самая первая рука.
Лёгкий ветерок остудил полыхающее лицо. Зырянов спрыгнул с крыльца. Заспешил в надёжное укрытие – сад.
Здесь стояла старая железная кровать с проржавевшей панцирной сеткой. Когда купили мальцу кушетку, то эту, мамину ещё, кровать выбросить совсем было жалко, и он перетащил её сюда: всё Никитке забава.
Бросил на сетку ветхую телогрейку. Сел. Кровать старчески проскрипела. Вытащил из кармана пачку сигарет, но, так и не закурив, задумчиво замер.
– Кукуешь сидишь?
Зырянов вздрогнул. Из-за ивового плетня, густо ощетинившегося новыми побегами, на него зорко смотрел старик.
– А-а, это ты, Митрич, – вышел окончательно из долгого оцепенения.
– Тёщенька никак припожаловала?
– Она…
Старик исчез, но вскоре хрипло пискнула калитка, и он нарисовался в саду. Присел рядом – и вновь протяжно и скрипуче продребезжали ржавые пружинки.
– Сигареткой не угостишь?
Лёшка протянул примятую пачку. Митрич повертел её. Подслеповато сощурясь, попытался высмотреть название:
– И не поймёшь, чё и писано. Всё не по-нашенски. Каких токо нету, – прикурил. Втянул в себя пробную осторожную затяжку. Подержал во рту. Выпустил носом сизый дым. – Вроде как ничё. Кисловата токо чуть, – столь же осторожно втянул вторую затяжку. Вновь подержал во рту. Вновь – дым носом. – Но не забориста и не крепка вовсе. По мне, лушше нашей «Примы» и нету.
Сосед промолчал. Утих понимающе и старик, но долгой паузы не выдержал:
– Я за ей от шляху бёг. Думал догнать. Да и де догонишь? Она ж, быдто паровоз, прёт. Токо: пых-пых, пых-пых… Прёт да пыхтит! Нихто ить и не остановит. Откудова и силищи стоко у энтих баб берётся? – помолчал. – Да и хлотки у их, быват, таки лужёны!.. – вздохнул. – Смекнул, бегит Лёхина погибель. Чё снова-занова?
Лёшка в ответ лишь махнул рукой. Ему не то что говорить – думать не хотелось. Однако старику молча не сиделось:
– Сад твой, парень, цветёт на диво! Белый кипень! И дух-то, дух-то какой! Энтому саду и цаны нет. Молодец ты, Лёшка!
– Я-то тут при чём? Не мой он. Дед садил, выхаживал. А мама сколько души, сколько сил вложила!
– Так-то оно, конечно, так, – Митрич глубоко вздохнул. – А наш совсем не тот стал, что раньше был. Мне одному тяжело: силов уж сабя носить не хватат. Мои нонче редко ездют. Ничё има не надо стало. Усё, мол, без напрягу у магазине купить можно.
Тихо. Лишь лёгкий шелест листвы, потревоженной порывистым ветерком, нарушил затаившееся безмолвие. Выплыла толстушка луна и запуталась в ячеистых тенётах – широких яблоневых кронах.
Слабые неустойчивые тени, вздрагивая меж деревьев, цеплялись за изножье кривых стволов, колыхались на земле, поминутно изменяя и без того зыбкий рисунок затаившейся округи.
– Иной раз как будто рядом их вижу, – Лёшка негромко оборвал затянувшуюся паузу.
– Кого? – старик непонимающе вскинулся седенькой головой.
– Ну их же… Деда, маму. Так, кажется, и плывут тенями меж деревьев, наблюдают, стерегут сад.
Исподтишка, с осторожно-опасливым любопытством Митрич осмотрел освещённый лунным светом сад. Прошептал предупредительно:
– Ты токо бабкам нашим про то не скажи – засмеют. Блажным ишшо посчитают.
– А эти… – похоже было, что Зырянов не расслышал чужого предостережения, и, кивнув в сторону дома, продолжил: – ничего понять не хотят. И шумят, и галдят… И чего? А в толк взять не могут, что против своей воли человеку жить – смерть.
– Супротив воли никак, – согласился дед. Шумно выдохнул и добавил: – Это уж точно – никак.
– Вот скажи ты мне, дядь Мить, и чё мне там делать? На барахолку идти торговать? Я не умею! «Ты, – вопят, – сына не жалеешь…» Это я-то Никитку не жалею?! Чушь какая-то.
– Нашёл же кого слушать: баб! Оне табе напоют с три короба.
– «Ты, – кричат, – не любишь его!» Это я-то не люблю?! – в недоумении умолк. Спросил через паузу: – Да и как, дядь Мить, без такой-то красоты прожить? Разве можно?
– Почем же нельзя? Можно, – старик заметно ужался. – И живут. Обнаковенно живут. И не тужат, поди.
– Правильно, живут. И пускай себе живут! Я разве против!
– Простец ты, Лёха. Трудно табе, паря, прожить будет, – только и смог подытожить старик.
Зырянов не отреагировал на тот скорый итог, он вновь обморочно умолк. Утих, сжался окончательно и Митрич. Какое-то время он выжидательно ещё посидел. Затем помялся-помялся в тишине, да так молча и удалился восвояси, а Лёшка растянулся на скрипучей кровати. Уставился в близкое звёздное небо.
И устремились в те выси блуждающие мысли. Путались в цветущих кронах. Рассыпались в ночном вязком воздухе. И тут же спешили вновь собраться кучно. Тянули, как в омут, в день нынешний, а он тому скорому возвращению мгновенно сопротивлялся; и мысли вновь спасительно срывались всё в новые и новые походы по закоулкам памяти, как будто кружа по тёмным углам сада.
Вспомнил вдруг, как впервые увидел Татьяну. Нет, он знал Таньку с малолетства. Все школьные годы проучились вместе, да и жили всегда рядом. Дома стояли на одной улице, перемигиваясь окошками через дорогу, а вот всё равно именно тогда Лёшка увидел её впервые. Увидел по-особенному.
Ранней была в том году весна. Ранней и напористой. Разом окунулись в зелёный сочный дым сады, и разливали по утрам своё густое молозиво над оживающей степью дальние туманы.
Татьяна появилась перед ним внезапно, словно выпорхнула из тонкого невинного сна.
Раным-ранёшенько, когда мир только-только готовился к полному пробуждению, Лёшка бежал по дороге из соседней деревни, где с вечера застрял у тётки.
От реки, где слоистый белый мрак плотно укрыл рыхлым пологом низкий берег, внезапно донеслись до слуха живые звуки. Кто-то на длинной высокой ноте выводил нечто напевное тонким, пронзительным голосом. Слов песни было не разобрать: они вязли в тумане, что, впрочем, было и неважно, – важным было уже одно то, что и в голосе, и в мелодии услыхалось вдруг нечто нереальное, неземное и волнительное.
Скоро мальчик увидел, что кто-то в алом приближается к нему. Как будто первый заревой лучик пробивается сквозь плотные облака, заслонившие собой дальний горизонт.
Непривычно и учащённо застучало маленькое сердце, и новое, неведомое ещё, трепетно-сладкое чувство нарождалось в груди. Даже когда в алом свечении он узнал Татьяну, – измениться в его смущённой душе уже ничто не могло.
Лёшка замер, не понимая и не осознавая до конца своих чувств и ожиданий. Стоял тихо, и так же тихо прошла мимо него Танька, Танюша, Татьяна… Незнакомая и нереальная.
Проплыла алой тенью и в один миг растворилась в белёсом мареве, укрывшем сельскую дорогу. А он всё стоял и стоял, надеясь втайне, что видение вот-вот повторится.
С того дня Лёшка перестал привычно задирать её и постоянно наблюдал со стороны, внимательно и настороженно, как за птицей, с удивлением обнаруживая в ней всё нечто новое и новое, всё неведомое и неведомое. И всегда находился рядом – неотлучно, как тень, – и смотрел заворожённо, открыто.
Однако он непременно бы удивился тому, если кто-либо сказал бы ему, что это и есть любовь. Возможно, даже и засмеялся.
После окончания школы Лёшка стал работать электриком в угасающем колхозе и совсем не тужил, что никуда, как большинство, не уехал. Он находился при матери, при доме – и жил хорошо или почти хорошо, если б только не было его душе тоскливо и неуютно. Татьяна из деревни уехала, а где училась, на кого, он не знал, точнее, не желал и знать.
На выходные она приезжала иногда домой. И менялось атмосферное давление, и уплотнялся воздух, и тайные, неведомые силы поднимались встревоженными стаями птиц в небо и вспенивали клокочущим ключом воду в родниках, – так и он мгновенно чувствовал её близкое появление. И тут же, по давней своей привычке, оказывался у её дома.
Однажды ненароком услыхал:
– Танька, твой-от чумовой опять тута ужо торчит.
– И никакой он – не мой! – возмутилась Татьяна на резкие слова матери и демонстративно дёрнула на себя распахнутые настежь оконные створки.
Последнее, что отчётливо донеслось до его слуха, было:
– Гони ты яво, малохольного! Хватит ужо деревню-то смешить! Нашла сабе ухажёра – курам на смех!
И Лёшке вдруг очень захотелось схватить побольше камень и размахнуться, чтобы последние слова окончательно утонули в оглушительном звоне рассыпающегося на мелкие осколки оконного стекла. Но он испугался своего моментального желания и поспешил быстро уйти.
Долго бродил он той ночью в степи. Мечталось уйти за горизонт, но тёмная, размытая в очертаниях линия отдалялась и отдалялась, маня и всё оставаясь недосягаемой.
Мечталось вновь пережить то давнее видение. И вот тогда уж Лёшка наверняка бы не растерялся, не пропустил её мимо, а остановил и что-нибудь сказал, сказал ласковое, тёплое, сокровенное.
Однако не расстилал белых холстин над рекой туман, не укрывал низких бережков, куда на выбитые копытами травы выгнали вольно пастись табунок, стерегли который в охотку деревенские пацанята.
На берегу, отражаясь в воде ломким пятном, горел гребешистый костерок, угадываемо потрескивал сушняк, стаились огненной мошкарой искорки и тянулись к реке тугие клубы дыма.
Издалека Лёшка смотрел на ребят, на тот костерок, – и пронзительно звенела обнажённая мысль, что давно он уже не вихрастый пацанёнок и что ноет его сердце и скулит, как беспомощный щенок, жалостливо и просительно.
Татьяну он больше не видел. Приезжать на выходные она перестала, да и мать скоро, продав выгодно дом беженцам-армянам, перебралась в Курск.
Как прошёл в его жизни тот год – спроси, и не вспомнит, как будто и не было того, предармейского, года вовсе. И только запомнилось, что часто видел странный, волнующий кровь сон: сквозь густой, вязкий туман пробивается к нему алым лучом свет, но пробиться не может, рассыпается на тысячи осколков. И вмиг угасают те острые искорки, мгновенно растворяется их слабый след.
По осени, через год, Лёшка засобирался в армию.
Мать хохлилась тревожно, открыто плакала, тяжело вздыхала и однажды, не выдержав, начала прямой разговор:
– Лёшенька, сынок, мне тута бабы, знашь, чё подсказали? – и, не дождавшись открытой заинтересованности, после паузы продолжила: – Ты ить у меня один сын, и в армию табе итти вовсе не надоть.
– Мам, ты чё и говоришь! – перебил её.
– И чё такого неправильного я говорю? – мать вспыхнула. – Всё правильно говорю! Люди вона каки деньги плотют, лишь бы токо причину найти, чтоб от армии отлынить. А нам и искать ничё не надоть! Я ж не выдумываю, сынок, чё ни попади. Закон же такой, сказывают, есть!
– Кто ж спорит, законов всяких много, – Лёшка миролюбиво согласился, и мать с робкой надеждой, что сын заинтересовался, живо зачастила:
– Вот-вот, закон есть! Токо нам всё разузнать надоть! Оне, законы-то, непросто ж так пишутся! Сам знашь, чё вокруг творится: ажно телевизер включать страшно быват.
– А ты и не включай! – предложил сын. – Тогда и страшно не будет.
Мать с лёгкой обидой умолкла, но ненадолго, спросила скоро:
– А как яво прикажешь не включать? Може, чё и не хотел бы слушать, а оно само в ухи-глаза лезет, – вздохнула. – И та ж дедовщина! Тута вот опеть показывали…
– Мама! – Лёшка резко одёрнул мать.
– А чё мама-то! – воскликнула она со слезой в голосе, но Лёшка уже ничего не слышал – стремительно выскочил за порог.
Широких проводов не устраивали. Скромно посидели тревожно-напряжённой близкой роднёй. Пришли местные ребята – посидели тихо со всеми. Затем перебрались к магазину на шляху, где и прогужевались шумно ночь. Лёшка ушёл с ними, но за полночь вернулся домой.
А накануне отъезда они с матерью долго-долго сидели вдвоём. Мать начала осторожно, издалека – и вдруг рассказала ему всю его жизнь: от рождения и почти до часа нынешнего. Она как будто торопилась со своим рассказом и в спешке боялась ненароком что-либо пропустить, не досказать, а оттого застревала на деталях, перескакивала с одного на другое, третье. Смеялась. О чём-то сожалела.
А он искренне удивлялся тому, как же много мама знала о нём, словно его жизнь была значительной частью и её жизни.
С удивлением отметил, что когда-то был не только мал сам, а что и мама была молода. Да-да, была молода и даже любила. И как же чутко он это прочувствовал! Любила тоже беззаветно, преданно и тихо, как… Он запнулся на невольном сравнении – как любил он сам.
А в конце мать вдруг подытожила с горестной безысходностью:
– Ох, Лёшенька, Лёшенька, придёт не ровен час, и покину ж табя… Как же ты, мальчик мой, один-то одинёшенек будешь? – спросила как бы ни к чему, глаза сухие, слова словно сорвались случайно, а грудь вздымается высоко, дыхание учащённое: вот-вот и задохнётся.
Однако сдержалась, ужала трепетавшее сердце, усмирила и, как маленького, поцеловала сына в лоб, и, спешно-спешно пожелав ему спокойной ночи, ушла.
А Лёшка в постель не спешил – вышел из дома и долго ещё сидел в одиночестве на крыльце. Замерла улица в темноте. Замерла в ожидании скорых перемен. Затаилась.
К исходу тянулось короткое бабье лето, и подпирал мягкой прохладой октябрь. Осторожно подбирался месяц-грязевик; вот-вот войдёт в убранные золотом да багрянцем широкие палаты, прикинется поначалу бережливым, чутким хозяином-новосёлом, – только ненадолго хватит ему спокойствия. Ухнет утробно филином-полуночником, свистнет грозно лихим соловьём-разбойником, обернётся, обманщик, порывистым ветром-листогоном, распустит длинными космами затяжные косохлёсткие дожди, мзгой-сыростью придавит озябшую землю, расплющит чернозёмные поля-дороги до вязких грязищ-болотищ, загуляет безрассудным ухарём-купчиной, порастрясёт мелким сором из прохудившихся мешков-кулей остатки былого, доставшегося дуриком несметного тепла-богатства. И спасительно укроется, исхудавший от бескормицы, ослабевший от безумной пьянки-гульбы, белым лебяжьим пухом, успокоится.
Только когда-то это ещё и будет? А пока тихо-тихо вокруг. Покойно. Безветренно. И плывёт по низкому чёрному небу круглобокая, довольная собой луна; плывёт-перекатывается мячиком-колобком и щедро, через край, льёт-разливает купоросную синь-воду; и гирляндами нависают по-над землёй, затаившейся в ожидании, крупные искристые звёзды.
Утром Лёшка Зырянов отбывал в армию.
Мать потерянно смотрела на сына обезумевшими, полными слёз и припухшими до красноты от бессонницы глазами, а он шептал ей:
– Мама, мамочка… Вы только не переживайте! Вот увидишь, всё будет хорошо! Всё будет тип-топ! Я же, мама, – мужик, защитник!
– Ой-й, сыночка, как же мне лихо! Как лихо… И сердце болит, Лёшенька. Ой, как болит! Я так боюсь, сынок, так боюсь, – мать обречённо вскинула покорно-отчаянные глаза на него. Силилась и ещё что-то сказать-вымолвить, а сын, стыдясь её откровенных слёз и тяготясь её навязчивостью, рванул к ребятам, колготной кучкой топтавшимся у крыльца военкомата.
Мать умерла внезапно.
И словно надломилась сама вечность, когда он узнал об этом.
Счастливый Лёшка ехал домой. Ехал из госпиталя. И хотя ранение у него было не из лёгких, оклемался солдат на удивление всем быстро и также быстро пошёл на поправку.
В своих письмах сын ни разу и слабым намёком не обмолвился о том, что последние полгода прослужил в Чечне.
Он исправно, раз-два в месяц, отправлял матери письма-отчёты, в которых старательно излагал суть повседневной армейской жизни: о нарядах и успехах в боевой учёбе, о том, что ему присвоили звание ефрейтора, и о том, что зимой приходится очень уж много долбить ломом льда на дорогах. Отдельной строкой сообщал о быте и обязательно – о кормёжке. Коротко – о ребятах и командирах, а мать в своих ответных письмах каждому из них, с перечислением имён, отправляла низкий свой поклон.
Зримо представляя себе, как мать всё-таки пытается уловить меж строк нечто недосказанное и нежелательное, Лёшка всякий раз старался упомянуть псковскую землю, куда первоначально и был отправлен с Курщины. Он описывал матери непривычную его глазу лесистую природу и столь же необычное низкое плоское небо. Однажды Лёшка с искренним удивлением написал о каменных валунах, выраставших, как огромные грибы-дождевики, на полях и лугах.
Он и в последнем своём письме, уже из Подольского госпиталя (вновь, конспирации ради, отправленном через псковскую часть), не преминул воспользоваться изобретённым им отвлекающим внимание манёвром: по памяти описал давнее посещение в Пскове древнего кремля.
И лишь в конце, как бы случайно, сделал приписку о возможно скором отпуске: «Жди! Наверное, приеду!..»
Маяться на августовской жаре и ждать рейсового автобуса в Фатеже солдат-отпускник не стал. Остановил частника и уже через полчаса был почти у самого дома. Вышел из машины и, небрежно поправляя голубой берет, уверенно шагнул на знакомую улицу.
– Ой, никак Лёша?! Лёши-и-инька-а… мальчик! – он не сделал и пяти шагов от шляха, когда его настойчиво окликнули. Оглянулся. У придорожного магазинчика шеренгой стояло несколько местных женщин. И все они странно смотрели на него. Странно и оторопело. – Лё-ша-а! Ты ли это?!
– А кто ж ещё?! Я, конечно! Вот – собственной персоной! – солдат широко и весело улыбнулся. Подошёл к ним и радостно обнял одну из них. – Тёть Оль, чё-то ты совсем маленькой стала.
Заречинская тётя Оля, старшая мамина сестра, обхватила племянника руками, уткнулась седой головой ему в грудь и взвыла с причитаниями в голос.
– Ну вот! Ты чё это, тёть Оль, выдумала? Не плачь! – и он в смущении оттолкнул её от себя. – Вы лучше приходите вечером все к нам. А я сичас побегу до мамы!
– Лё-ши-и-инька-а… сыночка-а… – тётя Оля не унималась.
Нечто ужасное, пугающее своей неотвратимостью прочитывалось и в глазах остальных женщин, немо и потерянно стоявших около них, а Лёшка вдруг отметил про себя, что на тёте Оле надето старое платье из кримплена, давно забытого модой, с ярко-алыми мелкими, букетиком, цветочками по тёмно-зелёному полю.
…Стояла поздняя слякотная осень. Лил мелкий дождь, и хлюпала под ногами чёрная грязь, а они с мамой, преодолевая всё, упорно шагали в Заречье, где жила тётя Оля. Она накануне приехала из какого-то, неведомого мальчику, санатория, куда её отправляли отдохнуть как лучшую доярку. И вот теперь, по случаю её возвращения, вся родня собиралась у них.
Лёшка был ещё совсем маленьким и почти ничего не помнил из её рассказов о поездке на юг, но, как оказалось, отчётливо запомнил на всю жизнь это платье.
Тётя Оля, обе дочери которой к тому времени выросли и разъехались, привезла племяннику заводную машинку. Игрушка была чудо как хороша! У мальчика перехватило дыхание, когда он взял машинку в ручки.
– А «спасибо» где? – мать пристыдила сынишку. – Кто «спасибо» скажет? – повторила она настойчиво, но мальчик продолжал упорно молчать. Спасла тётя Оля:
– Чё привязалась к мальцу? Отстань! Нехай играет! Играй, сыночка, играй! – и ласково притянула его к себе. Лёша упёрся носом в большой живот, усыпанный мелкими ярко-алыми, букетиком, цветами. Живот был мягкий-мягкий, а ткань нового нарядного платья – твёрдой и плотной, в шершавых рубчиках.
– Ты ж как раз под сорок дён и приехал.
Сизая, угрюмая туча, наползая из-за степи и подпирая синь, уже вовсю пласталась на ветру обвислым краем в огрузлом, скукожившемся вдруг небе.
– Лё-еша-а, сы-ы-но-очка-а, а мы ж и табя схоронили…
Последних слов солдат уже не слышал. Он медленно-медленно шёл по деревенской улице в сторону родного дома. Тётя Оля бросилась было за ним вслед, но кто-то из женщин, предупредительно что-то прошептав, задержал её. И она лишь крикнула ему:
– Ключи от хаты-то у Валентины!
Издали Лёшка заметил, что калитка сада широко распахнута. Он вошёл в сад. Медленно прикрыл за собой калитку. Здесь сновали и суетились люди. Чужие люди.
В траве под ближайшей яблоней поблёкшими солнечными зайчиками, россыпью лежал белый налив. В несколько рук мальчишки проворно собирали спелые плоды и аккуратно складывали в коробки. В мальчишках Лёшка узнал подросших сыновей Ашота – армянина-беженца, живущего в Татьянином доме. Ближе к выходу стояло несколько полных картонных коробок из-под сигарет.
В глубине сада любимую мамину мельбу безжалостно трясли за ствол двое мужиков: обложным дождём яблоки сыпались на землю, подпрыгивали алыми мячиками и раскатывались по траве. Вот одно отскочило в сторону, покатилось и замерло у Лёшкиных ног. Наклонился, поднял нежное румянобокое яблоко.
Один из мужиков оглянулся, что-то выкрикнул по-своему, и все, кто был в саду, устремились взглядами на появившегося солдата.
– А говорили, что нет тебя, – Ашот несмело подошёл. Сыновья, бросившие укладывать яблоки, и второй мужик агрессивной кучкой сбились за его спиной. – Что убили тебя.
– Тебе не повезло. Как видишь, я – живой… – и Лёшка вышел из сада.
Ашот выбежал следом, засеменил рядом и продолжил сбивчивой скороговоркой:
– Я же не сам! Я спросил разрешения!.. Ну не пропадать же добру! Такой жара стоял. Яблоко переспело. Падалицы много. Жалко. У меня у самого там сад был большой… Жалко, жалко мне яблоко-то…
– Я тебе что-нибудь сказал? – Лёшка, не останавливаясь и не оглядываясь, глухо бросил и ускорил шаг.
Ашот отстал. Секунду-другую постоял в раздумье и, махнув рукой, побежал назад. У калитки он чуть замер и, бочком войдя в сад, старательно прикрыл за собой плетёную калитку.
На крыльце родного дома Лёшку уже поджидала соседка.
– Это я, Лёшенька, разрешила Ашотке яблоки собрать. Ты прости меня. Я ж не знала, что ты… И кто ж знал-то чё? – она начала с оправданий.
Лёшка ничего не сказал и ей. Поднялся на крыльцо. Устало опустился на лавку.
– Ключи со мной, сичас-сичас вот отомкну, отомкну сичас, – она суетливо спешила открыть висячий замок на входной двери, но руки предательски дрожали, и вставить ключ в скважину ей всё не удавалось.
Лёшка был совершенно безучастен к её хлопотам: он в сердцах вдруг пихнул ногой дорожную сумку, брошенную им на пол, стянул с головы ухарский берет небесного цвета, уткнулся в него лицом и – неожиданно даже для себя самого – по-детски безутешно и открыто заплакал.
Женщина наконец сумела справиться с замком, распахнула шумно настежь дверь и перемахнула за порог. Слышно стало, как в тёмных сенцах она обо что-то запнулась, чуть не упав, ойкнула непроизвольно и скрылась в хате.
Она тихо-тихо, замерев нахохлившейся, вспугнутой птицей, сидела на табуретке в передней, когда Лёшка спустя время осторожно переступил порог. Вошёл и сразу же, минуя переднюю и кухоньку, шагнул в горницу, где от плотно зашторенных окон было тесно и сумеречно. Заметно уменьшали пространство родного жилища и чёрные полотнища, свисавшие траурными шлейфами и скрывавшие от глаз высокое зеркало старенького трюмо, рамки с фотографиями за стеклом, висевшие в межоконных простенках, короб телевизора в углу на тумбочке.
На столе – увеличенное мамино фото, с которого она приветливо и прямо улыбалась сыну. Сбоку, прислонённая к маминому плечу, – последняя его армейская цветная фотокарточка: и он тоже всем прямо и приветливо улыбался.
Перед обоими фото стояло белое блюдечко с хрустальной рюмочкой на тоненькой ножке. В рюмочку была налита до середины водка, а поверх лежал высохший ломтик чёрного хлеба. Около рюмочки – тонкий огарыш жёлтой восковой свечи.
Рядом Лёшка положил алое, в прозрачных прожилках яблоко, которое, как оказалось, до сих пор сжимал в руке, – и упал на колени перед столом. Солдат уже не плакал; он просто молча и потерянно смотрел на маму, так ласково и радостно улыбавшуюся ему.
Глухую обморочную тишину соседка, беззвучно прорыдавшая всё это время, наконец рискнула нарушить осторожным предложением:
– Може, до меня пойдём. Поешь. Голодный, поди, с дороги-то…
Лёшка очнулся. Поднялся с колен. Присел на краешек дивана и отстранённо пробурчал:
– Не хочу, – уставился в пол – больше он не знал, куда и зачем смотреть.
В сенцах с шумом хлопнула дальняя дверь, следом широко распахнулась дверь в хату: на пороге появилась раскрасневшаяся, с большой гружёной сумкой в руках тётя Оля. Заглянула в горницу:
– В темноте-то чё, как филины, сидите? Хушь бы свет зажгли, – и щёлкнула выключателем на кухне. По-хозяйски засуетилась. – Сичас я табя, сыночка, покормлю.
Валентина поспешила оправдаться:
– Отказыватся, предлагала, к сабе звала…
Тётя Оля не слышала или только делала вид, что не слышит. Она сновала по кухне, хлопотала и вскоре позвала к обильно накрытому столу:
– Идём-идём, Лёшенька! Поисть надоть! С дальней дороги как-никак. Маму вот спомянем, да и за твоё здоровье по чуть-чуть пригубим: радость-то кака – живой! Мы ж табя, сыночка, усем миром успели схоронить…
– Она усё жалилась, что сны плохие видит, – помянув за столом усопшую, соседка начала издалека. – Идём с ей на ферму, бывалоча, утром ранёшенько, а она усё токо сны и вспоминат. То одно чё-то увидит, то чё-то друго. Я ей говорила, чтоб значенья-то им не придавала. «Забудь, – говорю, – усё, чё видела! Проснулась, голову почесала и усё забыла».
– Это уж известно: сон споминать – токо беду накликать, – согласилась с ней тётя Оля.
– А тута как-то, – Валентина продолжила, – у ей сердце схватило: с лица спала, уся бледная стоит. Утрешню дойку-то довела. На вечор Люська-бригадирка ей замену нашла. После дойки я к ей спроведать забежала. Она как раз на диване лежала. Телевизер – будь он проклят! – бросила она в сердцах, – включённый говорит. Как раз стали известья показывать. А она с какого-то моменту, Лёшенька, ни однех известьев, особенно каки с Чечни, старалась не пропустить. И усё сокрушалась, чё, мол, наших бедных солдатиков усё по телевизеру стыдят да охаивают. Чуяла ли, чё? – вздохнула. – И вдруг на весь экран ты, Лёшенька! Лицо онемевше, как у мяртвеца, каменно… Глаза запавшие закрыты плотно. Увесь у чёрной щетине и у кровищи… Тя на носилках у машину пихают, а рука-то болтатся, как плеть. Я на её глянула: може, думаю, не видит, може, думаю, не признала, може, думаю, это я обшиблась. А она впилась глазами в экран: сама – полотно белое. И как закричит: «Лёшенька! Сыночек мой!» С диванчика-то подхватилась, руки к телевизеру тянет… Встала – и шага ить сделать не успела, тут и рухнула на пол. Я – тык-мык, ишшо и не соображу до конца, чё к чему. Тут, слава Богу, Елена Петровна бегит, тоже табя увидала. Следом Митрич приковылял. Сгрудились мы над ей. Помочь ничем не могём. А чё и сделашь, коли сердце-то вмиг разорвалось? Уся деревня так и решила, что видали табя убитым, – и, не сумев сдержать горьких слёз, женщина захлебнулась, умолкла.
– Токо вот отпеть табя заочно уместе с матерью батюшка отказался, – тётя Оля вытерла и свои слёзы. – А я, грешная, ишшо так и настаивала! А когда твоё письмо пришло, прочитали яво, повертели-повертели: ни даты, никаких намёков, штемпель псковской, – так и решили, что писано давно, что гдей-то на почте застряло. Быват, вона и из Курску письмо-то месяцы идёт.
Предчувствие лихой беды нарастало лавинообразно и за последние полгода неминуемо стало постоянным её спутником. В своей неизбежной неотвратимости беда надвигалась злой волной-цунами, грозила сплющить чёрной массой, подпирала безысходностью и страхом.
Раз за разом мать перечитывала письма сына, невольно сличая знакомые тексты. Обнаруженные неожиданно однообразие и похожесть фраз, а то и явное противоречие в повторных описаниях событий, да и замеченная путаница в именах ещё более взволновали и насторожили.
Она вновь и вновь механически пересматривала давно вызубренные до запятой, исписанные неровным почерком листочки и однажды всё-таки сумела высмотреть незамеченный ею раньше слабый оттиск пальца на одном из последних писем. Мать напряжённо, до острой рези в глазах, всматривалась в тот обнаруженный отпечаток, пытаясь в еле уловимом рисунке угадать нечто до боли знакомое – сыновье… Она, по-собачьи чутко втягивая носом воздух, обнюхала то пятнышко, и ей даже почудилось, что ясно сумела уловить горький запах гари и дыма, отличить и тревожный запах палёного, вычленить парной запах сырой крови…