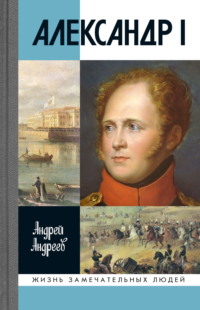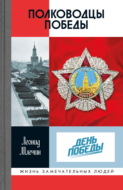Kitabı oxu: «Александр I»
Надобно мне попытаться сделать мое отечество свободным, затем чтобы впредь никогда не становилось оно игрушкой в руках безумцев.
Великий князь Александр Павлович, 1797 г.
Ура, наш царь! так! выпьем за царя.
Он человек! им властвует мгновенье.
Он раб молвы, сомнений и страстей;
Простим ему неправое гоненье:
Он взял Париж, он основал лицей.
А. С. Пушкин, «19 октября», 1825 г.

Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким

Выпуск 2086

© Андреев А. Ю., 2025
© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2025
Предисловие
В ноябре 1825 года в городе Таганроге, что лежит на юге Российской империи, на берегу Азовского моря, наблюдали необычайное небесное явление. Над городом зажглась новая звезда. Она сияла каким-то странным зеленоватым светом и была ярче всех остальных на небосводе. Смотревшие вверх люди осеняли себя крестным знамением и думали о том, что означает сей Божий знак, – а в памяти всплывала комета двенадцатого года, возвестившая для России войну и разорение от вражеской орды, пришедшей с Запада.
Потом звезда внезапно упала. Некоторые уверяли, что слышали при этом негромкое шуршание и треск, а также звук, описать который едва ли могли, настолько он был непривычен – его можно было бы сравнить с легким «п-пах», с которым лопаются мыльные пузыри, но вот только почему-то возникала от него дрожь по всему телу и безотчетный ужас. А иные из смотревших в небо добавляли, что звезда не только упала, но и вознеслась потом обратно, да так, что стала быстро гаснуть и совсем исчезла спустя лишь недолгое время…
Тем же вечером в Таганроге Александр I вышел на прогулку в сад одноэтажного дома с тринадцатью окнами по фасаду вдоль Греческой улицы, где император тогда жил со своей супругой. Вечерние моционы давно стали его извечной привычкой, которой он не пренебрегал никогда, несмотря ни на какую погоду. Царь шел вдоль рядов увядающих фруктовых деревьев, и под стать унылому осеннему пейзажу его настроение тоже сделалось меланхолическим. Мысли о том, что ждет Россию в ближайшем будущем, часто посещавшие тогда Александра, вернулись к нему. Он твердо знал, что его царствование закончилось, но еще не знал, каким будет его конец. И с этими мыслями вновь вернулся липкий, скользкий страх, который он переживал уже много недель подряд: страх обернуться и увидеть того, кто за спиной бесшумно крадется к нему. Заговорщика. Убийцу. Превозмогая этот страх, царь почувствовал, что просто обязан сейчас бросить взгляд назад – с огромным усилием воли он сделал это и убедился, что там никого не было.
Александр, правда, не заметил, как колышутся кусты у дальней ограды сада (в них действительно полз человек, но в нашем рассказе он покамест не появится). Внимание царя отвлекла ярко сиявшая в небе над ним зеленая звезда. Ее свет усиливался и вдруг залил весь сад. В облаке газов, истекавших из тормозных двигателей, на прогалину опускалась летающая тарелка. Сидевшие в ней гуманоиды (уродцы, типичные греи в скафандрах с антеннами), очевидно, уже какое-то время наблюдали за царем сверху и вот решили наведаться к нему. От нестерпимого сияния Александр зажмурил глаза, а потом невольно сделал шаг вперед… В ковер из опавших листьев вдруг уперлись два столпа холодной плазмы. Корабль пришельцев взмыл вверх, чтобы там, в бескрайнем космосе, догнать комету двенадцатого года. На месте, где только что стоял император (а в том могли поклясться несколько следивших за ним в саду очевидцев), больше никого не было – лишь ветер там раздувал листву. Дул сильный ветер в Таганроге, обычный в пору ноября…
Надеюсь, что проницательный читатель уже догадался: это был слегка приукрашенный пересказ сюжета поэмы «Струфиан» (недостоверная повесть о похищении Александра I инопланетянами), которую замечательный советский поэт Давид Самойлов написал в 1974 году. Поэма стилизована под анекдот, причем сразу в двух культурных традициях – анекдот, то есть рассказ о замечательном происшествии, в смысле пушкинского времени, и столь распространившиеся в советскую «застойную эпоху» кухонные разговоры о летающих тарелках, в духе любимой тогда телевизионной передачи «Очевидное-невероятное». Шуточный сюжет и иронический тон поэмы вовсе не помешал (а скорее наоборот, способствовал) тому, что Самойлов вложил в нее немало серьезных мыслей, актуальных для тогдашних споров в среде советской творческой интеллигенции1. Будучи тонким знатоком пушкинской эпохи, поэт, с одной стороны, подошел к ее изображению максимально исторично, но, с другой стороны, обобщал на примере Александра I свои собственные излюбленные размышления о природе верховной власти, которая управляет страной (независимо от того, как та называется – Российская империя или Советский Союз):
У нас цари, цареубийцы
Не знают меж собой границы
И мрут от одного питья…
Ужасно за своим плечом
Все время чуять тень злодея…
Быть жертвою иль палачом…
Поэтому мотиваций, чтобы написать эту, казалось бы, совершенно несерьезную поэму-анекдот, у Самойлова было предостаточно. Но нас будет интересовать ее другой аспект. Почему Александр I в сознании поэта так легко соединился с советским уфологическим фольклором? Означает ли это, что Александр I превратился для советской, а затем и российской интеллигенции в фольклорного персонажа? С одной стороны, опыт последующих пятидесяти лет, прошедших после создания «Струфиана», скорее свидетельствует об обратном. Александру I очень далеко в сознании русского общества до того места, которое в нем заняли Иосиф Виссарионович Сталин и царь Иван Васильевич Грозный2 (а если брать исключительно анекдоты, то – Леонид Ильич Брежнев или Василий Иванович Чапаев). Значительно обогнал Александра по «близости к народу» и Петр I, который за последнее время заметно продвинулся вперед благодаря культуре мемов и стал уже прочно ассоциироваться со Шреком, построившим свой дом на болоте3.
С другой стороны, восприятие Александра I в отечественном общественном сознании остается глубоко мифологическим, а именно – на первый план с неизбежностью выступает «миф об уходе», то есть фольклорная интерпретация событий в Таганроге в ноябре 1825 года. Она допускает множество вариаций, но при этом содержит и ряд констант4. Был ли Александр в Таганроге захвачен заговорщиками? Или отравлен? Или – как уверены большинство читателей – ушел пешком странствовать по России? А может быть, принял постриг так же, как несколько месяцев спустя (в логике того же мифа) это сделала и его супруга-императрица? А может, его все-таки похитили пришельцы, ведь не мог же такой крупный поэт, как Давид Самойлов, написать целую поэму, не основываясь на каких-то реальных, но тщательно скрываемых фактах? Последняя версия уже после выхода в свет «Струфиана» вошла в некоторые художественные или околонаучные произведения (в этой связи хочется напомнить об очаровательном и, на мой взгляд, незаслуженно забытом советском детском фильме «Если верить Лопотухину…», снятом в 1983 году Михаилом Козаковым). Константой при этом является идея о подмене тела царя на похоронах (с чисто фольклорными – то есть не имеющими никаких документальных подтверждений – ссылками на данные о вскрытии большевиками в 1921 году гробницы Александра I, где его тело якобы отсутствовало) и, конечно же, самое ядро мифа – фигура сибирского старца Федора Кузьмича, проживавшего в Томске до 1860-х годов, который якобы и был ушедшим с престола (спасшимся от заговорщиков и т. д.) императором Александром I. Старец тщательно оберегал свою тайну при жизни, а перед смертью спрятал признание в небольшой холщовый мешочек: на двух бумажных лентах располагались зашифрованные буквы и цифры, в которых желающие угадывали (и до сих пор угадывают) имена Павла I, Александра I и даже его брата Николая I, по вине которого, согласно одной из версий, Александр был «без совести сослан» и затем претерпевал страдания.
Ниже в книге еще будут указаны основные этапы складывания этого мифа. Здесь же для нас важно зафиксировать, насколько он оказался устойчивым, пережил не только ту эпоху, что породила мифологическое восприятие Александра I (которое, безусловно, отражало элементы народной социальной утопии XIX века по отношению к российскому самодержавию), но и совершенно иное по социальному и культурному контексту советское время – в этот период историки внешне очень мало интересовались личностями самодержцев и уж совершенно точно не были склонны распространять сложившиеся о них мифы. Однако легенда об уходе Александра I не только выжила, но и расцвела новым пышным цветом после крушения СССР, когда любые сведения о российских императорах приобретали в обществе прелесть вновь открываемого знания, об источниках которого никто не задумывался. В 1990-х и особенно в 2000-х годах вышли десятки публикаций, посвященных разгадке тайны Александра I – Федора Кузьмича; были сняты документальные и художественные фильмы; материалы на эту тему, составленные обычно путем простого копирования некоторого количества цитат из дореволюционных трудов, заполонили тогда интернет (который, как известно, все помнит). В этом потоке среди голосов явных шарлатанов от науки можно было различить и высказывания серьезных ученых, которые сочувствовали легенде и вносили свой вклад в ее распространение. И только в последние десять лет вал публикаций по данной теме начал спадать, и это не замедлило положительно сказаться на ее научных перспективах: сейчас «миф об Александре I» сам по себе наконец превращается в предмет для исследования.
В этой связи стоит отметить еще одно значение поэмы «Струфиан»: Давид Самойлов стал первым, кто осуществил ироническую деконструкцию «александровского мифа». Действительно, в его изложении Федор Кузьмич оказывается казаком из Таганрога, которому вздумалось подать императору челобитную под названием «Благое намеренье об исправленье Империи Российской». Для этого через известную ему дыру в заборе он проползает в сад, где гуляет Александр, и там становится свидетелем необычайного похищения, после чего, слегка повредившись в уме, все время твердит слова: «Крылатый струфиан» (церковнославянское название страуса), которые и можно – при большом желании – разобрать на бумажных лентах, оставшихся после томского старца. То есть Александр I никуда не уходит скитаться – да и не может уйти по всему смыслу нарисованного Самойловым его бессильного характера; жизнь Федора Кузьмича абсолютно случайно соединяется с биографией Государя, а сама причина возникновения тайны – летающая тарелка с пришельцами – невероятна и абсурдна.
Итак, поэт позднего советского времени, глубоко погруженный в контекст русской истории и культуры первой четверти XIX века и благодаря этому заинтересовавшийся «александровским мифом», уже тогда почувствовал необходимость его деконструкции. На базовом смысловом уровне его поэмы (а таких уровней, повторю, было несколько, и отнюдь не все они относились к событиям прошлого) утверждалась абсурдность самой тайны, сложившейся вокруг российского самодержца. Тем не менее этот миф живет и прекрасно чувствует себя до сих пор. Признайтесь себе, разве вам не хотелось узнать, а точно ли Александр I тихо скончался на окраине Российской империи и не было ли здесь подмены и его посмертного существования? Не за этим ли вы открыли сейчас эту книгу? Но эти вопросы влекут за собой и последующий – почему читающую публику в ее абсолютном большинстве привлекает именно мифологический сюжет об Александре I, почему столь же весомой притягивающей силой не обладают биографические черты «реального Александра» как правителя-реформатора, победителя Наполеона, освободителя Европы, творца новых политических систем, наконец, просто как человека?
Ответ на последний вопрос очень сложен, поскольку требует определения того, что же такое реальный Александр. Чтобы понять всю сложность этого, пора сделать еще одно признание: не только смерть Александра I, но и все ключевые эпизоды жизни императора насквозь мифологизированы. И с позиций исторической науки это как раз очень понятно: ключевой проблемой здесь являются исторические источники и их конкретное использование применительно к биографии Александра I. В большинстве значимых ситуаций мы смотрим на нашего героя чужими глазами, в которых он отражается – причем именно так, как хочет того человек, описывающий события. Иными словами, мы почти всегда видим не Александра I, а лишь его субъективно нарисованный образ, такой, какой желали увидеть, а потом и донести до потомков окружавшие его люди, – а помимо этих картин о самом Александре нам известно не так уж и много.
В отличие от других российских самодержцев Александр I не оставил ни дневников, ни какого-либо развернутого регулярного эпистолярия (каким, например, для его бабки Екатерины II служила ее переписка с бароном Фридрихом Мельхиором фон Гриммом). Конечно, есть весьма значительная по объему переписка Александра I (с матерью, с сестрами, со своим воспитателем Фредериком-Сезаром Лагарпом и еще несколькими близкими к царю людьми), но практически всегда письма самого Александра здесь занимают куда меньшее место, нежели письма его корреспондентов, к тому же в том, что пишет Александр, срабатывает тот же «эффект отражения» – император блестяще владеет техникой сообщать собеседнику ровно то (и только то!), что тот хотел бы от него услышать. По-настоящему важных писем, значимых для понимания характера российского самодержца, оказывается среди них совсем немного.
Что же касается мемуаров об Александре I, то наиболее яркие и часто используемые из них представляют собой не что иное, как литературную игру – о которой словно бы не догадывается уже не одно поколение историков, доверчиво черпающее оттуда описания, изречения, личные оценки императора при создании его исторического портрета. Поясню это на нескольких примерах.
Вот один из крупнейших современных специалистов, написавший биографию Александра I (едва ли не последнюю из опубликованных к настоящему времени), начинает пролог своей книги описанием переживаний, которые тот испытывал сразу после вступления на престол вследствие убийства его отца, императора Павла I:
Новый император шел медленно, колена его как будто подгибались, волосы на голове были распущены, глаза заплаканы, смотрел прямо перед собою, редко наклонял голову, как будто кланялся; вся поступь его, осанка изображали человека, удрученного горестию и растерзанного неожиданным ударом рока.
Эта красочная цитата принадлежит Якову Ивановичу де Санглену5, о котором в историографии принято отзываться с почтением, памятуя, что он возглавлял при Александре I некое подобие высшей тайной полиции, а потому его свидетельства являются особенно ценными. Но, во-первых, во главе особой канцелярии Министерства полиции Санглен пробыл всего два года, с 1810-го по 1812-й, и успел за это время по собственной инициативе встрять в более чем темные дела. А во-вторых, куда больше, чем своей полицейской службой, Санглен сумел прославиться благодаря мемуарам, которые создавал в конце 1850-х – начале 1860-х годов. Уже в тот период большого оживления в русском обществе в канун и при самом начале эпохи Великих реформ историки вовсю занимались сбором разнообразных сведений о царствовании Александра I. Разменявший девятый десяток Санглен, переживший всех и вся, объявил себя тогда единственно верным свидетелем и хранителем истины об Александре. Он взялся за свое сочинение, обладая незаурядным литературным талантом и еще в молодости овладев стилем и образностью немецких романтиков (в особенности Фридриха Шиллера, перед которым преклонялся). Им была создана целая новая концепция образа мыслей и действий Александра I – причем настолько убедительная, что она практически слово в слово перешла затем в хрестоматийные биографические труды о российском императоре, созданные в конце XIX – начале XX века. При этом главной целью, с которой Санглен создавал такой портрет, являлось всячески умалить или оставить в тени свои собственные неприглядные поступки (обо всем этом подробнее пойдет речь дальше в книге).
Тем самым образ Александра I, проходящий красной нитью через весь текст «Записок» де Санглена, был сконструирован по законам романтической литературы, а не истории. Сказать, что он недостоверен, мало: Санглен сознательно искажал слова, поступки, а иногда даже события и даты, связанные с Александром I. Да и потом, задумаемся на секунду – можно ли спустя шестьдесят лет вспомнить, какая прическа была на голове у Александра в марте 1801 года? А подобный вопрос годится и для большинства прочих мемуаров. Другой, куда более «добросовестный» в сравнении с де Сангленом мемуарист – князь Адам Чарторыйский (хотя, несомненно, отягощенный своими собственными политическими интересами, коих у него было немало) – вспоминает, какая погода стояла в тот день, когда он впервые лично познакомился и подружился с юным великим князем Александром Павловичем. Вспоминает также спустя шесть десятков лет после этого события! И притом, как известно, не просто вспоминает, а рассказывает об этом своему секретарю, который занимался литературной обработкой его воспоминаний. Конечно, память способна на многое, но все-таки в деталях – а именно их нам в изобилии предоставляют мемуары! – следует усомниться. По сути, использование этих деталей ничем не отличается от описания плазменных двигателей летающей тарелки в Таганрогском саду (ведь вы же поверили, правда?).
Одним словом, как это ни грустно, но ничего из той образной картины, которая столь убедительно была нарисована в вышеприведенной цитате, в действительности не было. И если руководствоваться строгими правилами исторической науки, то приводить ее в академической биографии Александра I нельзя. А надеяться – «а вдруг оно все-таки так и было?» – как раз и означает подмену научного исследования логикой мифа, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Позвольте привести еще два примера из той же области. В марте 1812 года Александр I внезапно отправляет в отставку Михаила Михайловича Сперанского, и это порождает еще один миф с разнообразными трактовками, вплоть до самой радикальной – об окончательном разрыве Александра в этот момент с курсом на реформы в России. Нас сейчас интересует лишь самый конец разговора императора и опального государственного секретаря. Вот как обычно описывают его историки (да и, что греха таить, я сам зачастую так делал на лекциях перед студентами): Сперанский вышел из кабинета царя в беспамятстве, весь залитый слезами, и пытался уложить бумаги, которые еще держал в руках, в свой портфель. В это время на пороге кабинета появился Александр I, на лице которого также были слезы, и он произнес: «Прощайте, Михайло Михайлович! Мы с вами еще поработаем вместе» (меж тем уж были готовы сани, чтобы увезти Сперанского из Петербурга в ссылку).
Сцена эта впервые появляется в биографии Сперанского, написанной бароном Модестом Андреевичем Корфом и вышедшей в свет в 1861 году6. Из указаний Корфа выясняется, что ему все это описал в личном разговоре генерал от кавалерии граф Павел Васильевич Голенищев-Кутузов, с которым барон мог встречаться в начале 1840-х годов, когда только начал работу над биографией. В качестве дежурного генерал-адъютанта Голенищев-Кутузов действительно находился 17 марта 1812 года в приемной императора и, следовательно, мог стать очевидцем того, как Александр I прощался со Сперанским, поэтому, казалось бы, эта сцена заслуживает всяческого доверия и должна быть воспринята всерьез при анализе различных интерпретаций отставки. Вот только у нее был – точнее, должен был быть – еще один очевидец! Дело в том, что в приемной императора, ожидая аудиенции, в то же самое время находился и обер-прокурор Святейшего синода князь Александр Николаевич Голицын, который также охотно потом делился своим рассказом о том, что видел, и эти рассказы были зафиксированы не только Корфом, но и несколькими мемуаристами в 1820-х годах, то есть гораздо ближе к описываемым событиям. Однако ни в одной из версий рассказа Голицына нет ни слова о появлении Государя в приемной и о его последних словах, обращенных к Сперанскому, – лишь подчеркивается подавленное состояние последнего (но вовсе не до степени «беспамятства»). Так было ли столь порывистое и трогательное прощание царя и его ближайшего помощника, говорил ли Александр эти последние слова, которые свидетельствовали о его готовности продолжать реформы? Да или нет? Правильный ответ – не знаю. По крайней мере в деталях описания, сделанного Голенищевым-Кутузовым спустя тридцать лет, опять-таки можно усомниться – и не стоит забывать, что речь вообще идет об устном рассказе, записанном Корфом также по памяти, а значит, с неизбежными искажениями.
И, наконец, еще одна хрестоматийная фраза Александра I, вошедшая во многие его биографии: «Пожар Москвы озарил мою душу и суд Божий на ледяных полях наполнил мое сердце теплотой веры, которую оно до того никогда не ощущало». Сколько в ней важных смыслов для понимания религиозного переворота в душе Александра I – каким образом на него подействовала Отечественная война 1812 года, как победу над Наполеоном он напрямую приписывает промыслу Божьему, и почему из этих мыслей непосредственно рождается идея Священного союза. Но произнес ли он на самом деле эти слова? Да или нет?
Путем довольно трудоемких поисков выясняется, что источником этой фразы служит немецкая книга евангелического епископа Рулемана Фридриха Эйлерта «Характерные черты и исторические фрагменты из жизни короля Пруссии Фридриха Вильгельма III»7. Автор ссылается здесь на разговор с императором Александром I в Потсдаме, который состоялся 20 сентября 1818 года и который Эйлерт якобы тут же записал слово в слово, так что при создании своих мемуаров в 1840-х годах ему ничего не оставалось, как только переписать его туда. Что ж, как говорится, похвально; неужели перед нами редкий пример «добросовестного мемуариста»? Но стоит чуть-чуть вчитаться в текст мемуаров, и эта иллюзия развеивается. Сперва бросаются в глаза мелочи: например, Эйлерт пишет, что Александр I был глух на правое ухо, тогда как в действительности, как хорошо известно, – на левое. Или простейший вопрос: а на каком языке происходил разговор? Опять-таки, согласно Эйлерту, епископ посетовал, что плохо говорит и понимает по-французски, тогда Александр I перешел на немецкий язык, также признаваясь, что не в достаточной мере им владеет и будет вставлять в разговор французские выражения (это – абсолютная правда, Александр I учил немецкий язык в юности и в какой-то степени знал его, но у него совершенно отсутствовала разговорная практика на этом языке, да и она ему не требовалась, поскольку во время его пребывания за пределами России все кругом говорили на французском как основном языке дипломатии XIX века). Если это так, то мог ли он составить по-немецки столь риторически красивую фразу с яркими метафорами и контрастами («пожар озарил душу», «ледяные поля – теплота веры» и т. д.)? Но окончательно подрывает доверие к мемуаристу следующий факт, выясняющийся из внимательного чтения текста: поводом к разговору, как подчеркивает епископ, является произнесенная им накануне проповедь, когда он вместе с Александром I присутствовал при закладке в Берлине на горе Темпельгоферберг (ныне Кройцберг) так называемого «Национального памятника освободительным войнам» – высокой, увенчанной крестом готической башни. Эта проповедь настолько понравилась Александру, что тот захотел получить ее русский перевод, чтобы потом «раздать ее каждому солдату». Памятник действительно был заложен в 1818 году, а открыт и освящен лишь в марте 1821 года. Эйлерт полностью приводит в мемуарах текст своей проповеди, говоря дальше, что Александр I процитировал его в их разговоре – но из содержания проповеди выясняется, что она относится не к закладке, а к освящению памятника! «Добросовестный немец» даже не скрывает этого: он признает, что «объединяет два праздника в единое целое». Может быть, память подвела епископа и его разговор с царем состоялся в 1821 году? Нет, в марте того года Александр I был далеко от Берлина, в Лайбахе, то есть они могли встречаться только в 1818 году, но тогда не могли обсуждать освящение памятника и цитируемую проповедь. Из-за этого фактического несоответствия вся начальная часть их разговора лишается смысла – а тогда чего же стоит продолжение?
Епископ Эйлерт являлся крупным евангелическим богословом своего времени, ему важно было дать интерпретацию религиозным идеям Священного союза через внутренние движения души российского самодержца, используя для того весьма распространенную в протестантском богословии концепцию внезапного «обращения» – обретения веры под действием каких-то внешних, иногда даже случайных обстоятельств, которые после того трактуются промыслительно. Но с точки зрения исторической науки Эйлерт выступил в типичной роли «мифотворца» – и, как видим, небезуспешно, судя по тому, что написанные им слова уже много десятилетий подряд используются как прямая речь Александра I.
Итак, я надеюсь, приведенные примеры убедительно показывают, что биографию Александра I нельзя сочинять, отдаваясь на волю накопленной мифологии о российском императоре – пусть даже к этому подталкивают и значительное количество мемуарных источников, и даже определенная традиция прежних биографий. В конечном счете, это личный выбор автора книги: писать ли о «летающих тарелках» (а это ведь так легко и приятно!) или искать, прорываться к тому Александру, каким он все-таки был, а не казался.
Должен повторить: это сложная работа, и, быть может, результаты поисков не утешат, а скорее разочаруют. Что делать: ремесло историка – это вообще довольно грустная вещь. Перед тобой открываются вновь и вновь – в разном антураже исторических эпох, но при неизменном постоянстве человеческих характеров – несбывшиеся планы и надежды, ошибки и заблуждения, которые дорого стоят окружающим людям, нежелание или неумение что-то изменить вокруг себя, фальшивые цели, ложные кумиры. Из-за этого победы превращаются в поражения, мир сменяется войной, а из бесконечной череды бегущих по кругу событий не видно выхода. Но иногда бывает человек (и, кажется, один на целое поколение!), которому небезразличен его народ и он умеет к нему обращаться, который не стремится к власти ради нее самой, который любит истину и справедливость и, даже преследуя врагов, проявляет великодушие и опирается на закон – закон, который он искренне почитает, а не подстраивает под себя. Так был ли Александр I таким единственным в своем роде монархом – и, может быть, даже лучшим правителем за всю историю России?
Об этом, я надеюсь, мы поразмышляем вместе. Впереди много рифов и подводных течений, но читатель предупрежден! А теперь – в путь…