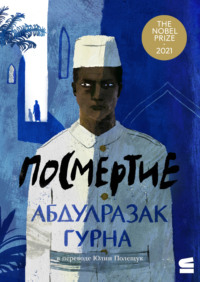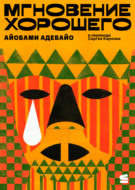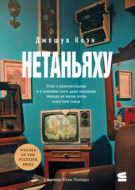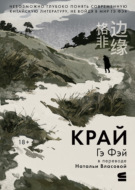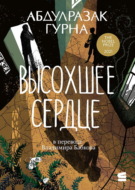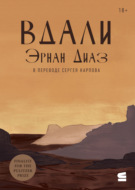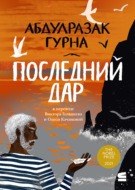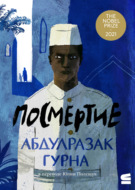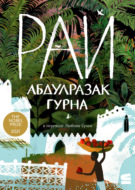Kitabı oxu: «Посмертие»

Один
1
C купцом Амуром Биашарой Халифа познакомился в двадцать шесть лет. Он тогда работал в маленьком частном банке, принадлежавшем двум братьям-гуджаратцам. Только частные банки индийцев и соглашались иметь дело с местными купцами, приспосабливались к их порядкам. Большие банки требовали вести бухгалтерию, давать им гарантии, обеспечивать безопасность, местным же дельцам это не подходило: они объединялись в невидимые глазу содружества и товарищества. Братья взяли на работу Халифу, потому что его отец приходился им родственником. Пожалуй, родственником – громко сказано: просто его отец тоже был из Гуджарата, а в некоторых случаях это уже родство. Мать Халифы была простая деревенская женщина. Отец познакомился с ней, когда работал у крупного индийского землевладельца на ферме в двух днях езды от города, где он провел почти всю свою взрослую жизнь. Халифа не был похож на индийца – по крайней мере, на такого индийца, к каким привыкли в этой части света. Носом, цветом волос и лица он пошел в мать-африканку, но любил упоминать о своем происхождении – разумеется, когда ему это было выгодно. Да-да, мой отец индиец. По мне и не скажешь, верно? Он женился на моей матери и хранил ей верность. Некоторые индийцы развлекаются с африканками, а потом бросают их и выписывают себе невесту-индианку. Мой отец не бросил мать.
Отца его звали Касим, он родился в гуджаратской деревеньке, где бок о бок жили бедняки и богачи, индусы и мусульмане, даже эфиопы-христиане. Родители Касима были бедные мусульмане. Он рос прилежным мальчиком, привычным к трудностям. Его отправили в деревенское медресе, потом в государственную школу, где обучение велось на гуджарати; находилась школа в соседнем городке. Отец Касима был сборщиком налогов, по долгу службы разъезжал по всей стране; это он решил отправить Касима учиться, чтобы впоследствии тот тоже стал сборщиком налогов или кем-то не менее уважаемым. Отец с ними не жил. Наезжал проведать раза два-три в год. Мать Касима ухаживала за ослепшей свекровью и пятью детьми. Касим был старший, у него были младший брат и три сестры. Две сестры, самые маленькие, умерли в младенчестве. Время от времени отец присылал им денег, но они привыкли рассчитывать только на себя и брались за любую работу, какую можно было найти в деревне. Когда Касим подрос, учителя гуджаратской школы посоветовали ему сдать экзамен и поступить в английскую среднюю школу в Бомбее; после этого его жизнь изменилась к лучшему. Отец и кое-кто из родственников ссудили его деньгами, чтобы на время учебы он снял себе в Бомбее жилье поприличнее. В конце концов Касим устроился неплохо: поселился в семействе школьного друга, и тот вдобавок помог ему найти учеников. Те скудные анны1, что Касиму удавалось заработать, приходились очень кстати.
Вскоре после окончания школы Касиму предложили должность счетовода у землевладельца на побережье Африки. Касим не верил своему счастью, ведь ему выпала возможность и денег заработать, и мир посмотреть. Предложение передали через имама его родной деревни. Далекие предки землевладельца происходили из той же деревни и, когда им требовался счетовод, нанимали его из числа бывших земляков, чтобы получить преданного и зависящего от них работника. Каждый год во время поста Касим отправлял имаму родной деревни определенную сумму, которую хозяин удерживал из его жалованья, а имам передавал деньги его семье. В Гуджарат Касим уже не вернулся.
Вот что отец рассказывал Халифе о своем трудном детстве. Он рассказывал ему об этом, потому что так принято, а еще потому что хотел, чтобы сын его стремился к лучшей жизни. Он учил его читать, писать латинскими буквами, преподал ему азы арифметики. Когда Халифа чуть подрос (ему было лет одиннадцать), отец отправил его в соседний городок к частному учителю, который научил мальчика математике, счетоводству, простым английским словам. Такие обычаи и замыслы Касим вывез из Индии, однако сам не воплотил в жизнь.
У своего учителя Халифа был не единственным учеником. Их было четверо, все индийцы. Жили они в доме учителя – спали под лестницей, там же ели. Наверх им путь был заказан. Занимались в комнатушке с циновками на полу и зарешеченными окнами под самым потолком – слишком высоко, не выглянешь, – однако ученики все же чуяли запах проходившей за домом сточной канавы. После уроков учитель запирал классную на замок и вообще относился к ней как к святилищу: утром перед уроками они должны были подметать комнатку и вытирать в ней пыль. Учились они обычно с утра и после обеда, пока не стемнеет. Днем учитель ложился подремать, а по вечерам занятий не было, поскольку он берег свечи. В свободное время мальчики подрабатывали на рынке или на берегу или просто слонялись по улицам. Халифа и не подозревал, с какой ностальгией впоследствии будет вспоминать эти дни.
Заниматься с учителем он начал за год до того, как в город пришли немцы, и всего проучился пять лет. То было время восстания Бушири2: купцы, как арабы, так и суахили, торговавшие на побережье и ходившие с караванами, возмутились, когда Германия предъявила права на эти земли. Немцы, британцы, французы, бельгийцы, португальцы, итальянцы и бог знает кто еще, посовещавшись, начертили карты и подписали договоры, так что протесты были обречены. Полковник Висман с недавно организованной шуцтруппе3 подавил восстание. Через три года после поражения восстания Бушири, когда Халифа завершал обучение, немцы затеяли новую войну, на этот раз далеко на юге, с вахехе4. Эти тоже не стремились признавать власть Германии и оказались куда упрямее Бушири: нанесли неожиданно тяжелые потери шуцтруппе, а та отплатила им решительно и жес-токо.
На радость отцу, Халифа оказался способным к чтению, письму и счетоводству. Тогда-то по совету учителя отец и написал братьям-банкирам из Гуджарата, которые вели дела в том же городке. Черновик письма сочинил учитель, отдал Халифе, чтобы он отнес его отцу. Тот переписал его своею рукой, с попутной телегой вернул учителю, а он передал письмо банкирам. Никто не сомневался, что хлопоты учителя непременно обернутся успехом.
Досточтимые господа, писал отец, не найдется ли для моего сына местечка в вашей уважаемой фирме? Мальчик он трудолюбивый и талантливый, пусть пока и неопытный, умеет писать латинскими буквами, вести счета, немного понимает по-английски. Он будет благодарен вам до конца своих дней. Ваш покорный брат из Гуджарата.
Лишь через несколько месяцев они получили ответ, и то потому, что учитель наведался к братьям и ради своей репутации лично попросил за ученика. В письме говорилось: присылайте его сюда, посмотрим, на что он способен. Если все сложится хорошо, мы дадим ему работу. Гуджаратские мусульмане должны помогать друг другу. Если мы не позаботимся друг о друге, кто же о нас позаботится?
Халифе хотелось поскорее уехать из дома родителей в поместье землевладельца, у которого его отец служил счетоводом. Дожидаясь ответа братьев-банкиров, он помогал отцу: записывал жалованье, принимал заказы, вел перечень расходов и выслушивал жалобы людей, которым не мог помочь. Обрабатывать землю было трудно, платили работникам мало. Жили они в нищете, часто болели – то лихорадкой, то еще чем-нибудь. Чтобы как-то прокормиться (еды, что им выдавали, не хватало), работники обрабатывали выделенные им клочки земли. Мариаму, мать Халифы, выращивала помидоры, шпинат, окру и батат. Огородик ее располагался по соседству с хижиной; порой эта жалкая жизнь наводила на Халифу такое уныние и тоску, что он скучал по суровым годам, проведенным в доме учителя. И когда наконец пришел ответ от братьев-банкиров, он уехал с нетерпением, дав себе слово непременно у них закрепиться. Он провел там одиннадцать лет. Если их поначалу и удивила его внешность, то они ничем этого не обнаружили и ни словом не обмолвились Халифе, хотя кое-кто из их клиентов-индийцев и отпускал замечания. Нет-нет, он наш брат, гуджи, как и мы, отвечали братья-банкиры.
Он был простым клерком, вписывал цифры в ведомость и вел учет. Других заданий ему не давали. Наверное, не вполне доверяли, думал он, ну да в денежных и коммерческих вопросах иначе и не бывает. Братья Хашим и Гулаб были ростовщиками, как все банкиры (так они сказали Халифе). Но, в отличие от крупных банков, у них не было клиентов с личными счетами. Братья были почти ровесники и очень похожи: коренастые, улыбчивые, широкоскулые, с аккуратно подстриженными усами. Горстка людей, в основном коммерсантов из Гуджарата, отдавала им на хранение лишние деньги, а братья одалживали их под проценты местным купцам и торговцам. Каждый год в день рождения Пророка они устраивали мавлид5 в саду своего особняка, читали молитвы и раздавали пищу всем пришедшим.
Халифа проработал у братьев десять лет, когда к нему с предложением пришел Амур Биашара. Халифа знал Амура Биашару: тот вел дела с банком. Как-то раз Халифа по случаю сообщил ему сведения (братья не знали, что он знает) о комиссии и процентах: это помогло Амуру Биашаре заключить более выгодную сделку. Амур Биашара заплатил Халифе за информацию. Подкупил его. Взятка была невелика, да и выгоду Амур Биашара извлек незначительную, но купец старался поддерживать репутацию человека, готового ради наживы вцепиться в глотку любому, и не брезговал темными делишками. Незначительность взятки позволила Халифе побороть чувство вины за то, что предал хозяев. Он сказал себе, что таким образом изучает, как ведут дела, а для этого необходимо знать и окольные пути.
Через несколько месяцев после того, как Халифа вступил в сговор с Амуром Биашарой, братья решили перенести банк в Момбасу. В те годы как раз тянули железную дорогу от Момбасы в Кисуму и старались привлечь европейцев в Британскую Восточную Африку, как ее тогда называли. Братья рассудили, что в Момбасе перед ними откроются широкие перспективы, – и они не единственные из индийских ремесленников и коммерсантов так решили. В то же самое время Амур Биашара расширял свое дело и взял Халифу в секретари, поскольку тот умел писать латиницей, а Амур не умел. Торговец полагал, этот навык ему приго-дится.
Немцы тогда уже навели порядок в Германской Восточной Африке (по крайней мере, им так казалось). Они подавили восстание Бушири, протесты и сопротивление караванщиков на побережье. Самого Бушири захватили в плен и повесили в 1888 году. Шуцтруппе, армия африканских наемников-аскари под командованием полковника Висмана и офицеров-немцев, в те годы состояла из солдат-нубийцев, некогда служивших британцам в борьбе с махдистами6 в Судане, и рекрутов-тсонга (шангаан) из Португальской Восточной Африки. Немецкие власти превратили казнь Бушири в спектакль – как многие и многие последующие казни. В крепости в Багамойо, одной из цитаделей Бушири, устроили германский командный пункт: чем не символ порядка. Прежде Багамойо был конечной остановкой торговых караванов и самым оживленным портом в этой части побережья. Завоевав и удержав его, немцы наглядно продемонстрировали власть над своей колонией.
Правда, им еще многое предстояло сделать, и, продвинувшись вглубь континента, они встретили немало племен, не желавших становиться подданными Германии: ваньям-вези7, вачагга, меру; больше всего беспокойства причиняли вахехе, обитавшие на юге. После восьми лет войны германцы наконец подавили сопротивление вахехе, разбили их наголову, сожгли дома, заморили людей голодом. Упиваясь победой, отрубили голову Мкваве, вождю вахехе, и отправили в Германию как трофей. Аскари шуцтруппе, в число которых к тому времени входили и рекруты из покоренных племен, превратились в умелую разрушительную силу. Они гордились репутацией головорезов – командиры и руководство Германской Восточной Африки любили их именно за это. Они не знали о восстании Маджи-Маджи8, готовом разразиться на юге и на западе примерно тогда же, когда Халифа перешел к Амуру Биашаре; это восстание стало самым ожесточенным из всех и подтолкнуло германцев с их армией аскари к еще бо́льшим зверствам.
В те годы германские власти вводили новые законы и правила торговли. Амур Биашара рассчитывал, что Халифа знает, как вести дела. Он рассчитывал, что Халифа будет читать указы и отчеты властей, заполнять налоговые и таможенные декларации. Все остальное купец делал самостоятельно. Он все время что-то придумывал, Халифа же делал что поручат и служил ему скорее помощником, нежели доверенным лицом, как надеялся сам. Порой Биашара о чем-то ему рассказывал, порой умалчивал. Халифа писал письма, ходил в государственные учреждения за разрешением на то и на это, собирал сплетни и информацию, носил подарки и прочее добро тем, кого купец желал задобрить. Халифа думал, что в целом купец полагается на него и его осмотрительность ровно настолько, насколько он вообще способен на кого-то полагаться.
Иметь дело с Амуром Биашарой было несложно. Невысокий, изящный, неизменно учтивый, любезный, Биашара ревностно и прилежно посещал городскую мечеть. Если с кем-то из братьев по вере случалось несчастье, он жертвовал на благотворительность и никогда не пропускал похороны соседей. Случайный прохожий принял бы его за смиренного и богобоязненного члена общины, но люди знали, каков он на самом деле, с восхищением обсуждали его разбойничьи повадки и баснословное богатство. Скрытность и бессердечность, с какими он управлял фирмой, считались неотъемлемыми качествами коммерсанта. Люди говаривали, что Биашара ведет дела, будто плетет интригу. Халифа считал, что Биашара, как пират, не гнушается ничем: ни контрабандой, ни ростовщичеством, ни избыточным накоплением того, что в дефиците, ни обычными делами, импортом того-сего. Он хватался за все, что пользовалось спросом. Все начинания держал в голове, поскольку никому не доверял – и поскольку некоторые его сделки лучше было хранить в секрете. Халифе казалось, что купцу нравится давать взятки и проворачивать аферы, что, тайком внося плату за желаемое, он проникается уверенностью в себе. Он вечно что-то высчитывал, оценивал тех, с кем имеет дело. Биашара казался кротким, при желании бывал добрым, но Халифа знал: тот способен на истинную жестокость. Проработав с торговцем несколько лет, Халифа понял, какое черствое у него сердце.
Итак, Халифа писал письма, давал взятки, собирал крупицы информации, какие случалось обронить Биашаре, и в целом был доволен жизнью. Халифа был прирожденный сплетник, умел и слушать, и сеять слухи, и Биашара не ругал его за то, что он проводит время за разговорами на улицах и в кафе, а не за письменным столом. Всегда лучше знать, что говорят, чем пребывать в неведении. Халифа предпочел бы активнее участвовать в делах фирмы и знать о них больше, но этому не суждено было случиться. Он даже не знал код от сейфа хозяина. Если ему требовался какой-то документ, приходилось просить Биашару его достать. Купец держал в сейфе уйму денег и никогда не открывал его дверцу настежь, если в кабинете был Халифа или кто-то из посторонних. Если же нужно было что-то достать, Биашара загораживал дверцу собою, чтобы никто не видел, какую комбинацию цифр он набирает на замке. А чуть-чуть приоткрыв дверцу, запускал руку внутрь, точно вор.
Халифа проработал у бваны Амура три года, как вдруг пришло известие о смерти матери. Мариаму было под пятьдесят, ее смерть застала Халифу врасплох. Он поспешил домой, к отцу, нашел его измученным и убитым горем. Халифа был единственным ребенком, но в последние годы почти не видел родителей и удивился, до чего ослаб отец. Он явно чем-то болел, но не мог сходить к лекарю и узнать, в чем дело. Доктора в округе не было, ближайшая больница находилась в том городке на побережье, где жил Ха-лифа.
– Что же ты мне ничего не сказал? Я бы приехал за тобой, – укорил отца Халифа.
Отец дрожал всем телом: он совсем обессилел. Работать он уже не мог, целыми днями сидел на крыльце двухкомнатной хижины в поместье хозяина и безучастно смотрел вдаль.
– Она меня одолела несколько месяцев назад, слабость эта, – ответил отец Халифе. – Сперва я думал, уйду первым, но твоя мать меня опередила. Закрыла глаза, уснула и не проснулась. И как мне теперь быть?
Халифа провел с ним четыре дня и по симптомам догадался, что у отца малярия. Его била лихорадка, желудок не держал пищу, белки пожелтели, в моче была кровь. Халифа по опыту знал, что в поместье кишат комары – значит, есть опасность заразиться. Он спал в одной комнате с отцом; руки и уши Халифы были в укусах. Утром четвертого дня он проснулся и увидел, что отец еще спит. Халифа не стал его будить, ушел в дальнюю комнату умыться и вскипятить воду для чая. Стоя над закипающим чайником, Халифа вдруг испугался, вернулся в комнату и понял, что отец не спит, а умер. Некоторое время Халифа смотрел на мертвого отца, такого морщинистого и худого (а ведь при жизни был силач и победитель). Он накрыл отца простыней и отправился в контору за подмогой. Тело перенесли в маленькую мечеть в деревне близ поместья. Там Халифа обмыл отца, как требовали обычаи, ему помогали служители, сведущие в ритуалах. Ближе к вечеру отца похоронили на кладбище за мечетью. Халифа пожертвовал скудные пожитки, оставшиеся от матери и отца, имаму мечети и попросил передать нуждаю-щимся.
Вернувшись в город, Халифа несколько месяцев чувствовал, что остался один в целом свете, неблагодарный, бестолковый сын. Чувство это стало для него неожиданностью. Он много лет жил вдали от родителей – сперва у учителя, потом у братьев-банкиров, теперь вот у купца – и ничуть не стыдился, что совсем их забросил. Их безвременная кончина стала трагедией, приговором ему. Он ведет никчемную жизнь в чужом для него городке, в стране, где не утихает война: регулярно сообщают об очередном восстании то на западе, то на юге.
Тогда-то Амур Биашара и завел с ним разговор.
– Ты у меня уже несколько лет… Кстати, сколько именно – три, четыре? – начал он. – И всегда поступал уважительно и разумно. Я это ценю.
– Я благодарен вам, – ответил Халифа, не понимая, прибавят ему жалованье или уволят его.
– Я знаю, что смерть родителей стала для тебя сильным ударом. Я видел, как ты горюешь. Да смилуется Господь над их душами. И поскольку ты не первый год служишь мне так преданно и смиренно, я считаю уместным дать тебе совет, – сказал купец.
– Я с радостью приму ваш совет, – ответил Халифа, догадываясь, что его не уволят.
– Ты мне как родной, и мой долг – направлять тебя. Тебе пора жениться, и, кажется, я знаю подходящую невесту. Одна моя родственница недавно осиротела. Девушка она благонравная, вдобавок унаследовала кое-какое имущество. Почему бы тебе не взять ее в жены? Я бы и сам женился на ней, – улыбнулся торговец, – но я доволен своей жизнью. Ты много лет служил мне верой и правдой: по трудам и на-града.
Халифа понял, что купец делает ему подарок и что от девушки тут ничего не зависит. Биашара назвал ее благонравной, но в устах расчетливого торговца это слово ничего не значит. Халифа согласился на предложение, поскольку считал себя не вправе отказать и потому что желал этой свадьбы, хотя порой его и охватывал страх, что нареченная окажется придирчивой и склочной, с неприглядными привычками. Они не видели друг друга ни до свадьбы, ни даже на свадьбе. Церемония была простая. Имам спросил Халифу, желает ли он взять в жены Ашу Фуади, Халифа ответил «да». Затем бвана Амур Биашара как старший родственник дал согласие от ее имени. Готово дело. После церемонии подали кофе, потом купец лично отвел Халифу в дом его жены и познакомил новобрачных. Этот дом и был тем имуществом, которое унаследовала Аша Фуади, вот только он ей не принад-лежал.
Аше было двадцать, Халифе тридцать один. Покойная мать Аши доводилась Амуру Биашаре родной сестрой. Взгляд Аши еще омрачала свежая утрата. Аша держалась угрюмо, на милом овальном личике не показывалась улыбка. Халифа влюбился в нее с первого взгляда, хотя и чувствовал поначалу, что она лишь терпит его объятия. Она не сразу откликнулась на его страсть и не сразу рассказала ему свою историю – и только тогда он вполне понял ее. И вовсе не потому, что история ее была исключительной, напротив: так поступают нечистоплотные и жадные купцы всего света. Аша скрытничала, поскольку ей нужно было время, чтобы начать доверять мужу, чтобы понять, на чьей он стороне – ее или купца.
– Дядя Амур одалживал отцу деньги – и не один раз, а несколько, – сказала она Халифе. – У него не было выбора: ведь отец – муж его сестры, член семьи. И когда отец просил у него денег, дядя был вынужден дать. Дядя Амур не любил общаться с отцом, считал, что он не умеет обращаться с деньгами, – пожалуй, так оно и было. Мать не раз прямо говорила об этом отцу. В конце концов дядя Амур попросил отца, чтобы тот переписал на него свой дом… наш дом, этот дом… в качестве залога. Отец так и сделал, но матери не сказал. Таковы уж мужчины: вечно секретничают, проворачивают делишки втайне от женщин, точно те чересчур легкомысленны и им нельзя доверять. Если бы мама знала, она ни за что этого не допустила бы. Подлое это дело – одалживать деньги тем, кто не может вернуть долг, и отбирать у них дома. Это кража. Вот что дядя Амур проделал с моим отцом и с нами.
– Сколько ему задолжал твой отец? – спросил Халифа, прерывая затянувшееся молчание.
– Какая разница сколько, – раздраженно ответила Аша. – Мы все равно не смогли бы заплатить. Он ничего не оставил.
– Он, должно быть, умер скоропостижно. Наверное, думал, что все успеет.
Аша кивнула:
– Да уж, не подготовился он к уходу. В последние годы во время затяжных дождей его била малярийная лихорадка; на этот раз она оказалась сильнее прежнего, и он не выдержал. Было больно смотреть, в каких муках он умирал. Да смилуется Господь над его душой. Мать толком не знала, как у него обстоят дела, но вскоре мы выяснили, что долг так и не уплачен, денег нет, отдать нечего, даже самую малость. Родственники отца пришли требовать долю наследства – то есть дома, – тут-то и обнаружилось, что дом принадлежит дяде Амуру. Это был страшный удар для всех, особенно для моей матери. У нас ничего не осталось, ничего в целом свете. Хуже, чем ничего: мы не имели права распоряжаться даже своей жизнью, поскольку дядя Амур, как мужчина и старший родственник, стал нашим опекуном. И сам решал, как нам быть. Мать так и не оправилась от смерти мужа. Она давно хворала, а тут и вовсе слегла. Раньше я думала, что от горя, что мать вовсе и не болеет, что бы она ни говорила, а просто чахнет от тоски. Хотя с чего бы ей тосковать? Может, на нее навели порчу, или она просто разочаровалась в жизни. Порой в нее что-то вселялось, она говорила незнакомыми голосами, и мы, несмотря на протесты отца, посылали за знахарем. А после отцовской смерти ее тоска обернулась всепоглощающей скорбью, но в последние месяцы жизни ее постигла новая напасть: боли в спине, что-то грызло ее изнутри. Она так и говорила: «Такое чувство, будто что-то грызет меня изнутри». И тогда я поняла, что она угасает, что это уже не от горя. В свои последние дни она беспокоилась, что будет со мною, умоляла дядю Амура позаботиться обо мне, он обещал. – Аша устремила на мужа долгий печальный взгляд и добавила: – Вот он и отдал меня тебе.
– Или меня тебе. – Халифа улыбнулся, чтобы смягчить горечь ее слов. – Что же в этом плохого?
Она пожала плечами. Халифа понимал – или догадывался, – почему Амур Биашара решил предложить ему Ашу. Во-первых, чтобы переложить ответственность за нее на другого. Во-вторых, чтобы ее никто не соблазнил, не вовлек в постыдную связь (даже если она ни о чем таком не помышляла). Так должен был думать могущественный патриарх. Утамситири, Халифа спасет ее от позора, сохранит честь фамилии. Жених он не самый завидный, но купец его знает: брак с ним убережет доброе имя Аши, а следовательно, и Амура Биашары от возможного бесчестья. Вдобавок брак Аши с надежным человеком, который зависит от купца, как Халифа, сохранит имущество Биашары, и история с домом, так сказать, не выйдет за пределы семьи.
Даже после того как Халифа узнал историю дома и понял, что с его женой обошлись несправедливо, он не мог поговорить об этом с купцом. Это родственные дела, а он им не родственник. И тогда он убедил Ашу объясниться с дядей, попросить свою долю наследства.
– Он бывает справедлив, если хочет, – втолковывал ей Халифа (ему тоже хотелось в это верить). – Я неплохо его изучил. Я знаю, как он ведет дела. Ты пристыди его, заставь выделить тебе причитающееся по праву, иначе он притворится, будто все в порядке, и ничего не отдаст.
В конце концов Аша поговорила с дядей. Халифа не присутствовал при разговоре, и, когда купец впоследствии вежливо поинтересовался у него, в чем дело, притворился, будто знать ничего не знает. Дядя сказал Аше, что уже выделил ей долю в своем завещании, и хватит об этом. Иными словами, он не желает, чтобы к нему впредь приставали с разговорами о доме.
* * *
Халифа с Ашой поженились в начале 1907 года. Восстание Маджи-Маджи переживало агонию: его подавили ценой бесчисленных жертв, жизней и благополучия африканцев. Начавшийся в Линди9 бунт охватил всю сельскую местность, городки на западе и на юге. Беспорядки длились три года. И чем упорнее народ сопротивлялся германскому господству, тем сильнее зверствовали колониальные власти. Германское командование поняло, что одной военной силой восстание не подавить, и решило уморить народ голодом. Всех жителей мятежных районов шуцтруппе считала бунтовщиками. Германцы сжигали деревни, вытаптывали посевы, грабили продуктовые лавки. На виселицах вдоль дорог висели трупы африканцев; вокруг простиралась выжженная, объятая страхом земля. В той части страны, где жили Аша и Халифа, о происходящем знали понаслышке. Для них это были страшные сказки, ведь в их городе никто не бунтовал. С тех пор как повесили Бушири, мятежи прекратились, хотя угроза, что германцы будут мстить, никуда не ис-чезла.
Германцы никак не ожидали, что местные жители не пожелают стать подданными Германской Восточной Африки и будут так отчаянно сопротивляться – даже после показательной расправы с вахехе на юге, вачагга и меру в горах на северо-востоке. Восстание Маджи-Маджи подавили: сотни тысяч умерли от голода и ранений; многих казнили. Кое-кто из правителей Германской Восточной Африки считал подобный исход неизбежным. Все равно они рано или поздно умерли бы. Пока же империя должна показать африканцам мертвую хватку германской власти, дабы научить их безропотно нести ярмо. С каждым днем германцы сильнее сдавливали этим ярмом шеи строптивых подданных. Колониальные власти усиливали влияние в стране, чиновников становилось все больше, их влияние распространялось все дальше. Из Германии прибывали всё новые и новые поселенцы; у местных жителей отбирали хорошую землю, неволили прокладывать дороги, чистить придорожные канавы, разбивать сады и бульвары – для отдыха колонистов и во славу империи. Германцы припозднились строить империю в этой части света, но намерены были закрепиться, остаться надолго, а потому и располагались со всем удобством. Они возводили церкви, учреждения с колоннадами, крепости с зубчатыми стенами – чтобы обеспечить себе нормальную жизнь, устрашить порабощенных подданных и произвести впечатление на противников.
Однако недавнее восстание заставило кое-кого из германцев изменить мнение. Они поняли, что одного насилия недостаточно, дабы подчинить себе колонию и наладить там жизнь; германцы надумали строить лечебницы, проводили кампании по борьбе с холерой и малярией. Сперва эти меры принимали ради здоровья и благополучия поселенцев, чиновников и шуцтруппе, но потом распространили и на местное население. Власти открывали и школы. В городе уже была хорошая школа, ее открыли несколько лет назад: здесь готовили учителей и государственных служащих из числа африканцев, но количество учащихся было невелико, сюда принимали только покорных. Теперь же появились начальные школы для широкого круга подданных, и Амур Биашара одним из первых отправил туда сына. Когда Халифа устроился работать к Амуру Биашаре, Нассору (так звали сына) было девять; учиться он пошел в четырнадцать. Поздновато, конечно, но ничего страшного: все равно в его школе преподавали не алгебру, а ремесла, и четырнадцать лет – подходящий возраст, чтобы учиться пилить, класть кирпичи и махать кувалдой. Там-то Нассор и выучился работать по дереву. Он провел в школе четыре года и за это время освоил грамоту, счет и плотницкое дело.
Аша и Халифа вынесли из этих лет совсем другие уроки. Халифа понял, что жена его – женщина энергичная и упрямая, знает, чего хочет, и не любит сидеть без дела. Сперва он дивился ее энергии, посмеивался над ее категоричными суждениями о соседях. Они завистники, богохульники и злодеи, твердила Аша. Полно, отвечал Халифа, ты преувеличиваешь, и она раздраженно хмурилась. Ничего я не преувеличиваю, возражала Аша. Я всю жизнь живу с ними бок о бок. Поначалу Халифа думал, Аша то и дело поминает Бога и цитирует стихи Корана лишь для красного словца, как любят некоторые, но потом осознал, что это вовсе не похвальба мудростью и ученостью, а глубокая набожность. Он считал, что она несчастлива, и как умел скрашивал ее одиночество. Он старался разбудить в ней ту же страсть, какую сам питал к ней, но Аша держалась замкнуто, отстраненно, и Халифе казалось, что она едва его терпит – в лучшем случае смиренно уступает его пылу и ласкам.
Она осознала, что сильнее него, хотя далеко не сразу отважилась себе в этом признаться. Она понимала, чего хочет – не всегда, но часто, – а поняв, стояла на своем, Халифу же запросто можно было сбить с толку (он и сам частенько сбивался). Память об отце, к которому Аша старалась хранить уважение, как требовала религия, мешалась с досадой на мужа; ей все чаще и чаще приходилось сдерживаться. Порой, не сумев одолеть раздражения, она ярилась на Халифу, о чем впоследствии жалела. Халифа был надежен, но безропотно подчинялся ее дяде – вору, лицемеру и святоше. Муж ее довольствовался малым, им часто пользовались, ну да пусть будет воля Его, а она постарается смириться. Но бесконечные истории Халифы ее утомляли.
В первые годы брака у Аши было три выкидыша. После третьей неудачной беременности за три года соседки уговорили ее показаться знахарке, мганге. Та велела ей лечь на пол и с головой накрыла ее кангой10. Знахарка долго сидела возле Аши, напевая вполголоса повторяющиеся фразы, произносила слова, которых Аша не могла разобрать. В конце концов мганга сказала Аше, что в нее вселилось невидимое и не дает ребенку вырасти в ней. Невидимое можно уговорить уйти: нужно выяснить, чего оно хочет, и выполнить эти требования. Единственный способ узнать о них – позволить невидимому говорить устами Аши, а для этого необходимо, чтобы оно овладело ею целиком.