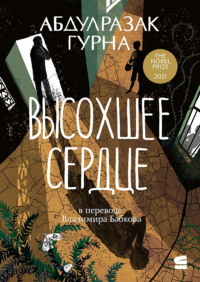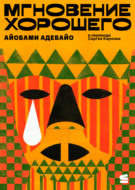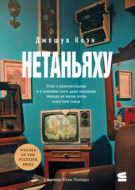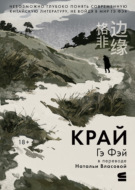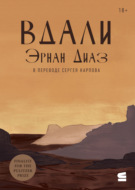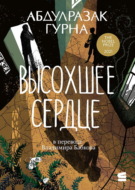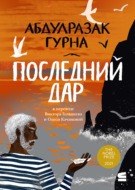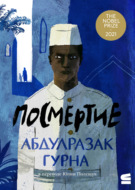Kitabı oxu: «Высохшее сердце»
Сочти свои счастливые минуты; таково начало любви. Затем она будет развиваться в соответствии с тем, на что ты способен, – иначе говоря, с твоими достоинствами.
Абу Саид Ахмад ибн Иса аль-Харраз 1.
Китаб аль-Сидк (Книга правдивости)
Copyright © Abdulrazak Gurnah, 2017 First published in 2017 by Bloomsbury Publishing
Издается с разрешения автора при содействии его литературных агентов Rogers, Coleridge and White Ltd.

© Абдулразак Гурна
© Владимир Бабков, перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке, оформление. Строки
Часть первая
1. Сахарная вата
Моему отцу я был не нужен. Я почувствовал это в раннем детстве, когда еще не мог толком понять, чего меня лишили, и тем более угадать почему. В каком-то смысле мое непонимание оказалось благом. Приди это чувство позже, мне проще было бы с ним свыкнуться, но, скорее всего, я не обошелся бы без притворства и ненависти. Я делал бы вид, что мне все равно, или исходил бы злобой у отца за спиной, проклиная его за то, что все сложилось именно так, а не по-другому. С досады я мог бы прийти к выводу, что в жизни без отцовской любви нет ничего исключительного, и даже решить, что мне повезло. С отцами ведь не так уж легко ладить, особенно если они тоже выросли без отцовской любви, поскольку в этом случае у них складывается твердое убеждение, что отцы имеют право всегда добиваться своего – не мытьем, так катаньем. Вдобавок отцы, подобно всем остальным, вынуждены мириться с тем, что жизнь безжалостно гнет свою линию, и им приходится оберегать и поддерживать собственную трепетную натуру, а на это иногда растрачиваются чуть ли не все душевные силы – где уж тут найти излишки любви на ребенка, которого по своему капризу подкинула им судьба.
Но я помнил и время, когда все было по-другому, когда мой отец не отгораживался от меня ледяным молчанием, если мы оказывались вдвоем в одной маленькой комнатке, когда он смеялся вместе со мной, тормошил и ласкал меня. Это была цепочка образов без слов и звука, маленькое сокровище, которое я тщательно сберегал. В ту пору, когда все было по-другому, я, наверное, еще не вышел из младенческого возраста, поскольку в моих первых ясных воспоминаниях об отце он предстает уже тем самым молчуном, каким оставался после. Пухлые детские тельца запоминают многое, что потом откликается во взрослой жизни, но эти следы прошлого нередко искажаются и перемешиваются. Иногда у меня возникало подозрение, что давние отцовские ласки – всего лишь выдумка, которой я пытаюсь себя утешить, и что часть картин, хранящихся в моей памяти, не принадлежит мне. Иногда я подозревал, что их вложили туда другие люди, которые были ко мне добры и старались заполнить белые пятна в моей и своей жизни, – те, кто преувеличивал связность и театральность беспорядочной рутины наших дней и кому хотелось всегда выискивать в происходящем отголоски минувшего. Добравшись до этого места, я начинал гадать, знаю ли я о себе вообще хоть что-нибудь. Все мое младенчество вполне могло состоять из плодов чужой фантазии: один говорил мне о тех годах одно, другой – другое, а я просто соглашался с более настойчивым из них или выбирал тот свой облик, который мне больше нравился.
В отдельные минуты эти гнетущие мысли становились до абсурда навязчивыми, хотя мне казалось, что я все-таки помню, как сижу рядом с отцом на залитом солнцем пороге нашего дома, в руках у него розовая сахарная вата на палочке и я собираюсь погрузить в нее лицо. Это возникало передо мной как застывшее мгновение, картинка без всякой предыстории или развития. Разве я мог такое придумать? Я только сомневался, что это и вправду было. Глядя на меня, отец заходится в беззвучном смехе – тщетно стараясь унять его, он прижимает локти к бокам и говорит мне что-то, чего я теперь уже не могу слышать. А может быть, он обращался вовсе не ко мне, а к кому-то еще, кто тоже там был. Возможно, вот так, задыхаясь от смеха, он говорил с моей матерью.
По всей вероятности, на мне была крошечная рубашонка, чуть прикрывающая пупок, а ниже – ничего. Я в этом почти уверен. То есть уверен, что кроме рубашонки на мне ничего не было. На одной из фотографий того времени я беззаботно стою посреди улицы именно в этом наряде, обычном для малолетних африканцев мужского пола. Девочкам разгуливать в таком виде не разрешалось, чтобы никто случайно не нанес ущерба их чистоте и невинности, хотя это не значило, что они избегнут уготованной им участи в дальнейшем. Да, я определенно видел однажды эту фотографию – нечеткий, плохо проявленный снимок, сделанный, скорее всего, бокс-камерой: полуголый чернокожий мальчуган лет трех-четырех глазеет в объектив с жалким оторопевшим видом. Это дает повод заключить, что я находился в состоянии легкой паники. Я был пугливым ребенком, и направленная в мою сторону камера должна была меня встревожить. Судить по этой выцветшей фотографии о моей внешности довольно трудно, и утверждать, что на ней запечатлен именно я, может только человек, и без нее знающий, как я выглядел. На бледном снимке нельзя рассмотреть ни царапин у меня на коленках, ни следов от укусов насекомых на руках, ни соплей под носом, зато отчетливо виден крохотный мешочек между ног, тогда еще целехонький, без всякого изъяна. Это значит, что мне тут не больше четырех. Примерно в этом возрасте мальчишки начинают ежиться от ужаса перед будущим обрезанием, поскольку шутки взрослых про то, что маленький абдулла скоро потеряет свою шапочку, вдруг приобретают для них смысл, а ужимки старухи, которая мнет детские яички, чихая и содрогаясь в притворном экстазе, уже не забавляют, а воспринимаются как издевательство.
Как ни крути, эту фотографию не могли сделать позже моего пятого дня рождения, потому что незадолго до него и моего поступления в кораническую школу отец с матерью усадили меня в такси. Поездка на такси была редким событием, и мать не пожалела усилий, расписывая лакомства, которые ждали нас в конце путешествия: витумбуа, катлеси, самбуса 2! По дороге такси остановилось у больницы – это займет всего минутку, сказал отец, а потом сразу поедем дальше. Я взялся за его руку и пошел с ним внутрь. Не успел я сообразить, что происходит, как мой маленький абдулла потерял свою кофию 3 и пикник превратился в кошмарную смесь боли, предательства и разочарования. Меня подло обманули. После этого я несколько дней подряд сидел, широко расставив ноги, чтобы открыть целительному ветерку доступ к моему увенчанному алым тюрбаном пенису, а мать, отец и соседи приходили взглянуть на это с улыбками до ушей. Абдулла кичва вази 4.
Вскоре после этой травмы и обмана я начал ходить в кораническую школу. Там ученики были обязаны носить укороченные канзу 5 и кофии – и почти наверняка трусы, так что мои руки уже не могли время от времени рассеянно теребить то, что у мальчиков внизу. А раз научившись прикрывать свою наготу, особенно после столь коварно нанесенного мне увечья, я больше не мог снова выставлять ее напоказ с той же свободой, что и раньше, и никто уже не сфотографировал бы меня сидящим на пороге дома в одной только куцей рубашонке. Так что можно сказать с уверенностью, что в тот день, когда мой отец Масуд угощал меня на солнышке сахарной ватой, мне было около четырех. И нежность тех мгновений впиталась в меня на долгие годы.
Это был порог дома, где я родился и провел все свое детство, дома, который я покинул, потому что мне почти не оставили выбора. Позже, в чужой стране, я мысленно рисовал этот дом шаг за шагом. Не знаю, была ли то лживая ностальгия или честная тоска, но я проходил по всем его комнатам и вдыхал его запахи много лет после отъезда. Прямо за входной дверью было пространство кухни: ни розеток, ни встроенных шкафчиков, ни электроплиты или даже раковины. Это была просто несовременная кухня, но когда-то здесь и вовсе царил вечный полумрак, а на стенах лежала густая копоть от угольного очага. Как в пасти чудовища, говорила моя мать. Хотя с тех пор стены несколько раз белили известкой, эта копоть все равно пробивалась сквозь нее неистребимым сероватым отливом. В ближнем к двери углу был краник для стирки и мытья посуды; пол из скверного бетона раскрошился под напором воды, и в нем образовалась ямина. По левую руку от двери лежала старая циновка, которая, несмотря на ее древность, все еще пахла травой, – на ней мы ели, и на ней же мать принимала гостей. Дальше гости мужского пола не заходили – по крайней мере, когда мать была еще молода, или, по крайней мере, не все из них. Так это выглядело, когда я был мальчишкой, но позже циновка уступила место столу со стульями, да и вся кухня благодаря многим переменам стала гораздо более чистой и современной.
Следующая дверь отделяла эту обширную переднюю от основной части дома, состоящей из двух комнат, маленького коридорчика и уборной. В большей из комнат спали мои родители и я. У меня была удобная кроватка, которую я обожал. Одна ее боковина опускалась и поднималась, и, когда я лежал внутри за поднятой стенкой и под натянутой сверху москитной сеткой, мне казалось, что я плыву по воздуху в каком-то сказочном челне. Москитная сетка над головой всегда дарит мне чувство защищенности. Каждый раз, когда матери нужно было, чтобы я не мешал ей заниматься своими делами, она сажала меня в эту кроватку, потому что знала: там мне хорошо. Иногда я и сам просил, чтобы меня посадили туда и закрыли боковину, а потом часами представлял себе, что прячусь в собственной потайной комнатке, неуязвимый для всех и вся. Я наслаждался этим уютом лет до десяти. Позже в этой кроватке спала и моя сестра Мунира.
Во второй комнате жил брат моей матери, дядя Амир. Дверь в конце коридорчика вела в узенький дворик, где еле хватало места для бельевой веревки. У него была общая стена с двориком наших соседей – одинокого мужчины и его матери. Они жили так тихо и незаметно, что долгое время я даже не знал, как зовут хозяина, поскольку никто не говорил ни с ним, ни о нем. Его мать никогда не выходила из дому – не то болела, не то так отвыкла от прогулок, что боялась внешнего мира. У них не было электричества, и, когда меня отправляли туда с миской слив в подарок – сливы в ту пору были редкостью, – я едва мог различить в полутьме ее черты. С их двора не доносилось почти никакого шума, разве что изредка негромко покашляет хозяин или звякнет кастрюля. Выбегая ночью по нужде, я старался по возможности не открывать глаз и добирался до уборной ощупью. На заднюю дверь я никогда не глядел даже мельком, но мне все равно мерещилась тень, вырастающая над стеной в рассеянном свете прикрученной масляной лампы.
Перед домом не было ни палисадника, ни тротуара, так что в переднюю заходили прямо с улицы. В жаркие дни дверь распахивали настежь, и занавеска на ней лениво колыхалась под легким ветерком, то вздымаясь, то опадая. Значит, когда мы сидели на этом залитом солнцем пороге и отец угощал меня сахарной ватой, наши ноги стояли на улице – если только я уже доставал ногами до земли – и мы смотрели, как мимо нас течет жизнь. Улочка наша была пустынная и совсем тесная – на ней с трудом разъезжались два велосипеда. Жестяные крыши нашего дома и дома напротив почти смыкались, и те, кто случайно забредал в эти прохладные сумерки, должно быть, робели, чувствуя себя непрошеными гостями. Солнечные лучи падали на наш порог очень недолго, пробиваясь в щель между козырьками крыш, и фотография с ватой, очевидно, была сделана именно в такой момент.
Ни одного автомобиля здесь никогда не видели, да и нечего им было здесь делать: эти улочки предназначались для шарканья и шлепанья человеческих ног, для тел, соприкасающихся плечами, и для отдающихся эхом приветствий, проклятий и выкриков. Все необходимое доставлялось на тачках или на своих двоих. И ровной, как положено нормальной дороге, наша улица не была: когда-то ее замостили плитами, но время, ноги прохожих и дождевая вода оставили на них множество выбоин. Иногда, глухой ночью, звонкий стук чьих-нибудь твердых башмаков наполнял воздух угрозой. Неподалеку от нашего дома улица сворачивала направо и вскоре после этого – опять направо. В отличие от больших дорог, ведущих в глубь острова, наши улочки изгибались и поворачивали через каждые несколько метров, и примерно так же петляла жизнь их обитателей. В нашей части города не было особняков, просторных дворов и садов за высокими стенами, и жили здесь скромно. Так обстояли дела в моем детстве, когда эти улицы были пустынными и тихими, а не грязными и многолюдными, как в более поздние времена.
Наши соседи спереди, Масен и Би Марьям, жили в таком же маленьком домике, как наш, и прямо дверь в дверь с нами. Все называли его Масен, не прибавляя ничего к имени, а ее – всегда только Би Марьям 6. Масен работал посыльным в городской администрации – маленький тощий человечек, которому в школьные годы наверняка крепко доставалось от хулиганов. Посыльным он назывался официально, но фактически был кем-то вроде мальчика на побегушках. Ему давали разные мелкие поручения: принести нужную папку, проводить посетителя к выходу, купить попить чего-нибудь холодненького, или сигарет, или булочку, сходить на рынок, отнести в ремонт сломанный вентилятор – короче говоря, его уделом были бесконечные хлопоты конторской жизни.
Некоторые чиновники и служащие годились Масену во внуки, но он и не думал роптать. Неизменно вежливый, мягкий и улыбчивый, он был бесконечно любезен и безупречно благочестив. По дороге с работы домой он приветствовал всех встречных – каждый из них получал от него улыбку, кивок или рукопожатие в зависимости от пола, возраста и степени знакомства. У одного он осведомлялся о его здоровье, у другой – о родственниках и сообщал взамен все собранные по пути новости. По утрам он вставал затемно, чтобы успеть в мечеть на самую раннюю молитву – это удавалось немногим, – и ни разу не пропустил ни одной из пяти ежедневных молитв, причем исполнял все религиозные обряды сдержанно, чтобы это никому не бросалось в глаза. Не будь он таким скромным, его непременно обвинили бы в позерстве. Он говорил вежливо даже с детьми, при том что почти все взрослые обращались к ним свысока и с неприязнью, словно заранее ждали от них какой-нибудь пакости или дерзости. К нему не прилипало ни единой сплетни, хотя отдельные недобрые языки и осмеливались намекнуть, что у него не все в порядке с головой.
Его жена Би Марьям сдержанностью не отличалась, да и во многом другом не походила на мужа. Она была тучной, подозрительной и воинственной. Она пользовалась любой возможностью привлечь внимание к набожности и благородству своего супруга, как будто кто-то в них сомневался. «Он человек истинной веры, – провозглашала она, едва подворачивался удобный случай, – возлюбленный Господа нашего. Видите – это Он наделил его добрым здоровьем и приятным лицом. Уж он-то получит свою награду, когда наш Повелитель призовет его к себе, и можете завидовать сколько влезет!»
Зарабатывала она тем, что пекла булки и лепешки для местных закусочных. По любому поводу у нее было свое мнение, и она всегда высказывала его громко и уверенно, чтобы ее обязательно услышали соседи и все случайные прохожие, которых оно могло заинтересовать. Она знала, чем лечить разные болезни и куда поехать отдохнуть, объясняла, как лучше жарить рыбу и к чему приведет намечающаяся помолвка, о которой ходит столько разговоров. Дети торопились поскорее проскочить мимо ее двери в страхе, что их поймают и отправят по какой-нибудь надобности. Своих детей у Масена и Би Марьям не было. Больше всего на свете она боялась, что ее неправильно поймут, и была уверена, что все вокруг только и ждут, как бы извратить ею сказанное – нарочно, ей назло. В отличие от остальных, Масена ее голос и рассуждения ничуть не раздражали. Мой отец говорил, что Масен, похоже, давно оглох и попросту ее не слышит, но другие видели причину в том, что он святой. Некоторые подозревали, что она колдунья, и старались держаться от нее подальше, но мать списывала это на их невежество. У нее самой вызывали опаску только напористость Би Марьям и ее дурной характер.
Несколько лет, когда в нашей семье еще все было хорошо, мой отец Масуд работал младшим бухгалтером в Водном управлении в Гулиони. Состоять на государственной службе считалось почетным и надежным. Сам я из этой поры ничего не помню и знаю о ней лишь по чужим рассказам. В моих первых ясных воспоминаниях об отце он уже торговал на рынке или вообще ничего не делал, просто сидел в комнате. Долгое время я не знал, что пошло не так, и в конце концов перестал спрашивать. Я много чего не знал.
* * *
Отец моего отца, Маалим Яхья, был учитель. Еще до моего рождения он переехал в Дубай, так что я видел его только на фотографии. Меня приняли в ту школу, где он работал раньше, и там, в кабинете директора, висели групповые фотографии педагогов. Их делали каждый год, и они занимали в кабинете почти целую стену. Должно быть, за несколько лет до моего поступления этот обычай отменили, потому что недавних фотографий там не было. Ни на одной из старых я не нашел ни директора, ни тех учителей, которые вели уроки у меня самого. Эти снимки будто открывали окошко в какое-то мифическое прошлое: серьезные люди в белых рубашках с длинным рукавом, застегнутых на все пуговицы, или в канзу и форменных куртках. Многие из них, наверное, уже умерли. Некоторых убили во время революции, хотя отличить их от остальных я бы не смог: мы только по слухам знали, что кого-то из наших учителей тогда убили. Сам директор тоже когда-то учился в нашей школе, в том числе и у Маалима Яхьи. Он мне его и показал.
– Вот твой дед. Он был очень строгий, почти всегда, – сказал директор.
Я знал, что называть учителя строгим или даже беспощадным считается комплиментом. Нестрогий учитель слаб по определению, и ученики имеют полное право над ним издеваться. Ему дали прозвище Маалим Чуй 7, добавил директор, потому что у него была манера смотреть на детей свирепым взглядом и скрючивать пальцы как когти, словно он собирался на них наброситься. Это выглядело так комично, что детей разбирал смех, но они не давали себе воли, потому что знали: моего деда лучше не злить. Директор продемонстрировал мне этот свирепый взгляд с когтями, и я невольно засмеялся.
– Но если ты что-нибудь натворил и он так на тебя смотрел, – со всей серьезностью сказал директор, тоже напустив на себя грозный вид, чтобы восстановить свой авторитет, – тогда можно было описаться от страха. В то время учителя не жалели учеников. Такой взгляд означал, что при первом удобном случае ты получишь хорошую затрещину, и по сравнению с тем, как лупили нас другие учителя, это еще сущая мелочь. А вас нынче распустили!
В директорский кабинет меня вызвали, чтобы похвалить за сочинение про велосипедную прогулку за город. Тему сочинения взяли из учебника английского: как ты провел каникулы? Рисунок под этим заголовком должен был служить нам подсказкой: двое смеющихся детей, мальчик и девочка, бегут по пляжу, их светлые волосы развеваются позади, а взрослая женщина с короткими светлыми волосами и в блузке без рукавов смотрит им вслед и улыбается. На той же странице был и другой рисунок: еще двое детей – а может быть, те же самые, но теперь волосы падают им на лицо – играют перед каким-то домом, а на заднем плане деревья, мельница, ослик и три или четыре курицы. Как мы провели каникулы… словно у нас было что-нибудь общее с детьми, нарисованными в наших учебниках, с детьми, чьи волосы развевались на бегу и которые отдыхали летом на пляже или ездили к дедушке на ферму и раскрывали тайны заброшенного старого дома у мельницы! Каникулами называлось время, когда не работала государственная школа, но в кораническую можно было не ходить только на Мавлид и байрамы 8 или в дни тяжелой болезни. Головная боль, расстройство желудка и даже сильно ободранная коленка не освобождали от уроков, хотя кровоточащая рана признавалась уважительной причиной. По обычным дням мы отправлялись утром в государственную школу, а после обеда – в кораническую. Когда в государственной были каникулы, мы проводили весь день в коранической, а вовсе не на пляже, где наши короткие курчавые волосы никак не могли бы развеваться на ветру, и не у дедушки на ферме, где не было никакой мельницы и где наши волосы в любом случае не могли бы упасть нам на лицо.
Но по сравнению со многими другими мальчиками из моего класса я делал в изучении Корана большие успехи, и к тому времени, как было написано мое сочинение о велосипедной прогулке, я уже окончил кораническую школу – можно сказать, избавился от нее. Для этого мне понадобилось дважды прочесть Коран вслух от начала до конца, к вящему удовольствию моего наставника, который за эти годы прослушал в моем исполнении каждую строчку каждой страницы, поправляя по ходу дела мое произношение и заставляя меня перечитывать каждый стих до тех пор, пока мне не удавалось одолеть его без единой запинки. К моменту выпуска из коранической школы я читал Коран бегло и с надлежащей интонацией, почти не понимая смысла того, что читаю. Я знал истории оттуда и любил их, потому что учителя всегда находили повод заново напомнить нам о трудах и победах Пророка. Один из наших учителей в коранической школе при Мсикити-Барза 9 был прекрасным рассказчиком. Когда отмечалась годовщина какого-нибудь важного религиозного события и он вставал, чтобы произнести речь, мы откладывали в сторонку свои учебники и дощечки для письма и сразу переставали ерзать и шептаться. Он рассказывал нам о рождении Пророка, о мирадже 10 и о вступлении в Медину. Я обожал историю про ангела, который пришел к мальчику-сироте, пасущему овец на холмах Мекки, рассек ему грудь и омыл его сердце свежим снегом. Я слышал ее в детстве многократно, и каждый раз она трогала и восхищала меня: очистить сердце свежим снегом! Должно быть, ангел извлек этот экзотический материал из туч в небе и захватил с собой, иначе откуда бы ему взяться на аравийских холмах?
Так как же проводили каникулы те, кто уже избавился от коранической школы? Они не делали ничего особенного. Вставали поздно, весь долгий день слонялись по улицам, сплетничали, играли в карты или бегали окунуться – названия пляжного отдыха это не заслуживало, потому что море находилось в двух шагах от дома. Никто не делал ничего такого, о чем стоило бы написать, а если и делал, то, скорее всего, что-нибудь запрещенное, а значит, об этом нельзя было рассказывать в школьном сочинении. Но меня просили выполнить задание, а не жаловаться на его нелепость. Поэтому я придумал историю о велосипедной поездке за город, перечислил деревья, в тени которых отдыхал по пути, описал мальчика, который помог мне найти дорогу, когда я заблудился, и девочку, которая исчезла раньше, чем я успел спросить, как ее зовут, и ослепительно-белый песок на морском берегу, до которого я наконец добрался.
Учителю мое сочинение понравилось, он показал его директору, а тот захотел, чтобы я переписал его своим самым красивым почерком – пишущей машинки в школе не было – и чтобы его вывесили на доске объявлений в пример всем остальным. Вот почему я очутился тогда в директорском кабинете: меня следовало похвалить. Когда у директора кончились хвалебные слова в мой адрес, а я все еще терпеливо стоял перед ним, вместо того чтобы ухмыляться от удовольствия и переминаться с ноги на ногу, дожидаясь, пока меня отпустят, он показал мне ту фотографию в качестве прощального подарка. Взгляни и уходи. Одни учителя на фотографии сидели, а другие стояли за ними, и в этом втором ряду, с краю, стоял отец моего отца Маалим Яхья. Худой, высокий, аскетического вида, он смотрел в камеру взглядом человека, приговоренного к тяжелому испытанию. А может, у него просто сильно болела голова, как бывало с моим отцом. Мать говорила, что отец унаследовал эти приступы от своего отца, которого они мучили регулярно. Поверх канзу на нем была куртка из тех, какие полагалось носить учителям государственных школ. Мой отец был совсем не похож на Маалима Яхью: наверное, внешностью он пошел в свою мать, а ее я никогда не видел ни в жизни, ни на фотографиях.
В те времена порядочные женщины не позволяли себя фотографировать из страха, что их снимки попадутся на глаза чужим мужчинам и от этого пострадает честь их мужей. Но поскольку от фотографирования порой уклонялись не только женщины, но и мужчины, у этого нежелания – в обоих случаях – была и другая причина: люди боялись, что часть их самих каким-то образом будет поймана и останется у снимка в плену. Даже в моем детстве, то есть намного позже, чем было сделано фото с Маалимом Яхьей, местные жители еще не избавились от этого предрассудка: стоило какому-нибудь туристу с океанского лайнера, гуляющему по нашим улочкам, поднять фотоаппарат, как его осаживали сердитыми выкриками, и ему приходилось спасаться бегством. Затем среди местных начинался спор между теми, кто опасался потерять свою душу, и теми, кто считал это полной чепухой. По этим причинам я никогда не видел фотографии своей бабушки по отцовской линии и не мог судить, насколько отец на нее похож. Однако, увидев фотографию с Маалимом Яхьей, я решил, что в его фигуре и цвете лица есть что-то общее с моими. Это было приятно, потому что восстанавливало мою связь с теми людьми и событиями, от которых меня отрезало отцовское молчание.
Фотография в директорском кабинете датировалась декабрем тысяча девятьсот шестьдесят третьего, то есть концом учебного года прямо перед революцией. Вскоре после этого Маалим Яхья потерял свое место – потому он и уехал работать в Дубай. Почти вся его семья, жена и две дочери, отправилась следом, но мой отец остался. Пока я не уехал сам, никто из них не возвращался даже ненадолго, и кроме как на той фотографии в кабинете директора я не видел членов отцовской семьи. В самом раннем детстве я и не чувствовал в этом никакой нужды. Отец с матерью были всем моим миром; иногда я слышал от них обрывочные упоминания о других родственниках, и мне этого хватало, при том что сами люди, о которых они говорили, казались очень далекими.
* * *
О семье матери я знал больше. Мою мать звали Саидой, и когда-то ее семья была довольно зажиточной – отнюдь не богатой, с какой стороны ни посмотри, но все же вполне состоятельной, поскольку у них имелся участок плодородной земли и собственный дом недалеко от здания суда. Когда мать была еще маленькой, ту часть города занимали знатные особы: люди, связанные с правительством султана, которые обитали в тиши уединенных садов за высокими стенами, и колониальные чиновники-европейцы – эти жили в огромных старинных арабских домах у моря, справляли чинные имперские ритуалы в белых полотняных мундирах, увешанных причудливыми медалями, и носили пробковые шлемы с плюмажами и сабли в позолоченных ножнах, как победители. Они присваивали себе пышные титулы и притворялись аристократами. Вельможи обеих разновидностей считали себя одаренными от природы, которая создала их благородными и наделила правом властвовать над другими, а также нести связанное с этим бремя.
Отцу моей матери, Ахмеду Мусе Ибрагиму, человеку образованному и немало поездившему по свету, было некогда тешить свое самолюбие игрой в патриция. Вместо этого он предпочитал говорить о свободе, справедливости и праве на самореализацию. За эти разговоры ему суждено было заплатить. После двух лет обучения в Колледже Макерере 11 и еще года в Эдинбургском университете он получил диплом специалиста по здравоохранению. Между периодами своего пребывания в Уганде и Шотландии он провел несколько недель в Каире в гостях у друга, который учился на педагога в Американском университете. Затем, по пути в Лондон, посетил Бейрут и на три недели задержался в Стамбуле. Годы, проведенные в Кампале и Эдинбурге, а также знакомство с другими волшебными городами принесли богатые плоды: его светскому лоску и житейской искушенности мог позавидовать каждый, и, когда он принимался рассказывать о каком-нибудь знаменитом месте, где ему удалось побывать, аудитория благоговейно замолкала. По крайней мере, так описывала реакцию знакомых на его речи моя мать. Он работал в лабораториях Министерства здравоохранения, совсем недалеко от своего дома. Его главной задачей было уничтожение малярии, но он внес свой вклад и в борьбу против холеры и дизентерии, выполняя необходимые анализы и участвуя в семинарах. Некоторые называли его доктором и просили вылечить их от разных болезней, но он со смехом отказывался, поясняя, что работает в отделе по отлову крыс и совершенно не разбирается в грыжах, мигренях, простудах и геморроях.
Его я тоже видел на фотографии – ее сделали на задах Министерства здравоохранения, у ворот служебной парковки. На нем был белый полотняный костюм с пиджаком, застегнутым на среднюю пуговицу, и лихо заломленная красная феска. Голову он наклонил так, что кисточка фески свисала свободно. Ноги скрестил – правая голень поверх левой, – что привлекало внимание к его коричневым туфлям, а правой рукой опирался на ствол безошибочно узнаваемого дерева ним у ворот. Позади него, чуть поодаль, высился гигантский делоникс, затенявший дорогу, которая огибала здание. В этой небрежной, изящной позе мой дед казался живым воплощением современности – беззаботный космополит, заглянувший в несколько крупнейших мировых метрополий – Каир, Бейрут и Стамбул – по дороге в Лондон и Эдинбург. Наверное, в Турецкой республике Ататюрка фески уже успели отвергнуть как рудимент старого мира; в пятидесятые годы они понемногу выходили из употребления и в других странах – Египте, Ираке, Тунисе, – где превращались в символ продажных пашей и беев и поверженных войск арабских националистов, но эти вести еще не достигли ушей отца моей матери, по крайней мере в ту пору, когда была сделана фотография. Для него этот головной убор еще оставался эстетским признаком принадлежности к мусульманскому авангарду, смелой и практичной заменой средневековому тюрбану. Белый полотняный костюм воспринимался не так однозначно: сам выбор костюма в качестве верхней одежды (как и коричневых туфель вместо обычных сандалий) выглядел данью уважения Европе, но вообще белое, если облекаться в него с надлежащим смирением, считалось цветом паломничества и молитвы, чистоты и благочестия. Деда можно было бы упрекнуть в излишней склонности к рисовке, если бы не его нарочито скрещенные ноги и неуверенная, слегка извиняющаяся улыбка на свежем круглом лице, точно он сам гадал, не перестарался ли со своим нарядом.