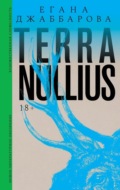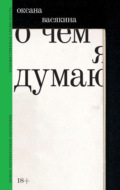Kitabı oxu: «Элегии для N.»
* * *
© А. Иличевский, 2025
© Н. Агапова, дизайн обложки, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
I
У человека есть сознание. У храма или корабля его, вероятно, нет, но хотелось бы, чтобы было. Если со временем заменять в храме камни, а в корабле доски, то храм и корабль все равно пребудут – первый простоит тысячелетия, второй наконец вернется в Итаку.
С телом примерно то же: клетки регенерируются, как доски и камни.
А вот аксоны, дендриты и т. д. в мозге либо обновляются, либо сменяют свои потенциалы-функции, но остается главное: связи между ними – память и опыт.
Отсюда приходим к выводу, что сознание – сущность виртуальная: оно есть и его материально нет.
И уж тем более виртуален и потому только нерушим смысл храма или корабля, то есть культура. При остающейся функциональности всех трех – человека, корабля и храма.
Итак, нейроны обновляются, но связи остаются.
Цивилизации отмирают, но смыслы пребывают и прорастают верой в слова: верой и смыслом.
Эта проблематика большей своей частью сводится к фразе: «Мир – это лишь кем-то рассказанная история».
Это очень глубокая фраза.
В ней – понимание того, как мироздание творится с помощью слов, чисел и речений.
История рождается сном, оплодотворенным словами и действительностью.
Когда-то в детстве я был впечатлен четырехпалубным теплоходом «Шота Руставели», стоявшим у причала в Сочи. Черно-белая громадина и синее-синее море.
С тех пор корабль этот существовал словно бы во сне – внутри меня глубоко-глубоко: мне года четыре, и в целом я едва себя помню; но корабль прямо передо мной у причала и сейчас – и высокие потолки стеклянного морвокзала, и крики чаек, пересекающих огромные, в пол, окна, и дышащий парус тюля, и бутылка восхитительного пенного «Байкала» на столике между мной и отцом, и стук маминых каблуков по мрамору, и ее платье.
А потом я вырос, жил, жил, соскучился – и вдруг в Феодосии увидел, как швартуется ровно тот же корабль, – сон материализовался.
Сохранился «Шота Руставели» в точности: будто с иголочки, ибо его подновляли, начищали и драили. Таков морской порядок: корабли должны стареть медленно.
И это было настолько точное совпадение реальности и сна, что ничего более пронзительного со мной в портах не приключалось.
На этом корабле мне довелось в ту пору отправиться в путешествие с N., которой и посвящены эти строки памяти.
II
Лето начинается медленно, словно не решаясь вступить в полную силу. Кажется, что воздух на самом деле дрожит под светом солнца, что сам мир ждет чего-то, хотя и не знает, чего именно. Тот, кто сидит в одиночестве на скамейке среди аллеи лип, может уловить в этом легком ожидании странную гармонию – баланс между тем, что произошло, и тем, что еще не случилось. Солнце вращает ось дня, лица прохожих светлы.
Мир обнажен перед наблюдателем, но чем больше наблюдатель на него смотрит, тем более неуловимым кажется мироздание. В этих тонких линиях света и тени – весь смысл лета, вся его праздность. Но где-то в глубине, на краю реальности, всегда остается место для тех, кто наблюдает, кто не просто проходит мимо, а по-настоящему вглядывается в его суть. И так рождаются истории, которые останутся незавершенными.
Этот мир – не тот, который можно удержать в ладонях, его нельзя уловить в словах. Он словно призрак, восходящий в воздухе летнего дня, легкий и неприметный, но с каждым шагом все больше заполняет твою жизнь. Это мир, в котором живут и уходят люди, как тени, которые трепещут на фоне нагретых солнцем плоскостей домов. И каждый раз они оставляют за собой легкий след – неуловимую тень, призрак прикосновения, который уже никогда не вернется.
Женщины N. Те, кто скрывался в этом брезжащем танце лета, на границе между реальностью и сном. Иногда они уходили в тишине, оставляя за собой лишь тонкий аромат духов, который еще долго держался в воздухе. Иногда их лица запоминались, словно яркие мгновения, а порой они исчезали так, что казалось, что их и не было вовсе. Но каждое из этих исчезновений оставляло в сердце звездочку – память, которая становилась частью тебя, независимо от того, хотел ты этого или нет.
Теперь они появляются в снах, в мыслях, в рефлексиях – как что-то, что невозможно удержать, но при этом невозможно и забыть. В каждой из них – собственная тайна, которую нельзя постичь до конца. Может, в этом и заключается суть любви: в попытке понять, прочувствовать и сохранить то, что изначально не поддается определению. Каждый раз, когда ты приближаешься к ответу, он ускользает, и ты снова остаешься с вопросами.
Любовь – это, наверное, самое древнее противоречие, заложенное в сердце человека. Она обжигает и исцеляет одновременно, тянет к себе и отталкивает, соединяет и разрушает. В N., как в загадке бытия, заключена эта двойственность – красивая и жестокая, далекая и близкая. Она всегда больше, чем просто любовь; она – сама суть стремления, желание достичь невозможного. И каждая попытка любить – это шаг к моменту, когда сердце едва может выдержать всю полноту переживаний.
Случай, этот тихий собеседник в наших головах, часто решает за нас, что будет дальше. Он соединяет нас и разводит, заставляет делать то, о чем мы порой даже не задумывались. Случай – это невидимая рука, играющая на струнах жизни. И каждая, связанная с ним женщина N. – отдельная вселенная, как танец на фоне заката, как призрачный город, в котором ты однажды бывал, но в который никогда не сможешь вернуться. И каждый мужчина – корабль, дрейфующий по этому океану, не зная, куда приведет его судьба. В этих встречах нет правил, как нет их и в любви. Только чувства, бури и затишья, тени и свет, переплетающиеся в игре судьбы.
Скамейка на бульваре, липы, закат, ветерок, наполняющий особый световой прах танцем на пустынных улицах, – все это часть того мира, в который ты возвращаешься снова и снова. Не ради ответов, а ради того, чтобы еще раз почувствовать этот легкий, призрачный трепет мира, который всегда с тобой.
III
Белых цапель гранатовый купол. Ритм и скрежет товарняка по насыпи Казанской железной дороги. У моей бабушки имелись золотые серьги с капельками граната. Она носила их всегда, чтобы мочки не зарастали. Как ни вспомнишь ее – она так и сидит у заиндевевшего окна. Днем, и ночью часто. Днем – поджидая, когда дочь, моя мать, вернется с работы или я из школы. Ночью – не ожидая никого, кроме отсутствия Бога, кроме того, чтобы память освободилась от наваждений – смерти детей, мужа, всей семьи в голод. Богоборцем она не стала, потому что знала, что Сталин убийца. Что зло есть, есть зло, и творится оно людьми. Мне приходилось знать то, что она забыла. «Саш, можно я расскажу?» – иногда спрашивала она, в то время как я читал книгу. Обыкновенно это были какие-нибудь приключения, или детская энциклопедия, или «Книга юных командиров», где рассказывалось о Ганнибале и Спартаке. Я перелистывал страницы и погружался в еще одну жизнь. С тех пор я так и не научился жить на поверхности, все время тянет где глубже, в зимнюю сомовью яму. Ночью морозный хвощ затягивал окно все гуще. Ртутные лампы фонарей высвечивали бетонку под окнами. По ней спешили замерзшие и все более одинокие пассажиры последней электрички. Осенью можно было на ней застать конокрадов – раскатистый топот, восторг и ужас, всхрапывают загнанные бесседельные кони. Бабушка сидела против всей жизни, насыпь Казанской дороги служила плотиной. Серьги драгоценно тускнели, полз товарняк, и чернильно блестел гранат.
Эти серьги бабушка незадолго до смерти подарила N. Так они и пропали из моей жизни.
IV
Назовем эту главку «Тележка». Впервые я оказался в Сан-Диего в тот день, когда Ицхак прославился окончательно. У него родился третий ребенок – и снова девочка. Первые два раза были еще туда-сюда. Но три – и снова принцесса Савская! Слава – клуб фанов моего лучшего друга состоял почти из меня одного. Этот арап – эфиоп, ста шестидесяти трех сантиметров роста, программист уровня Бог – заключил сделку с украинкой Галей из Бет Шеана, состоящую в том, что Галя станет за плату рожать ему непорочно детей, пока не родится мальчик. Дети, за которых, согласно договору, Ицик платил тридцать тысяч долларов за роды, оставались на воспитании у Гали, в то время как их биологический отец получал право на свободное общение с ними три дня в неделю.
Бет Шеан – одна из многочисленных трущоб Израиля, и я вспомнил его песчаные пыльные улицы и похожие на глинобитные домишки с рухлядью во дворах и на крышах, когда подключился к бортовой сети Боинга–777, направлявшегося из Лондона в Калифорнию. Среди загруженных новых сообщений было одно с фотографией Ицхака в медицинском чепчике на его пушкинской шевелюре и с новорожденной мулаткой на руках. Имелась приписка: «Познакомься – это Эсфирь». Я послал ему смайлик и попросил у стюардессы еще Heineken'а, чтобы отпраздновать очередное счастье человечества.
Легенда сообщает, что моя бабушка встретила невестку из роддома со мною на руках словами: «Вот еще один мученик народился». Тогда мама первый и последний раз поссорилась со свекровью, но разве бабушка так уж была не права? В самом деле, почему личики всех младенцев так похожи друг на друга, будто сморщились одинаково в предвкушении какой-то гадости? Еще я помню, бабушка людей не слишком любила и, когда они отвечали ей взаимностью, говорила со вздохом: «Счастье всегда краденое…».
В Сан-Диего я приехал, чтобы апробировать аппаратуру, которую планировал закупить наш госпиталь. Одна из секретарш нашего отделения – француженка Ривка – поселила меня не в отеле, а в квартирке, занимавшей четверть дома, который стоял между пляжами Пасифик и Мишен. Домик был выкрашен густо-синей краской, сезон только начинался, и над полупустынным променадом зорко барражировали треугольные эскадрильи пеликанов. Чайки отгоняли от помоек ворон, прохладный бриз остужал уже сильное солнце, колоссальный объем рассеянного солнечного света реял веером над океаном, над полоской берега, уставленного бунгалами баров, кофеен, лавок спорттоваров, над свайным пирсом – на нем впритык друг к другу стояли лачуги для серфингистов, которые были не против день и ночь слушать раскатистый гул океана.
Сан-Диего пах жареной рыбой, кофе и гнилыми водорослями.
Вечером я шел по набережной и наткнулся на тележку бомжа. Это была обыкновенная тележка из супермаркета, наполненная всяческим хламом. Я собрался рядом с ней постоять покурить – незаметно, в кулак, потому что видел надписи на бетонном парапете – No Alcohol, No Smoking. Чего только не было в этой тележке! И обрывок рыболовной сети, и обломок серфинговой доски, спортивная сумка и совсем новенькие кроссовки – черные Brooks. Пряча сигарету и украдкой затягиваясь, я снова огляделся в поисках владельца этого добра. И снова никого не увидел – кроме туристов, спешивших в бары или вальяжно идущих домой после еды и выпивки.
И тут что-то случилось со мной – что-то повернулось во мне. Теперь я не стал оглядываться, а скинул сандалии, натянул кроссовки и был таков.
Очнулся я только за порогом своего убежища. И лишь тогда понял, что натворил. Дело в том, что я никогда ничего не крал. Даже батон, который кто-нибудь из нас, студентов Физтеха, в перестроечной Москве, засовывал в рукав куртки вместе с банкой кабачковой икры, перед тем как подойти к кассе… Даже этого я не делал – не столько из брезгливости, сколько из принципиальных соображений, понимая, что рискну сдохнуть с голодухи, но не украду…
Хозяин моей квартирки запрещал курить везде – и на крыльце, и в патио, и мне не хотелось нарушать правила, особенно после того, как я стал обладателем кроссовок Brooks, абсолютно моего размера. Вот почему однажды глубокой ночью, проснувшись от кошмара, где я на Манхэттене пытался выбраться из аквариума-небоскреба, в котором плавал кит и грозил прихлопнуть меня ударом огромного, как небо, хвоста, – я вышел на улицу и стал прохаживаться по тротуару с самокруткой в зубах. Как вдруг на пустынной улице я услышал дребезг. Сильный пронзительный звук приближался ко мне рывками. И тут я увидел тележку, груженную каким-то скарбом, которая двигалась прямо на меня. Накатит, почти остановится – и снова накатит. У меня заняло всего доли секунды сообразить, в чем дело, но почему-то меня охватил ужас. Кто-то толкал тележку снизу, такой небольшой, что его не было видно. Я посторонился. Я сделал шаг в сторону и увидел, как карлик, ковыляя вразвалку, проворно толкает тележку со всяким барахлом, сверху которого лежат мои сандалии.
Донесся запах мочи. Заросший до бровей бородой, с волосами, связанными в хвост, человечек, с широким добрым лицом, подмигнул мне в свете фонаря и, одним рывком догнав снова мою судьбу, растворился во тьме переулка.