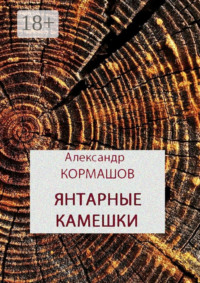Kitabı oxu: «Янтарные камешки. рассказы»
Дизайнер обложки Наталья Верба
© Александр Кормашов, 2017
© Наталья Верба, дизайн обложки, 2017
ISBN 978-5-4474-5876-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Рубик
Его звали Рубик. Он появился в гараже примерно в восьмидесятом году, перед Олимпиадой, когда из Москвы ненадежный элемент высылали за сто первый километр. А как уж он попал за тысяча первый – это тайна, покрытая мраком и завернутая в черную фотографическую бумагу.
Его звали Рубиком еще задолго до того, как появилось это словосочетание «кубик Рубика». Конечно, у него были настоящее имя и фамилия, было и отчество, но их достоверно знали только в конторе нашего леспромхоза да еще завгаражом Перехватов, который выписывал нам путевки. Однако и он, написав «Руб…», внутренне как-то напрягался и почти зримо принуждал свою руку дописать правильное «…ен». (Рубен – это была фамилия Рубика). Нередко Перехватов чертыхался и, скомкав, бросал путевку в мусорное ведро. За перерасход бланков его даже вызывали к контору: подозревали, что он выписывает «левые» путевки. Там же конторе, где-то в сейфе отдела кадров, в этом ковчеге завета, лежала трудовая книжка Рубика – таинственная, как свитки книги Бытия. Поэтому вся его биография доходила до нас лишь в обрывках им же самым препарированных преданий. Их было три. Первому мы верили безоговорочно. Оно было связано со словами «расконвоированный на Колымской трассе».
Кому интересно, у нас в гараже у нас были только два типа машин: «ЗиЛ-157» и «ЗиЛ-131», все трехоски, бортовые и бензовозы. Они обслуживали разбросанные по тайге лесопункты. Но Рубику как человеку чужому достался совсем уже древний «ЗиС-151», разобранный до состояния съеденного песцами кита и не списанный на металлолом только в силу какой-то личной заботы завгара Перехватова. Всякого новичка он старался сначала посадить именно на эту машину, обещая вскоре пересадить на другую – как только кто-нибудь уволится. Местные на это не покупались, а Рубик лишь кивнул головой и пошел в контору писать заявление о приеме на работе.
Мы встретились с ним в коридоре. В тот день я относил наши членские взносы в комитет комсомола, увидел незнакомого человека и проводил его до отдела кадров. У Рубика было очень выразительное, рельефное, городское лицо. Лично мне он сразу напомнил актера Рубанского из фильма «Коммунист».
– Какой приятный мужчина! – всполошились конторские бабы.
Машину он собрал за две месяца осенней распутицы и к зиме поставил на ход. Он знал все профессии. Сам варил раму, сам учил кузнеца, как лучше закаливать рессоры, он в одиночку снимал коробку, раздатку, перекатывал мосты. Растрогавшийся завгар Перехватов выписал ему лучший двигатель после капремонта. Перехватов явно полюбил Рубика и даже в тайне подкидывал ему новые запчасти, часто в обиду другим шоферам – людям чисто крестьянского склада, которые, да, относились к машине как к родной корове-кормилице, берегли ее всячески и ухаживали, но, когда приходило время, без раздумий пускали под нож…
Избежавший участи списания, подлатанный и покрашенный, «ЗиС» работал наравне с другими машинами, но, конечно, не мог тягаться с ними на бездорожье. Его маленькие узкие колеса (сдвоенные только на задних мостах) сильно врезались в грязь, прыгали на гатях, плохо держались на лежневках. Но Рубик был ас. К ночи он возвращался из таких рейсов, из каких другие выбирались по несколько суток.
В гараж Рубик приходил и уходил одетый, как все. Но перед рейсом он переодевался. Зимой и летом в кабине Рубика лежал старенький залоснившийся тулупчик и такие же старые, лысые унты. Даже в самый июльский зной Рубик не садился за руль, не надев унты, пусть и на босу ноги, и не накинув на голые плечи тулупчик. Но все же главные чудеса начинались зимой. Тут сила Рубиковых привычек возводилась в такие «колымские» степени, что это было сверх понимания даже нашему северному уму.
Часто его машина возвращалась с изрубленным бортами. Многие знают, если зимой случается что-то с мотором, надо первым же делом развести под ним костерок, чтобы не дать замерзнуть воде в радиаторе. Для этого достаточно сделать шаг в сторону, в лес, отколупнуть топором от сосны или елки щепку-смолюшку и захватить несколько сушин.
Рубик при остановке двигателя тоже выскакивал с топором. Только не бежал в лес, а подскакивал к кузову и начинал бешено рубить задний борт. Сперва мы только смеялись. Мы же не знали, что такое колымская трасса и что такое голая тундра – и вправо и влево, и взад, и вперед – на тысячи километров.
Ещё у него было особое отношение к шофёрской взаимовыручке. Нет, мы, конечно, помогали друг другу. Если машина стояла с поднятым капотом или снятым колесом, значит, надо остановиться. Мы что, не русские люди? Но Рубик поражал совсем уже фанатичной, неистовой, жертвенной готовностью помогать. Порой нам было даже неловко. Потому что глохла твоя машина, а он рубил борт своей.
Один раз я сам останавливал его руку, и он чуть не пошел на меня с топором. Глаза у него были цвета снега. Единственное, чего удалось от него добиться, было какое-то невразумительное «так надо». Кому так надо? Зачем так надо? Так надо. Повторно я в том убедился практически через несколько дней, когда на лесной делянке из-за мороза у меня не завелся двигатель. Проблема была пустяшной. Достаточно было намотать на палку ветошь, опустить в бензобак, а потом подержать факел под карбюратором. Оказывается, надо было совсем не так. Надо было быстро скинуть тулуп, снять пиджак, оторвать от рубашки рукав, сунуть его в бензобак, обмотать вокруг карбюратора и поджечь. Тут я уже не сопротивлялся.
Думаю, у Рубика это было какое-то ослепление, белый ужас перед лицом тундры и такой глубокий инстинкт, вернее, условный рефлекс, что человек уже действует просто на автопилоте. А иначе зачем рубить борт, когда в лесу полно дров, или рвать рукав, когда за спинкой сиденья лежит кипа ветоши?
Впрочем, как и многие шофера и не только зимой, он всегда имел другой способ подогрева. Но уже личного подогрева. И этим способом он никогда и ни с кем не делился. Более того, никто никогда не видел, чтобы он пил. Больше всего это озадачивало завгаражом Перехватова. Перед рейсом Рубик обязательно залезал под машину с нагнетательным шприцом. У него это называлось «пошприцевать крестовины». Только вместо привычного всем «чав-чав» из-под машины отчетливо доносилось «буль-буль».
Перехватов выходил из себя. Он же видел, что Рубик только что выпил. Да это видели все. Когда Рубик принимал на грудь, у него резко отвисал нос и заметно длинней становились руки. Перехватов бросался под машину и осматривал под ней все места, где можно спрятать бутылку. Но любой шофер знает, что там негде спрятать бутылку.
– Ну где? Где? Говори, – говорил Перехватов, вылезая из-под машины, вытирая грязные руки. – Ведь найду, – грозил он.
Рубик лишь пожимал плечами:
– Ну, найди. Я что, тебе мешаю? Наше дело правое – не мешать левому.
Это была его любимая присказка.
Трезвым Рубик никогда не был, но и пьяным становился только раз в месяц. В день получки. Аванс он за деньги не признавал.
В этот день в гараже появлялась Ефалья, не старая, но угасшего вида женщина, у которой Рубик квартировал. Летом она появлялась с велосипедной тачкой, на которой возила скотине траву, зимой – с санками.
То, что называлось у Рубика «пить», для него значило пить «капитанский пунш». Ради него он держал в шкафчике раздевалки большой медный ковш. В ковш он высыпал пачку чая и заливал её портвейном. Чай был непременно индийским, портвейн – в принципе любым. Не буду врать, будто видел сам, но мужики говорили, что однажды, когда в магазине не было портвейна, а был только вермут, Рубик нашел пустую бутылку из-под портвейна, снял с нее этикетку и наклеил ее на вермут. Лишь после этого налил вино в ковш.
Пунш он готовил на горне в кузнице, когда завгар Перехватов уже уходил домой, бросив недовольный взгляд на Ефалью.
Водку Рубик пил тоже, но она его как-то не брала. Он её принимал каждый день под машиной. А вот пунш он пил с неподражаемым смаком. И каждый глоток сопровождал словом «проба».
Так мы узнали, что, вернувшись с Колымы, Рубик работал к экпериментально-испытательном цехе Завода имени Лихачева. Испытывал новые вездеходы. «Проба» – было написано на номере каждой машине, которую испытатели гоняли по всем проезжим и непроезжим дорогам СССР.
Это было второе предание Рубика. Самое короткое. Потому что, хмелея, он вскоре переключался на главный рассказ своей жизни. Про Жукова, про маршала Победы. Про Жукова он вообще-то он знал множество баек. Но чаще всего рассказывал лишь одну – так же смачно, как пил свой пунш.
Эта история (она же третье предание) относилась к завершения Сталинградской битве, которая никогда бы не закончилась окружением, если бы не находчивость Жукова. При подготовке контрнаступления обнаружилось, что для танковый армий катастрофически не хватает антифриза. Его тогда делали на основе спирта, воды и глицерина. Была зима, было очень холодно, и его не хватало даже людям – что уж говорить про машины.
– И что делает Жуков? – спрашивал Рубик, обводя нас взглядом всесведующего. – Он снимает трубку и звонит…
– Сталину?
– Сталину? Бери выше! Прямо Рузвельту. Слушай, говорит, товарищ союзник, а какой у вас антрифриз? Этиленглиголь, говоришь? Люди его не пьют? Очень замечательно. Ну, вот что, товарищ Франклин, не знаю, как тебя по батюшке, Рузвельт, выпишешь мне пару сотен тонн ради общего дела?
И вот через Северный полюс, маршрутом Чкалова, самолётами, в СССР перебрасывается столько этиленглиголя, что его хватило даже на несколько танковых армий. И Сталинградская битва закончилась полной нашей победой.
Мы верили. Верили еще и потому, что на всякого усомнившегося он просто переставал смотреть, равнодушно заметив в сторону:
– Наше дело правое – не мешать левому.
У него это получалось почему-то ужасно обидно.
Допив свой последний глоток и сказав в последний раз «проба», Рубик пытался встать, но руки его к тому времени отрастали гораздо ниже колен. Ходить с такими руками он уже не мог.
Ефалья грузила его на санки и везла домой. Санки дергались, он качался и тыкал носом себе в грудь.
Этот человек проработал у нас в гараже примерно два с половиной года. Весной, в распутицу, машины вставали на прикол. Шофера уходили на сплав. Собственно, это было завершение сплава. Требовалось «идти с хвостом». Две бригады медленно двигались по обе стороны реки, сталкивая в уже низкую воду застрявшие на берегу бревна. Конечно, пробираться по воглым, заиленным, заваленным мусором-водоплавом, безлюдным лесным берегам, сквозь поломанные кусты и деревья да с еще с тяжелым багром было тяжело, стариков обычно не брали, и вообще это дело считалось добровольным, но Рубик всегда был немного жаден до денег.
На сплаве он застудил грудь. И вот, когда его парили в бане, вдруг увидели у него эту татуировку. Во всю спину, необычайно красиво, был нарисован гнутый самолетный пропеллер, обвитый колючей проволокой и воткнутый в могильный холм ягодиц…
Рубик умирал беспокойно. В больнице он все время просил врачей, чтобы те разрешили ему капитанский пунш, однако доктора уверяли, что «в наши восьмидесятые» от пневмонии не умирают, и кололи антибиотики. Пунш ему всё-таки принесли, он был в грелке и еще теплый. Возможно, мы все делали и правильно, доводя кипение «до пены под ключ», оставив затем на полчаса «преть», но сготовь его Рубик сам, мне кажется, он бы выжил.
На похороны из Москвы прилетела его дочь. Татьяна Петровна. Она ничем не походила на своего отца. Преподавала историю музыки в серьезном музыкальном училище. Правда, на сами похороны она опоздала, а поэтому задержалась у нас в селе до «девяти дней». Жила у Ефальи. «Девять дней» мы отмечали в столовой леспромхоза. Директор дал денег. Пришел весь гараж и почти все конторские.
Через день вышло так, что я летел на комсомольскую конференцию, и этим же самолетом улетала Татьяна Петровна. Старенький дребезжащий грузо-пассажирский Ли-2 выполнял свои рейсы уже не на лыжах, а на колесах. Мне всегда почему-то нравился этот самолет. Колеса у него не убирались до конца. Как лапки у птицы.
– Вот на таком самолете он и летал, – сказала Татьяна Петровна, когда мы садились рядом по левому борту. – Отец сидел справа, штурман. – Она кивнула на открытую кабину пилотов, – а командир слева.
Это я уже знал. Это знали все. Она сама говорила на девять дней. Стояла, сжимала в обеих руках столовский стакан, и говорила, говорила, рассказывала. Наши мужики такие долгие речи выдерживать не могли, они потихоньку наливали и пили, наливали и пили, и даже парторг с замдиректора, сидевшие по обе стороны от Татьяны Петровны, отвернувшись, опрокидывали в себя по пятьдесят грамм, а она все говорила и говорила. И про войну, и про орден, и про коллективную драку между моряками и летчиками в московском ресторане «Пекин». Про свое детство.
Когда самолет взлетел, она вдруг заплакала.
В аэропорту я помог ей донести сумки до зала ожидания. Там мы расстались. Я поехал в город, а она села дожидаться самолета на Москву.
На могиле Рубика поставили четырехгранный сварной обелиск, покрашенный кузбасслаком, тем самым, которым мазали рамы, мосты и колесные диски машин накануне весеннего техосмотра. Звезду вырезали из треугольника катафота – одного из тех, что, словно красные ушки, торчат над кабиной каждого леспромхозовского «ЗиЛа».
Ефалью взяли в гараж техничкой, и она проработала там до пенсии.
«ЗиС» простоял нетронутым целый год, потом с него сняли двигатель, а после того, как Перехватов уволился, списали.
Янтарные камешки
Эти крохотные янтарные камешки стоили самоволки. Стоили риска налететь на патруль или даже попасть на отца Майора, если тот вернется с рыбалки, с озер, чуть раньше обычного. Тогда бы нам обоим крепко досталось. В меньшей степени ей, больше – мне.
Она никогда не называла моего шефа ни просто папой, ни просто отцом, но только отцом Майором. Как священнослужителя. Майор, конечно, служил, но никак не свято, а потому был задвинут в начальники строительной лаборатории УИРа. УИР – это Управление инженерных работ. Если не по-стройбатовски, то дивизия. Есть еще полк – УНР. Управление начальника работ. А стройбат – это просто стройбат. Ниже некуда. Оттого, что я числюсь при штабе УИРа, я считаю себя белой костью и слегка игнорирую свою часть. Всех, кроме комбата. Наш комбат и отец Майор – друзья, они вместе рыбачат на озерах. Когда их нет, меня тоже нет. В иное время я на работе.
Маленькое здание лаборатории прячется за громоздкими корпусами железобетонного комбината, на окраине Плесецка, у самого леса. Тут отец Майор позволяет себе аккуратно принимать, не мозоля глаза высшему начальству. На дворе конец семидесятых. Армия сильна и могуча. Никому никакого дела до печального майора-строителя, вдовца и родителя взрослой дочери.
Раз мы играли в шахматы, и он прямо спросил:
– Ты спишь с моей Риткой?
– Никак нет, товарищ майор.
– Честно?
Он скосился выпуклым глазом на толстенькую мензурку: мол, могу и тебе позволить. Но скажи честно.
– Честно.
– Ну, смотри. А то узнаю, что пошла по солдатам…
Двадцать три грамма спирта, двадцать девять – воды. Все по Менделееву. Пятьдесят граммов чистого объема. Мне больше не позволено. Спирт мутнеет и нагревается.
– Ну, Сашка, чтобы твой дембель не прошел мимо! – поднимает он тост за меня. – Только не обессудь, если засеку. В институт ей еще.
Он не добавляет «в четвертый раз». Я старательно пожимаю плечами и предлагаю тост за него. За отставку по выслуге лет. Он набычивается. Тема больная. Потому что только к отставке ему могут кинуть подполковника.
Я, действительно, с ней не сплю. Те часы, которые у нас есть, я бы никогда не потратил на сон. Когда Ритка засыпает, я иду в майорову ванну, наливаю горячей воды и развожу пену.
В гарнизонной солдатской бане ни парилки, ни душа. И вода из обоих кранов течет одинаковой теплоты. Бруски солдатского мыла, черно-коричневые с крупным наждачным песком, хорошо отдирают грязь, но не дай бог помыть этим мылом голову. Волосы стоят колом, а из головы сыплется песок и откладывается за ушами. Конечно, я в этой бане давно не моюсь. Покупаю в буфете земляничное мыло, беру в каптерке комплект чистого белья, новые портянки и моюсь в душе котельной ЖБК. Там отлично. Горячая вода бьет железными струями и сдирает грязь вместе с кожей. Плечи становятся словно обожженные, и от этого еще долго хочется ими подергивать. Я всегда после душа подергиваюсь, как конь. Душ прекрасен. Но ванна – совсем другое.
Только в армии понял, почему покойников обмывают. Просто хотят доставить последнее удовольствие. Что уж говорить про горячую ванну с тугой запашистой пеной и хвойным шампунем для головы. Для меня это ценность.
Не скажу, что единение с Риткой я ценю мало. Много. Может, и она тоже. Пусть издевается, что стройбат – это самые бромированные войска в гарнизоне. Ей виднее. Конечно, я питаюсь в столовой и поглощаю весь этот бром, зато не шагаю на обед со своей ротой. Я ем один. Сначала стучу в окно к хлеборезу, потом иду за посудой, потом к раздаточному окну, потом сажусь за свободный стол. Это называется «стоять на расходе». На расходе стоят лишь штабные писари, санитар из медчасти, сменные электрики да шофера. К последним я сам когда-то принадлежал, пока у майора не отобрали «уазик». Тогда он взял меня к себе лаборантом.
Я также не ночую в казарме, а сплю в лаборатории на мягком диване. Это называется ночное дежурство. Или, другими словами, жизнь, а не армия.
Наконец, примерно раз в месяц я могу помечтать о ванне. Но для этого должны совпасть два условия. Чтобы отец Майор отправился на рыбалку (с ночевкой? без?) и чтобы Ритка оказалась дома (после ночной смены? перед?) Совпадение дневной рыбалки отца Майора и день перед ночной сменой Ритки, равно как ночная рыбалка и ночь перед дневной сменой… – обещают мне ванну.
Сначала я отмокаю почти в кипятке, нагребая на лицо гору белой пены. И тру тело. Очень скоро подушечки пальцев начинают обнаруживать на коже катышки грязи. Везде и повсюду. Я лежу в горячей воде, пока не заходится сердце и не приходится выскакивать из ванны по пояс. Когда вода, остывая, медленно утекает в слив, я выливаю на волосы сразу две крышечки шампуня, яростно скребу голову, потом хватаюсь за мыло и трусь ожесточенно мочалкой. Время от времени ополаскиваюсь и опять пускаю в ход подушечки пальцев. Проверяю, не осталось ли где катышей. Потом промываю струей из душа посеревшие борта ванны и опять напускаю воду, чистую и прохладную. Кажется, я готов. И тогда наступает самое сладкое. Я поднимаю одну ногу из воды, кладу ее на колено. Время доставать из кожи мелкие камешки янтаря.
Их нет на груди, нет на животе, нет на голенях. Ниже колен вообще голо. Нет даже волос. Они стерты голенищами сапог. Вместо них лишь черные мелкие точки. Да и сама кожа загрубела под стать кирзе. Прыщи здесь не появляются. Они любят бедра. Их тут навалом.
Красные давить бесполезно. Эти должны созреть. Белые давятся хорошо, но тут все надо делать с умом. Важно пристрелять глаз и хорошо чувствовать свои пальцы. Несозревший прыщ никогда не вылезет до конца. Что-то всегда останется и будет сильно зудеть. Белый прыщ должен выскакивать целиком, с легким приятным чмоком, и лучше всего, если в плотном белом мешочке. Но если он задержался надолго… вот тогда он и превращается в камешек янтаря. Такой нужно доставать медленно, подцеплять ногтем и легонько тянуть за вмурованную в него волосину, если та, естественно, сохранилась. Когда камешек выскакивает, в коже остается ровная розовая ямка.
Они славно лежат на ладони, их приятно разглядывать. Каждый из них непохож друг на друга по цвету и форме. Настоящий янтарь. Только мелкий. Камешки можно собирать, выкладывать в линию на борт ванны. Я их рассматриваю, считаю, иногда пробую на зуб, потом один за другим опускаю в щель между отбитым уголком кафеля и стеной. Там им спокойно. Спокойно и мне. Когда весной буду уходить на дембель, хоть что-то здесь от меня останется.
Ритка считает, что у меня очень тонкая кожа. Ей знать лучше. Она работает в госпитале. Медсестрой в хирургии. И кож повидала всяких. Больше офицерских. Я даже не знаю, сколько офицерских.
Я знаю лишь то, что как ни стирай свои брюки и китель, все равно через две недели х/б начинает ненавистно лосниться, глянцево чернеть, особенно, спереди на штанах, сразу выше колен. Если провести ногтем по этой черной засаленности – останется белесый след. На изнанке штанов грязи будто нет, но лишь кажется. На самом деле – хватает… Правда, я давно уже не ношу хлопчатобумажные брюки, а только п/ш, полушерстяные, купленные у прапорщика на складе. Полушерстяные, разумеется, лучше, но шерсть натирает кожу. Может, и поэтому прыщи по-прежнему не проходят. Ритке я стараюсь их не показывать.
Она повыше меня. Мягка, бела, детородна. У нее тело фламандской кисти, говорю я себе. Когда лежу в ванне, мне нравится думать красиво. А вот глаза персиянские. Не знаю, насколько точное это слово, но – мохнатые у нее глаза. Будто два шмеля. Это из-за ресниц. Больших и густых. Мохнатых. Из-за них я почти не вижу глаз. Но знаю, что они разные. В левом глазу больше желтых пятен, в правом – коричневых. Впрочем, все зависит от освещения. Когда она закрывает глаза, то веки слегка подрагивают. Веки очень сухие, пергаментные, словно именно на них почему-то не хватило жизненных соков. Иногда мне кажется, что если не дышать и если бы не дышала она, то можно услышать, как эти шмели скребутся. Где-то за ее веками. Где-то под.
И мне ее жаль, а от этого становится грустно. Я ведь знаю, что шмелям плохо. Им давно плохо. Понимаю, это прозвучит дико, но им нужен нектар любви… И я чувствую себя гадом. Потому что я не могу им предложить никакого нектара. У меня есть только эти янтарные камешки. Но я их не предложу. И она о них не узнает. Никто о них не узнает. Они теперь просто окаменелость. Чья-то неископаемая окаменелость. Хотя ведь это только сейчас они такие красивые…
Сначала были нарывы. Толстые чирьи по всему телу. Ночью они лопались и пачкали простыни. Говорили, что это из-за болотного комара.
В этом всём таком космическом-прекосмическом Плесецке хохлы-полковники так намудрили, что целый призыв гражданских шоферов остался без машин. После курса молодого бойца нас кинули в обычный стройбат, и всю роту потом загнали в болота – прокладывать кабель. Настолько же толстый и тяжелый, насколько секретный. От одной неизвестной ракетной шахты до другого неизвестного командного пункта.
Командир роты подбадривал нас шуткой: «Два солдата из стройбата заменяют экскаватор» – и обещал всех выживших посадить на машины. Экскаваторов мы не видели. Наверное, утонули раньше. Вырытая лопатами траншея заплывала за пятнадцать минут. Кабель волокли на плечах и падали вместе с ним в вонючую торфяную жижу. Потом топтались на нем, как на убитой анаконде, чтобы змея утонула поглубже. К вечеру сил хватало только на ужин да на шайку воды в холодной походной бане. Вот тогда я и начал мечтать о ванне.
Банщик был не русский. Маленький чернявый злобный дед. Их на роту было всего полтора десятка, из особо отличившихся в городе, посидевших не по одному разу на губе. Выбор у таких был один: либо завтра отправляться в дисбат, либо отсидеться до дембеля на болотах. Но деды, разумеется, в само болото не лезли. Состояли при штабе, кухне, каптерках. Нас они особо не трогали, потому что мы сами были злые и кроме того были вооружены. Лопатами. А вот банщик припахивал не по совести. Его потом не нашли. Считалось, что отошел от лагеря и заблудился в тайге. Под кабелем никто не искал. Никто бы и не позволил искать.
Уйти с болота можно было только через болото. Но комроты свое слово сдержал. Хотя ему и задержали звездочку из-за пропавшего банщика, он сделал всё как надо. Те, которые не попали в госпиталь, осенью получили перевод в автобат.
Стройбатовский автобат – не самое чистое место в армии. И машины в нем не самые чистые тоже. Когда ушли дембеля, над нами стояли еще два призыва. Под нами только один. Но молодых расхватали старики.
Наши самосвалы относились к категории душегубок. В кабинах сильно поддымливало. Если уснуть при поднятых стеклах – можно и не проснуться. Но в первую зиму мы все равно не удерживались и спали. Гроб выставляли на сцене в клубе. Мимо повзводно пропускали весь батальон. Как сквозь строй. Под мрачные взгляды отцов-командиров.
Pulsuz fraqment bitdi.