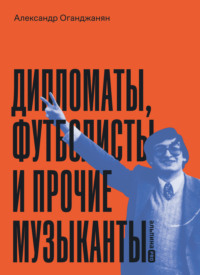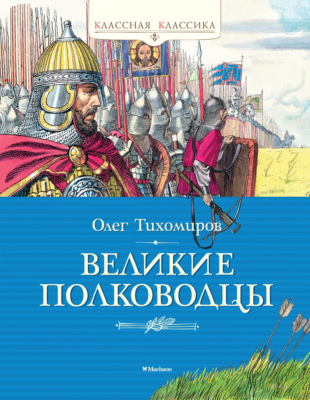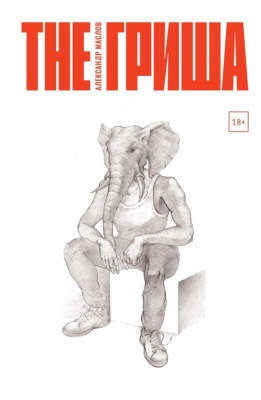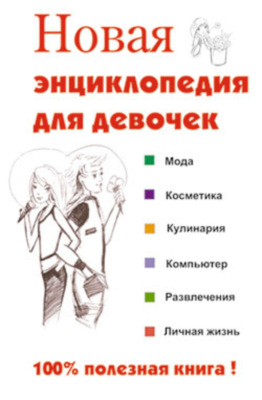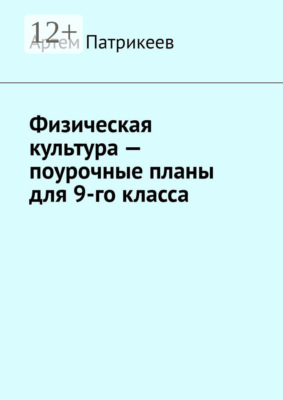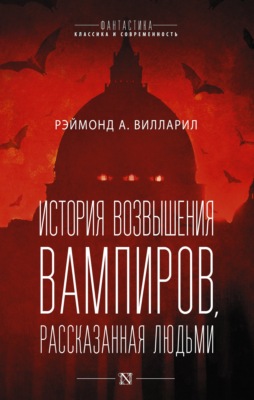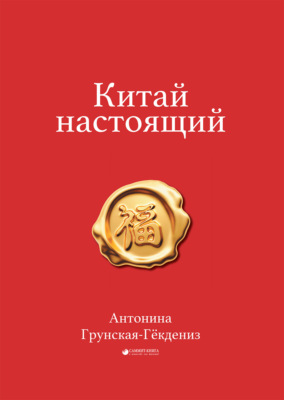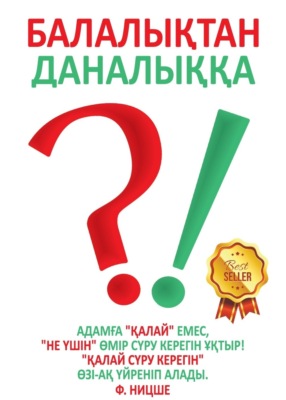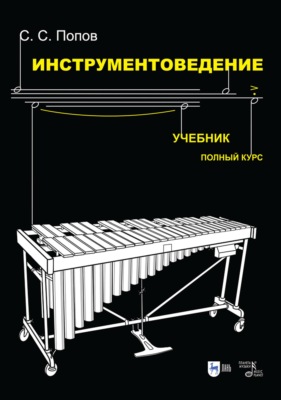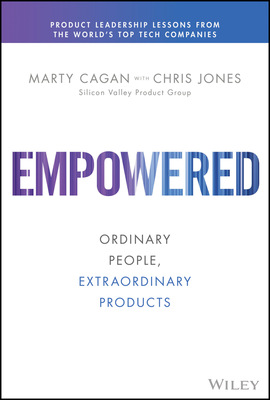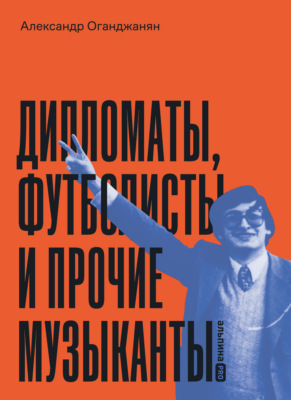Kitabı oxu: «Дипломаты, футболисты и прочие музыканты», səhifə 2
С большим скрипом я добрался до финиша – диплома, изрядно потрепанный и много чего переживший вне стен института.
Было очевидно, что пора двигаться дальше, как-то жить в новых реалиях, ведь самая беззаботная и веселая часть жизни прожита.
Тогда казалось именно так.
Ты всё еще молод, но уже пора в другую, взрослую жизнь.
МоскваНоябрь 2022 – февраль 2023
Stand up and fight! You're in the army now10
Армия
– Очка-а-арик! Умный?
В этот момент в моей голове пронеслось мыслей, казалось, больше, чем за все предыдущие восемнадцать лет жизни. Ответить утвердительно – слишком нагло и самонадеянно, ответить отрицательно – как-то совсем неискренне будет.
– Так точно, товарищ полковник.
Полковник Селезнев был человеком, которого невозможно представить не офицером. Крупный, грузный, седой, знающий все ответы на все вопросы, прошел двадцатилетним мальчишкой всю Великую Отечественную от звонка до звонка, много повидавший в своей жизни. Очень простой, справедливый и солдат по-отечески любивший, он догадывался, по какой именно причине я опоздал к месту несения службы на день, сославшись на недомогание. Скорее всего, он предположил, что произошло это от острого желания посмотреть последнюю, пятую серию «Места встречи изменить нельзя» с Высоцким в главной роли11. Это он мог и понять, и простить. Он сам, казалось, был одним из героев того фильма.
– Ну что, в писари пойдешь? А то у меня ефрейтор Колосков дембельнется скоро, а мне нужен писарь, не борзый и грамотный.
Мне показалось, что нехитрые критерии мне вполне по зубам.
– Так точно, товарищ полковник.
Собственно, так началась моя служба в Советской Армии в ноябре 1979 года.
Надо сказать, что дело это довольно сложное и, безусловно, накладывающее отпечаток на всю последующую жизнь. После комфортной жизни с родителями, друзьями, одноклассниками ты в одночасье оказываешься в абсолютно незнакомой среде и обстановке, в окружении абсолютно чужих людей. Я не знаю, как сейчас, в технологический век, а тогда тебя стопроцентно отрезали от всей твоей предыдущей жизни и ты должен был начинать всё с чистого листа в месте, где ты никто и звать тебя никак. Твоя личность никого не интересует. Думать и пытаться что-то осмысливать строжайше воспрещается. Всё это работает только против тебя. Либо ты соглашаешься на эти правила, либо система тебя уничтожит. Понимаешь это практически сразу.
Приведенный выше диалог – единственный эпизод человеческого общения за первую неделю службы.
Не верьте тому, кто рассказывает, что в армии ему понравилось с самого начала. Даже матерый мазохист впадает в глубочайшую депрессию и осознает себя полнейшим говном с первого дня. Не отпускает это чувство до самого конца службы, да и потом, идя по жизни, ты периодически ощущаешь тот самый аромат «школы жизни».
При этом, конечно, там ты в разы быстрее постигаешь науку выживания на уровне подсознания. Хорошо это или нет – не знаю. Стоит ли оно того – большой вопрос.
При всём этом ты живешь там целых два года, а для восемнадцатилетнего человека это гигантский срок. Приспосабливаешься как-то, куда-то выруливаешь. Проходят годы, и в памяти остаются в основном веселые, жизненные и поучительные воспоминания.
Сослуживцы
– Ты, армян, всегда устроишься! Ты уже писарь, а Потикян уже художник. Как вы так умудряетесь?
Майор Джинджолия искренне, как ребенок, радовался такого рода открытиям. Он никогда не скрывал, что он не знает, как оказался офицером Советской Армии, как дослужился до майора и как умудрился до сих пор ни на чем не попасться. Человек он был совсем не армейского склада, веселый грузинский ловелас и гуляка. Человек добрый и всегда искавший позитива. Солдат не мучивший, но и не помогавший им никак.
Это именно он где-то через полгода моей службы заговорщически вызвал меня к себе и абсолютно серьезно начал рассказывать свой хитроумный план, ставший, очевидно, результатом долгих и непростых размышлений.
– Армян, смотри, на той неделе к нам в батальон пришел из учебки сержант Дуб. Так?
– Так, товарищ майор, – ответил я, совсем не понимая, что могло его в этом заинтересовать.
– Ты можешь его в мою роту записать?
С каких это пор его стало интересовать, кто попадет в его роту из новеньких? Начинаю понимать: сейчас произойдет что-то экстраординарное.
– Конечно могу, товарищ майор.
– Надо будет его назначить приказом командиром второго отделения второго взвода. Понял?
– Так точно.
На его лице начинает появляться выражение абсолютно счастливого своим изобретением человека. Наверное, такое выражение было на лице Менделеева, когда он закончил свою таблицу.
– Рядовому Дубине из второго же отделения надо срочно, слышишь, срочно присвоить звание ефрейтора.
– Он же дубина, тащ майор.
– Ты так ничего и не понял до сих пор? А еще говорят, армяны умные. – На его лице появилась усталая улыбка боксера, победившего в двенадцатом раунде соперника нокаутом. – Представляешь, на вечерней поверке я буду зачитывать: сержант Дуб, а он мне «я». Ефрейтор Дубина, а он мне «я». Прикольно же будет. Дуб и Дубина подряд!
– Так точно, тащ майор, прикольно.
По жизни всё забывающий и не очень ответственный, на этот раз майор Джинджолия строго отслеживал и интересовался карьерой двух солдат из его роты до тех пор, пока однажды, дней через десять, на вечерней поверке он не зачитал:
– Второе отделение. – Пауза.
Неторопливый победоносный взгляд по рядам солдат.
– Сержант Дуб.
– Я.
– Ефрейтор Дубина.
– Я.
Он не мог просто так пойти дальше, ему хотелось еще раз насладиться эффектом своей многоходовки.
– Что-то я не расслышал. Сержант Дуб.
– Я.
– Ефрейтор Дубина.
– Я.
– Сержант Солоп, продолжайте поверку. У меня важные дела. Я срочно в штаб полка, – сказал он и пошел в сторону телевизора.
В этом был весь Джин, как его между собой называли солдаты, да и офицеры, по-моему, тоже.
Володя Дубина был удивительный человек. Идеальный советский солдат. Именно такие пересилили фашистов в Великой Отечественной. Большой, сильный, добрый и очень наивный. Тракторист из глухой белорусской деревушки, в которой, по неведомым только ему причинам, все носили фамилию Дубина, да и сама деревня имела приблизительно такое же наименование.
Когда капитан Секачев впервые попросил Дубину на политзанятии, стоящего рядом с огромной картой полушарий, показать Баб-эль-Мандебский пролив, Володя впал в полный ступор. Надо сказать, что капитан Секачев каждый раз, задавая этот вопрос молодым солдатам, с одной стороны, самоутверждался, а с другой, получал удовольствие, потому что ему казалось очень смешным то, как они, в большинстве своем деревенские ребята из Белоруссии, Молдавии и с Урала, на это реагировали.
Немногие из них догадывались, что это всего лишь географическое название. Им казалось, что офицер просто произносит некий набор букв, просто чтобы поиздеваться. Дубина молчал, потупив глаза, даже не думая смотреть в сторону карты.
Тогда последовал следующий вопрос:
– Ты хоть столицу нашей Родины знаешь, Д-дубина?
– Ну, Москва, – не очень уверенно, очевидно ожидая подвоха, ответил Володя.
– Покажи, воин, столицу нашей Родины Москву на карте.
Володя как раненый зверь начал метаться возле карты от полушария к полушарию. Где-то в районе Южной Америки он остановился и начал про себя, шевеля губами, читать подряд все названия, надеясь, что ему повезет и попадется Москва.
– Дубина, а ты в школе учился? – небрежно, сидя на столе, спросил офицер.
– Так точно, тащ капитан.
– Закончил?
– Так точно!
– Парадокс! – Любимое словечко капитана, которое он произносил резко, как выстрел, проглатывая все гласные. – Закончить-то закончил, но ничему не научился! Чем ты, Дубина, в школе-то занимался?
Тут лицо Володи даже как-то просветлело, видимо, от милых сердцу воспоминаний.
– Как чем, тащ капитан, водку пил, девок щипал да по углам зажимал!
Как это ни парадоксально, но вся «интеллигенция» в итоге оказалась на блатных должностях: Гива Потикян тут же угодил в художники, Вова Ермолаев – почтальон-библиотекарь, Лёша Широпаев – художник, Володя Анохин – художник, еще кто-то в оркестр, кто-то в штаб писарем. Очевидно, что отношение к нам со стороны сослуживцев было двояким: с одной стороны, нас сильно не любили, ибо в их терминологии мы постоянно «шланговали», то есть бездельничали, пока они пахали, с другой стороны, они понимали, что у нас есть знания и умения, им не всегда доступные. Кто лучше оформит дембельский альбом? А кто напишет письмо знакомой девчонке так, «шоб душа сначала свернулась, а потом развернулась»? Кто, если очень надо, может и стихом в любви солдатской вечной в письме признаться?
Ну а мы, как-то так повелось, тоже старались держаться вместе. Если не пытаться находить позитива хоть в чем-то, если не шутить, если при тотальном дефиците радостных событий не поддерживать друг друга или, не дай бог, оказаться в изоляции, то можно было либо свихнуться, либо повеситься. К слову, и то и другое у нас происходило вполне регулярно в разных слоях армейской иерархии и социальных групп.
Если бы не эти люди, как правило из Москвы или Питера, с высшим или неоконченным высшим образованием, если бы не каждодневное общение с ними, если бы, как это ни банально, мы каждый день не делили невзгоды и не поддерживали друг друга, вынести два года службы, наверное, не получилось бы.
Майор Дрыга был человеком деятельным, всё время что-то искавшим и делавшим. Сидеть на месте он не умел. Маленький и рыжий, он скорее напоминал персонажа из «Ералаша». Все его начинания обычно заканчивались либо как-нибудь очень странно, либо полным фиаско. Будучи замполитом батальона, он отвечал за воспитание солдат, за любовь к Родине, за их, солдат, развитие.
Когда мы с Володей Синицыным, гитаристом от бога, по нашим догадкам блюзменом афроамериканского происхождения в прошлой жизни, предложили политруку создать ВИА и подготовить мощное современное выступление для гарнизонного смотра армейской самодеятельности, Дрыга не на шутку оживился. Начал носиться по казарме, писать перечень патриотических песен для будущего репертуара. Он понимал: вот он, его звездный час! Наконец он всем докажет, кто самый творчески мыслящий замполит как минимум в дивизии. В фантастически короткие сроки он выбил деньги в штабе полка на покупку музыкальных инструментов. Мы все уже жили идеей иметь в полку собственный бэнд. Это действительно было бы круто.
Провожали мы майора Дрыгу в поездку за инструментами очень трепетно. Володя вдогонку отъезжающему авто продолжал перечислять, какую лучше брать гитару, какие не брать барабаны и как отличить хорошую органолу от плохой.
Дрыги не было три дня. Мы не могли себе представить, что он делал всё это время. Конец этой истории получился обескураживающим.
Через три дня он появился в роте с видом Наполеона, въезжающего в поверженную Москву.
– Идите разгружайте!
Просить нас два раза не было никакой нужды. Мы мигом сбежали с третьего этажа на плац. Трясущимися от нетерпения руками стали открывать задний борт грузовика, на котором ездил за инструментами Дрыга. Мы предвкушали увидеть свою мечту! Мы уже знали, что сфотографируемся совсем как битлы – с гитарами и барабаном на переднем плане.
Следующие пять минут после того, что мы увидели в грузовике, не помнит никто. От увиденного мы онемели. Мы погрузились в глубокий, вязкий, удушающий туман.
Перед нами лежала гора… мандолин. Да-да, самых настоящих итальянских мандолин.
– Такого еще ни у кого и никогда не было! Ансамбль из двадцати восьми мандолин – это мощно, современно и красиво! – скорее уговаривая самого себя, рассказывал Дрыга.
– Да, товарищ майор, таких ансамблей действительно нет нигде в мире… но где мы найдем двадцать восемь воинов, играющих на мандолинах? Это же даже не балалайки.
– Научим, – не унывал Дрыга, – надо приобщать солдат к мировому искусству.
Что на самом деле произошло с этим человеком за прошедшие три дня, мы так и не узнали.
Эти мандолины так и провалялись в кабинете политрука до конца нашей службы. Только изредка одну брал Володя Синицын и потрясающе красиво играл наши любимые песни «Битлз». Володе было всё равно, на чем играть, лишь бы были струны на палке, а всё остальное он делал с ними как бог.
Однажды, войдя быстрым шагом в мастерскую художников, где ребята собственноручно изготовляли всю наглядную агитацию, которая потом висела во всех казармах, Дрыга решил, что сейчас он будет бороться за чистоту и порядок.
– Что за безобразие?! Почему всё разбросано? Везде мусор! Немедленно навести порядок!
Он энергично ходил по мастерской и демонстративно швырял на пол всё, что попадалось ему под руку.
– А это еще что за мазня? – спросил он, взяв в руку доску, на которой ребята разводили краску и подбирали цвета.
Понимая, что доска сейчас тоже полетит на пол, а потом надо будет часами оттирать его от краски, Володя Анохин подчеркнуто спокойно и интеллигентно сказал:
– Это картина, товарищ майор.
– Какая еще, нах, картина? – изумился Дрыга и начал крутить доску, чтобы понять, где у этой картины хотя бы верх и низ.
– Это абстрактная картина, товарищ майор.
Дрыге решительно не нравилось происходящее, но швырнуть картину на пол, будучи политруком батальона, он уже не мог. Очевидно будучи поклонником соцреализма, он ее аккуратно, даже бережно положил на стол и торжественно произнес фразу, которая осталась с нами навсегда:
– Запомните, воины! – Многозначительная пауза, взгляд вдаль. – Нам абстракт не нужен! Нам конкрет подавай.

Приехав с инспекцией в наш караул на Новой Земле, Дрыга был невероятно оживлен. Оказалось, он стал большим поклонником подледного лова, после того как кто-то ему рассказал, насколько это чудесно. Рыбак, ядрёнть!
– Ты и ты, мухой мне лунку организуйте. Буду на мормышку ловить.
В отличие от замполита, ребята тут службу несли уже несколько месяцев и лучше ориентировались в местных реалиях и, в частности, в возможностях рыбной ловли, на минуту, в Северном Ледовитом океане зимой. Несмотря на то что тогда не было интернета, они знали, что в это время года толщина льда достигает четырех, а местами и восьми метров. Поэтому, продырявив лед сантиметров на сорок и залив дырку водой из ведра, они доложили:
– Тащ майор, ваше приказание выполнено. Лунка готова.
Надо ли говорить, что четыре следующих часа, проведенные замполитом возле «лунки» в свирепый мороз, закончились тем, что так ничего, естественно, и не выловившего из простой ямки с водой, но вконец окоченевшего и сильно пьяного, надо же было как-то согреваться, абсолютно несчастного и громко матерящегося майора Дрыгу ребята просто как бревно занесли в караулку и хором над распластанным телом спели сочиненную кем-то песенку:
Как тебе, должно быть, обидно,
Что жена твоя дрыгидна!
К счастью, майор Дрыга этого уже не помнил.
Солдатская месть страшна и беспощадна.
Нам довелось служить в Москве в поистине исторический момент открытия московской Олимпиады. Для поддержания порядка в эти дни в деле были все части Московского гарнизона. Случилось так, что, стоя в оцеплении перед мостом к Красной площади возле гостиницы «Балчуг», Гива Потикян встретил свою маму. Картина, достойная кино. Мама и сын-солдат, несущий службу. Даже строгий капитан Секачев, произнеся свое коронное, но в этот раз вполне уместное «Парадокс!», растрогался и дал солдату десять минут побыть с мамой во время несения службы.
Чуть позже Гивина мама скончалась от болезни, о серьезности которой Гивуше не говорили, понимая, что в армии и так тяжело. Меня вызвал к себе полковник Селезнев:
– У рядового Потикяна скончалась мать. Он этого еще не знает. Мы должны отпустить его на похороны. Оформи приказ и на себя тоже на отпуск на три дня. Будешь рядом с ним, вы же дружите вроде? Подготовь его, сообщи, что произошло, и не оставляй его одного. Я знаю, что такое в таком раннем возрасте потерять мать.
Вот и получилось, что чуть ли не в один из последних раз Гива видел маму, стоя в оцеплении на Красной площади.
Караул
Устраивая меня по знакомству в блатную часть на службу в Москве, мой папа даже не догадывался, чем там придется заниматься. А занимался наш батальон, единственный в стране, охраной полигонов, где проводили ядерные испытания, тогда еще разрешенные.
Случалось, что, когда не хватало людей, к непосредственной караульной службе привлекали и нас – так называемую интеллигенцию. Случилось и мне побывать на краю света, в глухой казахстанской степи.
Ехали мы туда долго и эмоционально. Можете себе представить состояние солдата в салоне гражданского рейсового самолета, следующего к месту несения службы, когда к нему, больше года не видевшему живых девушек, подходит стюардесса как с рекламного плаката и просит пристегнуться? Полный паралич тела с полным онемением работы головного мозга и органов речи. В его глазах одновременно и ужас, и страх, и восторг, и бессилие, и желание, и готовность прямо тут жениться.
– Эй, солдатик, пристегнись, – помогает взрослый мужчина, сидящий через проход, в отличие от стюардессы понимающий, что происходит.
Полет, а это более четырех часов, весь караул провел в гробовой тишине, подавленный происходящим. Когда стали разносить еду, с нами случился следующий удар. Красивые девушки приносят настоящую еду. Не армейский паек, а настоящую еду. Как и у всех остальных пассажиров самолета. Может, мы тоже нормальные люди?
В Семипалатинске пересели на поезд. Когда по вагону объявили, что поезд прибыл на конечную станцию, начальник караула майор Таранов велел оставаться на своих местах. Мы начали было волноваться, но после этого поезд еще довольно долго без остановок ехал, пока уже глубокой ночью не встал и мы не получили команду выгружаться. Привели нас в какое-то помещение и приказали не расходиться, размещаться, отдыхать и спать. Прямо тут, на ледяном каменном полу. Вповалку, на своих же шинелях.
Не-е-ет! Все-таки мы просто солдаты, а не обычные люди. Самолет и стюардессы нам, видимо, приснились.
Утром мы погрузились в грузовик и еще несколько часов ехали по степи неизвестно куда. В конце концов мы добрались до палаточного городка, по которому с деловым видом ходили бородатые люди в свитерах. Типичные физики из советских фильмов. Самое любопытное, что, как оказалось, это и были физики, которые в самой большой палатке в центре городка собирали…
…атомную бомбу. Да. Самую. Настоящую. Атомную, мать ее, бомбу.
И нам эту бомбу предстояло охранять.
Классический трехсменный караул: одна смена возле объекта, вторая – тревожная – бдит в караулке, готовая в случае чего выдвинуться к месту происшествия, третья спит. Всё как учили.
Через пару дней из-за нехватки людей нескольких наших ребят перевели на другой объект. У нас стала двухсменка. Четыре часа пост. Два бдеть в караулке, и два часа сон. Без разницы – ночь, день. Довольно быстро ты с двадцатичетырехчасового исчисления переходишь на четырехчасовое, путаясь в днях и времени суток.
После первой недели явно скучающий майор Таранов сообщил, что едет в центр за провиантом. Оставил старшим сержанта Дуба и был таков. Как выяснилось позже, приехав в центр, майор Таранов крепко выпил, проиграл в карты все наши талоны на питание, впал из-за этого в депрессию, а следом в запой и в карауле больше так и не появился, вступив в интимную связь с легендарной местной поварихой Ольгой, которая в том числе продолжала кормить проигравшегося офицера за свои ночные приключения.
А что же караул, спросите вы? Почти три недели объект государственной важности и сверхсекретности охраняли простые солдаты срочной службы, оставшиеся без еды, питья и командира.
Довольно скоро мы поняли, что помощи нам ждать неоткуда. Таранов нас кинул. У нас было несколько ящиков сгущенки, и всё. Сержант Якубовский – это тот, который, заполняя анкету еще в учебке, в графе «специальность» честно написал «браконьер» и был сильно удивлен, что такой специальности, оказывается, не существует, – соорудил из подручных средств капкан. По нашему плану мы должны были поймать сайгака, водившегося в этих краях. Сайгака не поймали, но живность помельче попадалась, а самое главное, к нам с претензиями из-за этого самого капкана явился пастух со своим стадом баранов. Каким образом в абсолютно засекреченном месте возле настоящей атомной бомбы, невзирая на четыре кольца колючей проволоки и строжайшего пропускного режима, оказался казахский пастух, история умалчивает – это, видимо, сюжет другого кино.
Короче: на сапоги одного из нас, шинель и значок «Отличник боевой службы» мы выменяли кучу еды – картошку, гречку и даже мясо.
Справедливости ради надо сказать, что службу мы несли ответственно и по всей науке. Сержанты Дуб и Якубовский посменно командовали караулкой. Всё происходило секунда в секунду. Руководство физиков так и не заметило отсутствия у нас офицера. Сами физики, видя, что из-за двухсменки мы начинали теряться в пространстве, поддерживали нас как могли: выдали нам магнитолу и две кассеты Высоцкого, которые играли у нас в караулке круглосуточно. В свои праздники, видимо, когда они, как мы говорили между собой, заканчивали паять очередной блок бомбы, выдавали нам с нежными напутствиями не злоупотреблять бидончик с чистейшим спиртом, которого у них было без ограничений. При этом они по-отечески рекомендовали не разбавлять спирт водой, а пить чистый – для здоровья исключительно.
Как я уже говорил, Дуб и Якубовский поддерживали идеальную дисциплину. Спирт выдавали дозированно, сами этим делом сильно не увлекались.
Мы были настоящими Советскими Солдатами, потерявшими на боевом задании командира. Мы служили Родине.
Ну и…
Мы совершенно точно отдавали себе отчет в том, что если подвиги Тараныча станут известны, то не только он, но и мы все за сокрытие загремим под трибунал с приличными сроками.
За несколько дней до Работы – так называли физики собственно взрыв той самой бомбы, которую мы охраняли, – вокруг главной палатки привезли и расставили клетки с разными животными: собаками, кошками, свиньями и т. д. Вечером прошел человек с большим пульверизатором и покрасил клетки и всех, кто в них был, в разные цвета. Делали это для того, как нам объясняли, чтобы после взрыва иметь возможность анализировать, на каком расстоянии и в какой степени воздействует взрыв и радиация на разных животных.
Работа была назначена на 8:52 утра. Я, признаться, не понимал, почему не в девять ровно, например. Как бы то ни было, мы видели волнение в рядах физиков. Приехали в больших количествах люди в костюмах и галстуках. Генералов с лампасами было больше, чем просто солдат. Волнение передалось и животным. Ощущая приближающийся апокалипсис, они всю ночь выли страшно и безостановочно. Самые находчивые из них как-то выбирались из своих клеток и носились в ночи. Всё это действительно напоминало ад. Когда ты стоишь возле палатки с Бомбой в кромешной темноте под светом одинокой лампы Ильича, а мимо тебя пробегают зеленые собаки и синие свиньи, ты реально перестаешь понимать, где ты и зачем. Не забывайте, что мы еще и реально недоедали несколько недель и яростно недосыпали.
Так получилось, что мое время стоять возле палатки аккурат выпадало на те самые 8:52.
Я спрашивал у более опытных ребят, что мне следует делать. На это они, тяжело вздыхая, говорили:
– Должен стоять до конца возле охраняемого объекта, воин. Покидать его нельзя ни в коем случае без особой команды. В принципе, за тобой должны приехать и забрать минут за десять до Работы. Ну, если не забудут и если не возникнут какие-либо проблемы, заберут. Наверное.
И вот тут ты начинаешь вспоминать, что солдат – это всего лишь пушечное мясо и жизни его грош цена. Ну, напишут потом родителям казенное письмо о том, что героически при исполнении воинского долга… ну и так далее.
Утром стою возле объекта. Где-то минут за тридцать до назначенного времени подъехала машина, Дуб загрузил туда всех наших, поснимали все посты, оставив только один:
– Ну, зёма, мы тебя в бункере будем ждать. Не бэ, всё будет зашибись. Ждем. Но, на всяк случай, давай обнимемся. Если че надо, говори, всё передадим родителям.
Минут за десять до взрыва на бешеной скорости на горизонте появился «газон», в который на полном ходу запрыгивали физик и какие-то еще люди, человека три-четыре. Оказывается, я тут был не один.
Побежали в разные стороны с диким визгом выпущенные на волю цветные животные.
Я всё-таки последний. «Газик» приближается. Хватаюсь за высунутую руку и на огромной скорости то ли впрыгиваю, то ли меня затаскивают в не снижающую скорость машину. На максимально возможной скорости для машины такого типа по бездорожью едем в непонятном направлении.
– Мы куда едем, люди?
– В никуда. Просто против ветра. Чтобы гриб нас не достал, – как-то неуверенно объясняет физик.
Водитель, глядя в зеркало заднего вида, резко выпрямился: