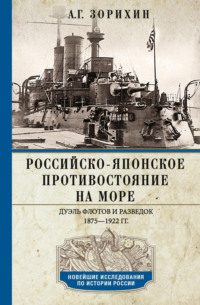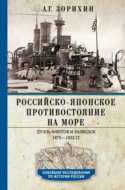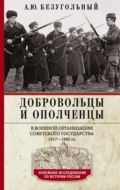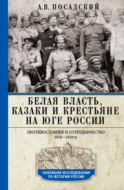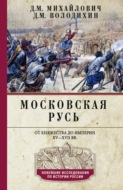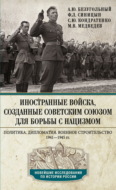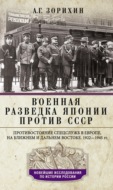Kitabı oxu: «Российско-японское противостояние на море. Дуэль флотов и разведок. 1875-1922»
© Зорихин А.Г., 2025
© «Центрполиграф», 2025
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2025
Оформление художника Я.А. Галеевой
* * *

Введение
История российско-японских отношений конца XIX – первой четверти XX в. по праву остаётся одной из наиболее востребованных тем для исследователей, поскольку победа Японии в кампании 1904–1905 гг., в которой, казалось бы, должна была выиграть большая по площади, населению и ресурсам держава, не укладывается в привычные стереотипы. Разгром 2-й Тихоокеанской эскадры в Цусимском сражении (1905) стал не только одной из причин поражения России в этой войне, но и имел следствием тотальное доминирование японского флота над царским (советским) на Дальнем Востоке вплоть до капитуляции Токио в сентябре 1945 г.
Однако в тени Русско-японской войны остаётся иностранная интервенция в нашу страну в 1918–1922 гг., в которой Япония и её военно-морские силы также приняли деятельное участие. В обеих кампаниях успех действий этого островного государства и его флота был во многом предопределён результативной работой разведывательных органов империи.
И если о деятельности военной разведки Японии в 1875–1922 гг. известно достаточно много, то об её военно-морском собрате знают в основном посвящённые. Причина проста – исследовательская лакуна связана с малым числом введённых в оборот первоисточников и сложностями с их переводом с классического японского языка начала XX в.
Тем не менее архивная революция и цифровизация документальных коллекций позволяют сегодня пересмотреть устоявшиеся представления о деятельности разведывательных органов ВМФ Японии, оценить их вклад в строительство военной мощи империи, реализацию внешней политики Токио на российском и советском направлениях, рассказать о наиболее ярких представителях военно-морской разведки, среди которых были, например, первый японский морской офицер-стажёр в Санкт-Петербурге легендарный капитан 2-го ранга Хиросэ Такэо или один из творцов победы в кампании 1904–1905 гг. на море резидент Морского Генерального штаба (МГШ) в Чифу капитан 1-го ранга Ямасита Гэнтаро, ставший позднее главнокомандующим Объединённым флотом.
Оценивая изученность вынесенной в заголовок книги проблемы, следует признать, что в отечественной историографии деятельность разведки японского флота рассматривалась слабо.
Впервые на этот вопрос исследователи обратили внимание по окончании Русско-японской войны, когда под впечатлением поражения царского флота в российском обществе стали слагаться легенды о тотальном засилье японских шпионов. Однако даже в таких солидных трудах Военно-исторической комиссии и исторической комиссии при Морском Генеральном штабе, как «Русско-японская война 1904–1905 гг.» (1910–1918), о военно-морской разведке Японии не говорилось ни слова, хотя к агентуре империи в Восточной Сибири, Маньчжурии и на Квантунском полуострове были причислены практически все проживавшие там японские колонисты1. Впоследствии миф о широком проникновении японских разведчиков был повторён А. Вотиновым в книге «Японский шпионаж в русско-японскую войну 1904–1905 гг.» (1939) и коллективом авторов совместной монографии Академии наук и Института военной истории Министерства обороны СССР «История русско-японской войны 1904–1905 гг.» (1977), в которой, в частности, утверждалось, что «задолго до начала войны Генеральный штаб японской армии заслал в район размещения русских войск на Дальнем Востоке большое количество агентов, от которых получал все необходимые сведения о количестве войск, уровне их подготовки, материальных запасах, состоянии и работе транспорта»2.
Необходимо признать, что в советский период в открытых и закрытых исследованиях японская военно-морская разведка если и упоминалась, то лишь в контексте деятельности её резидентуры в Сэйсине (Чхонджине) против Тихоокеанского флота в 1935–1945 гг. и неудачной попытки советской военной контрразведки задержать по горячим следам руководителя этого разведаппарата капитана 1-го ранга Минодзума Дзюндзи3. Период 1875–1922 гг. остался вне поля зрения историков, что обусловливалось отсутствием доступных им источников на японском языке.
Ситуация долго не менялась и после распада Советского Союза. Несмотря на большое количество выполненных за последнее время диссертационных исследований, посвящённых российско-японскому разведывательному противостоянию в конце XIX – первой четверти XX в., ни в одном из них военно-морская разведка империи не фигурирует4. Показателен в этом плане труд И.Н. Кравцева «Японская разведка на рубеже XIX–XX веков (Документальное исследование о деятельности японской разведки в указанный период)» (2004), в котором автор ни разу не упомянул о существовании в императорском флоте самостоятельной разведслужбы, а находившихся в Санкт-Петербурге в 1898–1902 гг. военно-морского атташе капитана 2-го ранга Ясиро Рокуро и его помощника капитана 3-го ранга Хиросэ Такэо причислил к военной разведке5. Единственными работами, в которых фигурируют офицеры военно-морской разведки Японии, действовавшие против России, стали монографии Д.Б. Павлова «Русско-японская война 1904–1905 гг.: Секретные операции на суше и море» (2004) и «Русско-японские отношения в годы Первой мировой войны» (2014), написанные, однако, только на основе российских и британских источников6.
Коренной перелом в исследовании Русско-японской войны и деятельности разведорганов Японии произошёл в 2011 г., когда историк-японист А.В. Полутов (г. Владивосток) защитил кандидатскую диссертацию «Японская военно-морская разведка и её деятельность против России накануне русско-японской войны 1904–1905 гг.». В ней он впервые в отечественной историографии рассмотрел историю становления и результаты деятельности японской военной и военно-морской разведок на русском направлении в 1875–1904 гг. с опорой на ранее неизвестные документы из архивов Научно-исследовательского института обороны министерства национальной обороны (НИИО МНО), министерства иностранных дел (МИД), Национального архива Японии, в том числе «Совершенно секретная история войны на море 37–38 гг. Мэйдзи». В других публикациях этот талантливый историк затронул работу японской военно-морской разведки против нашей страны в 1904–1922 гг., что делает их ценным источником, особенно для тех русскоязычных авторов, кто не владеет японским языком7. К сожалению, скоропостижная кончина А.В. Полутова в 2016 г. не позволила ему обнародовать весь массив накопленной информации по истории российско-японских отношений конца XIX – первой половины XX в.
В европейской и американской историографии фактическое изучение истории японской военно-морской разведки началось после Второй мировой войны, когда в распоряжение американских оккупационных властей попали документы МИД, МГШ и военно-морского министерства Японии.
Классическим трудом по истории разведорганов военно-морского флота Японии стала коллективная монография Дэвида Эванса и Марка Питти «Кайгун: стратегия, тактика и технологии императорского флота Японии, 1887–1941». В ней исследователи провели детальный анализ процесса становления ВМФ Японии, развития его оперативного искусства и судостроения, показали роль флотской разведки в выработке морской доктрины империи и достижении паритета с крупнейшими мировыми державами8. Эти же вопросы рассмотрены британским историком Яном Гоу через биографию начальника МГШ адмирала Като Хирохару (Кандзи), находившегося в 1899–1902 гг. на разведывательной работе в Санкт-Петербурге, и Чарльзом Шэнкингом, изучившим становление японского флота в 1868–1922 г.9
Достаточно подробно деятельность военно-морской разведки Японии накануне и в ходе кампании 1904–1905 гг. описана крупнейшим британским японоведом Яном Нишем и австралийскими историками супругами Дэнисом и Пэгги Уорнэрами10. Отдельные аспекты участия офицеров раз ведки флота в подготовке так называемой «сибирской экспе диции» на советский Дальний Восток в 1917–1918 гг. рассмотрены Джеймсом Морли в монографии «Японское проникновение в Сибирь, 1918», в которой он впервые ввёл в оборот большой объём считавшихся утраченными документов из японских архивов11.
История разведорганов японского флота с 1900 по 1945 г., особенно в контексте их взаимоотношений с разведками Великобритании и Германии, исследована в работах американского японоведа Джона Чэпмэна12. Однако, как и в случае с отечественной исторической наукой, обобщающий труд о деятельности военно-морской разведки Японии в 1875–1922 гг. на Западе ещё не написан, а уже имеющиеся работы акцентируют внимание главным образом на её участии в тихоокеанской кампании Второй мировой войны13.
В японской историографии исследование деятельности военно-морской разведки империи против нашей страны в рассматриваемый период получило широкое распространение, хотя события межвоенного периода, Первой мировой войны и японской интервенции на советском Дальнем Востоке изучены слабо.
Впервые участие разведывательных органов императорского флота в осуществлении «сибирской экспедиции» (1917–1922) было проанализировано специалистами Морского Генштаба Японии в четырёхтомнике «История боевых действий военно-морского флота Японии в 1915–1920 гг.»14.
В 1985 г. профессор Академии национальной обороны Тояма Сабуро опубликовал двухтомник «Исследование истории Русско-японской войны на море», в котором на широком круге источников показал роль разведорганов императорского флота в подготовке и реализации кампании 1904–1905 гг.15
Сегодня одним из наиболее авторитетных специалистов по истории японской разведки является профессор университета «Мэйдзё» из Нагоя Инаба Тихару, который ввёл в оборот большее количество ранее недоступных исследователям документов из архивов МИД и НИИО МНО Японии. В изучении истории японской военно-морской разведки данный исследователь сосредоточился в основном на событиях 1904–1905 гг.16
Процессу становления и развития зарубежного разведаппарата МГШ в первой половине XX в. посвящена статья Утияма Масакума17. В работе Симада Киндзи подробно изучены жизнь и деятельность одного из первых резидентов военно-морской разведки Японии в европейской части нашей страны капитана 3-го ранга Хиросэ Такэо, находившегося в Санкт-Петербурге с 1897 по 1902 г.18 Ещё больший интерес у японских исследователей вызывает фигура последнего военно-морского министра империи Ёнаи Мицумаса, который с 1915 по 1922 г. руководил разведывательным аппаратом МГШ в России и Польше, а в 1926–1928 гг. возглавлял флотскую разведку19.
К числу обобщающих трудов следует отнести монографию полковника в отставке Арига Цутао «Разведывательные органы японской императорской армии и флота и их деятельность». В ней автор сосредоточил внимание на процессах формирования и функционирования разведслужб Генерального и Морского Генерального штабов после так называемого «маньчжурского инцидента» (1931), хотя отдельные параграфы посвящены событиями первой четверти XX в.20
Большой объём фактического материала об организационно-штатной структуре Разведуправления МГШ, руководителях его зарубежного разведаппарата и подробные послужные списки сотрудников содержатся в «Биографическом справочнике офицеров японского флота», «Справочнике по организационно-штатной структуре японского флота», «Полной энциклопедии японской армии и флота» и «Общем обзоре личных дел генералов и адмиралов японской армии и флота. Раздел „Военно-морской флот“»21.
Отдельным пластом исследований выступает история службы радиоразведки и криптоанализа флота, которая, в отличие от её армейского аналога, не подчинялась начальнику военно-морской разведки Японии. Изучением деятельности радиоразведки в Русско-японской войне, в частности, занимались Ёсида Акихико, Томидзава Итиро и Наката Рёхэй22.
Кроме того, вопросы влияния информации разведывательных органов флота на строительство военно-морских сил, военное планирование Японии и выработка ею внешнеполитического курса в отношении Российской империи и СССР в 1904–1922 гг. фрагментарно рассмотрены в первых четырёх томах 11-томной «Истории японского военно-морского флота»23.
Резюмируя вышеизложенное, следует признать, что, несмотря на наличие в отечественной и зарубежной исторической науке исследований о деятельности военно-морской разведки Японии против России и СССР, период с 1875 по 1922 г. изучен недостаточно полно и нуждается в специальном рассмотрении.
Поэтому выносимая на суд читателей работа представляет собой первое в нашей стране комплексное исследование по истории возникновения, развития и функционирования органов военно-морской разведки Японии в конце XIX – первой четверти XX в., написанное в сопоставлении российских и японских источников. Хронологические рамки данной книги охватывают период с 1875 по 1922 г. Нижний рубеж связан с началом деятельности флотской разведки против нашей страны, а вывод японских войск с территории советского Дальнего Востока в октябре 1922 г. обусловил верхнюю границу, хотя в ряде случаев эти границы сдвигаются, что вызвано необходимостью проследить отдельные аспекты становления и развития разведорганов императорского флота.
Территориальные рамки книги в основном ограничены Японией, Китаем, Кореей, Российской империей и Советской Россией, однако в некоторых параграфах для всестороннего рассмотрения затронутой проблематики они включают Европу, Америку, Африку и Ближний Восток.
При подготовке исследования автором было использовано большое количество разнообразных источников, главным образом опубликованных материалов и ранее не вводившихся в научный оборот архивных документов на русском, английском и японском языках.
Опубликованные источники условно поделены на две группы. К первой группе относятся договоры и дипломатические документы, касающиеся Дальнего Востока, представленные в различных сборниках, документы по истории борьбы с японским шпионажем накануне и в годы Русско-японской войны, справочные материалы о состоянии императорского военно-морского флота, Вооружённых сил Российской империи и Советской России, переписка МИД и центральных органов военного управления Японии24.
Вторую группу составляют источники личного происхождения – воспоминания руководителей Белого движения и сотрудников японской военно-морской разведки. Среди них – мемуары командующего Сибирской военной флотилией контр-адмирала Г.К. Старка и дневниковые записи начальника МГШ адмирала Като Хирохару25.
Архивную базу исследования составили материалы Архива внешней политики Российской империи и Государственного архива Российской Федерации, раскрывающие отдельные направления деятельности отечественных специальных органов против японской разведки в 1903— 917 гг.26
Кроме того, при написании книги были использованы две группы материалов на японском языке из архива Научно-исследовательского института обороны министерства национальной обороны, архива министерства иностранных дел и Национального архива Японии27.
К первой относятся императорские указы, нормативно-правовые акты кабинета министров, военно-морского министерства, Морского Генерального штаба, регулирующие деятельность разведывательных органов флота, планирующая и финансовая документация различных ведомств.
Во вторую группу попали доклады военно-морских атташе, руководителей зарубежных разведаппаратов МГШ, донесения дипломатических миссий и разведывательных органов армии, информационные материалы центрального аппарата флотской разведки по российской тематике.
Все даты приводятся по григорианскому календарю (новому стилю). Современные названия населённых пунктов указаны в скобках.
В связи с неоднократными изменениями названий военно-морская разведка Японии далее для краткости будет именоваться «Разведывательное управление Морского Генерального штаба» (РУ МГШ).
Автор благодарит за помощь в написании книги родителей, д.и.н. Ю.С. Пестушко, д.и.н. Р.С. Авилова, к.и.н. С.В. Тужилина, к.и.н. А.В. Полутова, В.Г. Зорихина, В.В. Овсянникова, А.С. Колесникова, С.А. Куртинец, А.Е. Кулагина, доктора наук Здзислава Капера, А.А. Кириченко, М.М. Зензину.
Глава 1
Военно-морское противостояние в 1875–1905 гг.
§ 1. На пути к Цусиме (1875–1901 гг.)
Создание разведывательных органов армии и флота Японии было связано с начавшейся в 1867 г. реставрацией Мэйдзи и превращением империи в регионального лидера. Реализуя свою внешнюю политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Япония в 1871 г. взяла курс на организацию мощных Вооружённых сил. Вплоть до 1882 г. главным противником империи на суше и море, по мнению её руководства, выступала Россия.
На это, в частности, указывал подготовленный министерством военных дел Японии в июне 1870 г. «Проект организации военно-морского флота в целом», который так определял место нашей страны в системе военных угроз для империи: «Заветной мечтой России является, вероятно, объединение под своим началом европейского и азиатского континентов. Прилагая для достижения этой цели усилия, действуя очень расчётливо и на опережение, преодолевая невзгоды, пожиная плоды, она будет постепенно расширять территорию своего государства… Однако Россия до сих пор в общем не добилась поставленной цели, потому что не заполучила в Азии пригодные для развёртывания средиземноморского флота владения. Раньше она планировала, завоевав Турцию, вклиниться в Средиземноморье и тем самым разъединить Европу и Азию. Однако её намерения были сорваны совместным выступлением Великобритании и Франции [речь идёт о Крымской войне 1853–1856 гг.– Авт.]. В последнее время, прибрав к своим рукам лежащие вдоль Амура земли в Маньчжурии [речь идёт об Айгунском договоре 1858 г.– Авт.], Россия вплотную приблизилась к нашему Хоккайдо и Корее и в этой связи будет оказывать давление на северные границы империи, Китая и Кореи»28.
В развитие темы российской угрозы 2 февраля 1872 г. старший заместитель министра военных дел Ямагата Аритомо, младший заместитель по армии Сайго Цугумити и младший заместитель по флоту Кавамура Сумиёси представили правительству докладную записку, в которой отметили, что «в настоящее время Россия, с высокомерием и яростью разорвав севастопольские соглашения [речь идёт о Лондонской конференции 1871 г.– Авт.], разместила свой флот на Чёрном море, на юге покорила все мусульманские страны [речь идёт о присоединении Кокандского, Хивинского ханств, Илийского султаната и Бухарского эмирата в 1850–1872 гг.– Авт.] и протянула руки в сторону Индии, на западе, перейдя границы Маньчжурии, намерена продвинуться по верхнему и нижнему течению Амура», поэтому предложили «в кратчайшие сроки закончить подготовку к столкновению с ней как с наиболее вероятным противником, направив на это все силы нашего государства»29.
В целом Россия оставалась основным потенциальным противником Японии на протяжении семидесятых годов XIX в., даже несмотря на подписание 7 мая 1875 г. петербургского договора «Об обмене Сахалина на Курильские острова», урегулировавшего территориальный спор между нашими странами. Перелом в восприятии японским правительством потенциальной угрозы со стороны России произошёл только в 1882 г., когда обострились противоречия с цинским Китаем за право обладания Кореей.
Строительство военно-морского флота Японии изначально велось в рамках концепции его использования для защиты морского побережья империи под руководством армии. Этот подход обуславливался промышленным отставанием Японии от крупнейших стран Запада, в связи с чем в 1870-е гг. военно-морские силы империи насчитывали 16 деревянных парусных судов, которые были в плохом техническом состоянии и имели слабое вооружение.
По итогам тайваньской кампании 1874 г. правительство Японии взяло курс на достижение паритета с потенциальными противниками на море и разместило в мае 1875 г. заказ на строительство на верфях британских компаний «Earle’s» и «Milford Haven» броненосного фрегата «Фусо», броненосных корветов «Конго» и «Хиэй»30. Ещё раньше, в 1873 г., в Токио прибыла британская военно-морская миссия во главе с капитаном 2-го ранга Арчибальдом Дугласом, которая сыграла ключевую роль в организации боевой подготовки японского флота и знакомстве его командного состава с основами морской стратегии и тактики. Сначала преподавание велось в образованной в 1869 г. Военно-морской академии, которая готовила младший офицерский состав флота, однако 14 июля 1888 г. в токийском районе Цукидзи был открыт Военно-морской штабной колледж, обучавший средний и старший командный состав31.
Осознавая явное отставание японского флота от флотов потенциальных противников, 20 декабря 1881 г. военно-морской министр Кавамура Сумиёси обратился к правительству с предложением заложить в бюджет расходы на строительство в течение 20 лет 60 броненосных кораблей32. Хотя оно было отклонено по финансовым соображениям, через год, 15 ноября 1882 г., Кавамура направил в адрес кабинета министров новое обращение с просьбой одобрить 8-летнюю программу строительства 48 кораблей, мотивируя её обострением из-за спора о принадлежности о. Рюкю и соперничества за Корею отношений с Китаем, имевшим флот в 60 вымпелов, а также потребностью охраны морских перевозок на случай столкновения с Россией33. Правительство утвердило программу строительства только 32 боевых кораблей в дополнение к 10 уже имевшимся или заложенным. В 1892 г. амбиции ВМФ были урезаны до постройки 19 боевых кораблей основных классов (4 эскадренных броненосца, 4 броненосных крейсера, 6 бронепалубных крейсеров 2-го, 3-го и 4-го классов, 3 минно-торпедные канонерские лодки, 2 авизо)34.
Ядром флота должны были стать броненосцы и бронепалубные крейсеры. Однако эскадренные броненосцы «Ясима» и «Фудзи» Токио смог заложить на британских верфях Армстронга только в ходе японо-китайской войны во второй половине 1894 г. Лучше обстояло дело с бронепалубными крейсерами: в 1885–1893 гг. в состав японского флота вошли построенные в Великобритании «Ёсино», «Нанива», «Такатихо» и «Тиёда». Ещё 3 корабля этого класса – «Унэби», «Мацусима» и «Ицукусима» – строились во Франции, войдя в состав императорского ВМФ в 1891–1892 гг. («Унэби» погиб в 1886 г. во время перехода в Японию). Кроме того, в 1888–1894 гг. военно-морское министерство Японии разместило заказ на строительство бронепалубных крейсеров «Хасидатэ», «Акицусима», «Сума» и «Акаси» на верфи образованного в 1884 г. арсенала в Йокосука. Скорость реализации кораблестроительной программы систематически корректировалась с учётом финансового состояния империи: если в декабре 1882 г. в составе японского флота числилось всего 27 боевых кораблей (28 837 тонн), то в декабре 1890 г.– уже 39 (58 449 тонн), а к началу 1894 г. этот показатель достиг 53 единиц (62 474 тонны)35.
Постепенное пополнение новыми боевыми кораблями усложняло организацию японского флота в семидесятых – восьмидесятых годах XIX в. Ещё 14 сентября 1876 г. в Йокогама был образован Восточный военно-морской район (ВМР), являвшийся высшим органом управления корабельными силами, береговыми частями, судостроительными и судоремонтными предприятиями, арсеналами и хранилищами угля ВМФ на восточном побережье Японии. В декабре 1884 г. командование района было переведено в Йокосука. Позднее были образованы ВМР в Курэ (1889), Сасэбо (1889) и Майдзуру (1901), которым в соответствии с «Положением о военно-морском районе» от 22 апреля 1886 г. подчинялись по территориальности все базирующиеся на районы корабельные силы, военнослужащие и гражданский персонал ВМФ, судостроительные и судоремонтные предприятия, арсеналы, склады, хранилища, госпитали, мобилизационные органы и учебные подразделения. В рамках очерченного круга задач на офицеров штаба каждого ВМР возлагалась обязанность сбора информации об обстановке в прибрежных районах36.
По мере роста корабельного состава японские ВМС постепенно превращались из прибрежных в морские, что нашло отражение в развернувшейся в 1885 г. пропагандистской компании под лозунгом «Япония – морская держава!», которая продвигала в массы идею строительства мощного военного и гражданского флота ради усиления японского присутствия в западной части Тихого океана37. Поэтому 12 октября 1882 г. подчинявшиеся командующему Восточным ВМР 3 броненосца, 2 корвета, 2 шлюпа и 4 канонерские лодки были сведены в эскадру, которая под командованием контр-адмирала Нирэ Кагэнори отправилась к берегам Кореи для локализации последствий бунта сеульского гарнизона. Через два года эскадра была преобразована во Флотилию постоянной готовности, а все имевшиеся на тот момент боевые корабли в соответствии с принятым 26 апреля 1886 г. «Уставом ВМФ» распределены между Флотилией и Восточным районом. При этом, если ВМР решал военно-административные задачи и отвечал за оборону территориальных вод, то на командование флотов, флотилий и эскадр возлагалось проведение наступательно-оборонительных операций на ближних и дальних морских театрах38.
29 июля 1889 г. Флотилия постоянной готовности была преобразована во Флот постоянной готовности. В связи с обострением японо-китайских отношений 13 июля 1894 г. часть сил Флота была выделена в самостоятельный Охранный (с 19 июля – Западный) флот, однако с началом войны оба флота были сведены в Объединённый флот под командованием вице-адмирала Ито Сукэюки39.
Параллельно с усилением боевого состава флота Японии, усложнением его организации, повышением уровня подготовки личного состава в последней четверти XIX – начале XX в. шло непрерывное совершенствование центральных органов управления ВМФ, важное место среди которых занимала разведка.
Несмотря на образование 5 апреля 1872 г. на базе бывшего министерства военных дел независимых военного и военно-морского министерств, флот, в отличие от армии, не стал создавать свой орган оперативного управления – Морской Генеральный штаб, – а распределил задачи военного планирования, разведки, мобилизации и боевой подготовки среди 5 министерских бюро. Однако такая организация командования показала свою низкую эффективность, поэтому приказом по военно-морскому министерству от 8 февраля 1884 г. на базе его Бюро военно-морских дел было образовано Военное управление с функциями Морского Генерального штаба40. Хотя эта модель организации командования соответствовала принятому в японском флоте британскому образцу41, императорским указом от 18 марта 1886 г. Военное управление было выведено из состава военно-морского министерства и на правах Управления флота подчинено начальнику Генерального штаба армии.
Существование Управления (с мая 1888 г. Генерального штаба) флота внутри центрального органа военного управления армии явно не отвечало потребностям быстро растущих в 1880-х гг. военно-морских сил Японии, поэтому указом императора от 7 марта 1889 г. объединённый Генштаб был разделён на Генеральный штаб армии и Морское штабное управление, вновь подчинённое военно-морскому министру. Окончательное обособление Морского Генштаба произошло только 19 мая 1893 г., когда в рамках подготовки флота к войне против Китая император подписал указ о его выделении из состава военно-морского министерства и непосредственном подчинении начальника МГШ себе42. Начальник Генштаба армии сохранил руководство над всеми операциями сухопутных войск и флота во время войны в Императорской верховной ставке43.
Как самостоятельное подразделение центральных органов военного управления Японии флотская разведка появилась 14 апреля 1872 г. в виде бюро переводов военно-морского министерства. Месяц спустя бюро было упразднено и разведка на правах документационной группы вошла в состав Секретариата министерства. 19 мая 1874 г. группа была развёрнута в самостоятельный министерский отдел переводов, который только частично решал разведывательные задачи, поскольку занимался обработкой поступавшей к нему информации, но не был наделён правом отправки за рубеж резидентов.
8 февраля 1884 г. флотская разведка перешла в ведение 5-го отдела Военного управления военно-морского министерства, отвечавшего за «сбор документов и материалов по военной истории внутри страны и за рубежом, сведений о вооружённых силах иностранных государств, а также перевод, составление, размножение и хранение документов, имеющих практическое значение для флота»44. В декабре того же года отдел сменил номер на 4-й, а полтора года спустя стал 3-м бюро Управления флота Генерального штаба армии. На этом реорганизация флотской разведки не закончилась: в мае 1888 г. на правах 1-го бюро она вошла в Генштаб флота, а в марте 1889 г. стала 3-м отделом Морского штабного управления. Следующим этапом стало образование в мае 1893 г. 2-го бюро Морского Генштаба, отвечавшего не только за сбор информации, но также за инспекцию боевой подготовки. 26 марта 1896 г. бюро выделилось в самостоятельный разведывательный отдел с функциями «ведения агентурной разведки, перевода и издания иностранной военной литературы». В ноябре 1897 г. отдел был переименован в 3-е бюро45.
Несмотря на частую смену вывесок, штаты центрального аппарата военно-морской разведки на всём протяжении её существования оставались небольшими. Так, в соответствии с «Положением о Морском штабном управлении» от 7 марта 1889 г., в 3-м (разведывательном) отделе проходили службу 5 офицеров, в том числе 1 капитан 1-го ранга (начальник отдела), 1 капитан 3-го ранга и 3 капитан-лейтенанта. После организации 19 мая 1893 г. самостоятельного Морского Генерального штаба штаты его 2-го бюро увеличились на 1 офицера, ответственного за обработку военно-технической информации, 18 инженер-капитан-лейтенантов и инженер-капитанов 3-го ранга, а также 6 военно-морских редакторов и младших редакторов, находившихся за границей. Кроме того, по императорскому указу от 18 октября 1890 г. к Морскому штабному управлению были прикомандированы 13 офицеров из числа находившихся за границей резидентов. После образования в марте 1896 г. разведывательного отдела МГШ его численность уменьшилась до 5 офицеров центрального аппарата, 6 прикомандированных офицеров, 6 гражданских специалистов, и только в следующем году вновь образованное 3-е (разведывательное) бюро МГШ стало насчитывать 8 штатных, 10 прикомандированных офицеров и 10 гражданских специалистов46. Для взаимодействия с военной разведкой указом императора от 3 октября 1893 г. ко 2-му бюро МГШ был прикомандирован 1 офицер Генштаба47.
Штаты центрального аппарата военно-морской разведки Японии в 1889–1904 гг.48