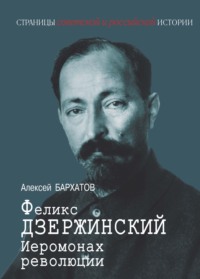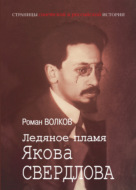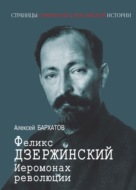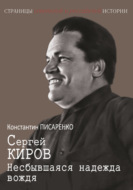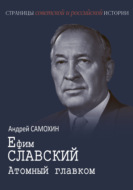Kitabı oxu: «Иеромонарх революции Феликс Дзержинский»

© Бархатов А. А., 2023
© Фонд поддержки социальных исследований, 2023
© ООО «Издательство «Вече», 2023
Вместо предисловия
Каким только не представал со страниц документальных, политических и публицистических книг образ «железного Феликса» за почти что столетие, отделяющее нас от его жизни, – от плакатно идеализированного, беспощадного и бескорыстного борца с врагами революции до неистового и кровавого фанатика-садиста. Впрочем, кто из активных деятелей российской, да и мировой истории избежал регулярных метаморфоз в мятущемся сознании современников и потомков?
Живописные полотна в приличных галереях рекомендуют беречь от попадания прямых солнечных лучей. Они вредят сохранности и мешают восприятию. Желательно к каждому подвести своё освещение. Истинные ценители и знатоки подолгу простаивают у холста, меняя ракурсы и расстояние, довольствуясь обнаружением ранее не замеченной детали, причудливого оттенка или даже просто какого-то необычного мазка.
Блики текущего дня также неизбежно отражаются и на восприятии нашим сознанием тех или иных исторических событий и персоналий. И, поверьте, здесь тоже немалую роль играют и ракурс, и расстояние, и освещение, и собственный взгляд, самоопределение, жизненная позиция – бросить камень вправе только тот, кто сам без греха. «Камней» и при жизни и после в Дзержинского кидали немало – кто откровенно, кто походя, исподтишка, вослед…
Опираться на мемуары в историческом исследовании надо с предельной осторожностью. Ибо один остроумный человек не без оснований определил сей род литературы как «рассказ о жизни, которую хотел бы прожить автор». Но все же нельзя не привести мнение двух людей, разных, но замечательных по своим проникновениям в суть жизни и времени, в характеры людей:
«Впервые я его видел в 1909–1910 годах, и уже тогда сразу же он вызвал у меня незабываемое впечатление душевной чистоты и твердости. В 1918–1921 годах я узнал его довольно близко, несколько раз беседовал с ним на очень щекотливую тему, часто обременял различными хлопотами; благодаря его душевной чуткости и справедливости было сделано много хорошего, он заставил меня и любить, и уважать его».
Максим Горький
«Думаю, что он не был плохим человеком, и даже по природе не был человеком жестоким. Это был фанатик. Производил впечатление человека одержимого. В нем было что-то жуткое. В прошлом он хотел стать католическим монахом и свою фанатическую веру перенес на коммунизм».
Николай Бердяев
«Не жизнь меня, а я жизнь поломал…» – признается мой герой, вовсе не отрицая изломов судьбы, но и не кивая при этом на лихие времена и обстоятельства, спутников и соратников, привычно принимая полную ответственность на себя.
Глава 1
Нескончаемый миг свободы
Последний раз бессильно и даже как бы жалобно лязгнуло железо тюремного затвора, заскулили проржавевшие, непривычные к распахиванию настежь петли. Будто хищная челюсть вечной неволи, проглотившая сотни, тысячи таких же жизней, как его, жадно клацнула и досадливо сжалась от близкой, но вдруг каким-то странным образом не доставшейся ей очередной жертвы.
Феликс не оглянулся. Хотя на мгновение представил, что и сейчас кто-то поднимает крышку дверного «глазка» и наблюдает, чтобы жертва не ускользнула из охраняемого пространства. Этот металлический звук – засовов, ключей, кандалов – давно звучал на все лады в его ушах, стал неизменным аккомпанементом тусклой, однообразной реальности, обрывочных снов и грёз. Их ведь и заковывают с целью отнять все и оставить только этот похоронный звон. Холодное, бездушное железо неотвратимо забирает тепло живого человеческого тела. Вечно алчущее этого тепла и никогда не насыщающееся.
Он так свыкся с этой страшной, отталкивающей и изнуряющей обстановкой. Свыкся с ощущением, что она навсегда поглотила того прежнего бледного юношу с саркастической улыбкой. Любое радужное будущее мнилось призрачным и недостижимым.
После суда перевели из Таганки в Бутырку и поместили в одиночную камеру внутренней тюрьмы, давно прозванной заключенными «Сахалином». Здесь не было ни имен, ни фамилий. Словно на смену жизни пришло прозябание, на смену действию – бездонное погружение в самого себя. Только кандалы и номера. Феликс Дзержинский стал № 217.

Ф. Дзержинский в период пребывания в Бутырской тюрьме.
1902 г. [РГАСПИ]

Ф. Дзержинский в период пребывания в Бутырской тюрьме.
1916 г. [РГАСПИ]

Бутырская тюрьма. Пугачевская башня.
[Из открытых источников]
По временам в ночной тиши воображение подсказывает какие-то движения, звуки, подыскивает для них место снаружи, за дверью, за окном, за забором или там, куда ведут заключенных, чтобы заковать их в цепи. Феликсу это чувство было знакомо ещё с Варшавской цитадели. В такие моменты он поднимался и чем больше вслушивался в застенную тишину, тем отчетливее слышал, будто тайком, с соблюдением строжайшей осторожности где-то пилят, обтесывают доски… «Готовят виселицу», – мелькало в голове, и уже не было никаких сомнений в этом. Он ложился, рывком натягивал одеяло на голову…
И в Варшавской цитадели, и в Седлецкой тюрьме он видел многих приговоренных к казни и их прощальные письма на стенах камер читал. Одно запомнил навсегда – «Теодор Яблонский, приговоренный к смерти. Камера № 48 (для смертников). Уже был врач. Сегодня состоится казнь. Прощай, жизнь! Прощайте, товарищи! Да здравствует революция!» Феликс не раз представлял, что чувствует обреченный. Он уже знает, ждет. К нему приходят, набрасываются, вяжут, затыкают рот… А может, он не сопротивляется, позволяет связать себе руки и надеть рубаху смерти. Его ведут и смотрят, как хватает его палач, видят предсмертные судороги…
Сейчас, когда открылась дверь его каменного саркофага, он верил и не верил… Может, вовсе и не реальность это? В снах почти всегда только и делал, что отчаянно гулял по воле, ясно представлял себе близкие лица – сестер, жены, даже сына Ясика, который родился в тюрьме и которого удалось увидеть лишь однажды в сиротском приюте, анонимно представившись дядей восьмимесячного ребенка… Эта галерея родных лиц постоянно двигалась в его больном рассудке, причудливо, как в калейдоскопе, меняла места, одни черты наплывали на другие, исчезали, проявлялись…
Попытаться ещё раз открыть уже открытые глаза? А вдруг окажется, что это лишь наваждение, давно прижившаяся комбинация мечты и надежды, серой яви и цветных картинок, присланных женой и сыном и прилепленных хлебным мякишем на стену камеры? Привиделось ведь прошлой ночью, что они вместе пускали мыльные пузыри. Радужные, переливающиеся перламутром, прекрасные… Шары плавно скользили по воздуху, а они, задрав головы, следили, тихонько поддувая и поддувая, чтобы эта прелесть не упала, чтобы красота жила как можно дольше… Вспомнив об этом, он уже по привычке перешел к прямому общению с сыном:
– Когда ты подрастешь, будешь большим и сильным, мы научимся сами летать на аэроплане и полетим, как птицы, к высоким горам, к облакам на небе, а под нами будут села и города, поля и леса, долины и реки, озера и моря, весь мир прекрасный. И солнце будет над нами, а мы будем лететь. Ясик мой, не огорчайся, что я теперь не с тобой, иначе не может быть, я люблю тебя, мое солнышко, и ты радость моя, хотя я тебя вижу только во сне и в мыслях. Ты вся радость моя. Будь хорошим, добрым, веселым и здоровым, чтобы всегда быть радостью для мамуси, для меня и для людей, чтобы, когда вырастешь, трудиться, радоваться самому своей работой и радовать других, быть им примером.





Письмо Ф. Дзержинского М. Ф. Николаевой из Седлецкой тюрьмы.
2 января 1899 г. [РГАСПИ]





Письмо Ф. Дзержинского М. Ф. Николаевой. 15 марта 1899 г.
[РГАСПИ]
Конечно, Феликс многому его научит, должен научить. Обязательно должен… Настоящее несчастье – это эгоизм. А где есть любовь и забота о других, там нет отчаяния…
Он понял это не сразу, далеко не сразу. С юности бежал от лунных тропинок личной любви к светлой столбовой дороге всеобщего счастья, дороге Революции, убеждая и себя, и других, что личное будет мешать борьбе, приторный мещанский уютик никогда не заменит истинной великой радости. А она не придет без борьбы, которая в свою очередь неизменно связана с лишениями и страданиями. Зачем же подвергать им ещё и любимого человека?
Скрепя сердце оттолкнул он в сибирской ссылке любимую и любившую его Риту Николаеву. Речь уже шла о венчании, но Феликс мучительно размышлял в своём дневнике: «Мне хочется с ней говорить, видеть ее серьезные, добрые очи, спорить с ней. Если она дома, мне трудно читать, сосредоточиться, все думается о ней… Как жалко, что она не мужчина. Мы могли бы быть тогда друзьями, и нам жилось бы хорошо… Женщин же я, право, боюсь. Боюсь, что дружба с женщиной непременно должна перейти в более зверское чувство. Я этого допускать не смею. Ведь тогда все мои планы, вся жизнь должна будет очень и очень сузиться. Я тогда сделаюсь невольником этого чувства и всех его последствий».
Вызванная очередным арестом разлука привела к окончательному решению: «Мне кажется, Вы поймете меня, и нам, право, лучше вовсе не стоит переписываться, это будет только раздражать Вас и меня. Я теперь на днях тем более еду в Сибирь на 5 лет – и значит, нам не придется встретиться в жизни никогда. Я – бродяга, а с бродягой подружиться – беду нажить».
Сейчас Феликс мыслит уже по-другому. Возмужал? Отказался от иллюзий? Или все изменило вспыхнувшее позже в Вильно чувство к другой девушке, Юлии Гольдман, тоже разделявшей его убеждения и искренне любившей. Он давно знал всю её революционную семью – братьев, отца. Уже все сладилось, сроднилось. Но внезапная болезнь и смерть отняли ее. А вскоре обрушилась на сердце и весть о гибели любимой племянницы Елены, дочери Альдоны. Он почувствовал себя абсолютно разбитым, физически и морально: «Альдоночка моя, твое горе – это мое горе, твои слезы – это мои слезы».
За необычайную его сердечную отзывчивость, чувствительность, постоянное стремление творить добро и любили его сестры. Душою и даже внешностью он напоминал им красавицу-мать Елену Игнатьевну, до замужества Янушевскую. Та же точеная стройность, те же тонкие аристократические черты лица, те же чуть прищуренные зеленоватые глаза и красиво выписанный небольшой рот, чуть опущенные снисходительной иронией уголки губ. Унаследовал он и многие черты её характера – стремление к справедливости, решительность, жизненную стойкость и удивительную работоспособность.
Долго предаваться унынию его горячая деятельная натура не могла. Воля и твердые убеждения взяли верх. Он вновь со всей энергией растворился в борьбе, в революции. «Никто меня к этому не понуждает, это лишь моя внутренняя потребность. Жизнь отняла у меня в борьбе одно за другим почти все, что я вынес из дома, из семьи, со школьной скамьи, и осталась во мне лишь одна пружина, которая толкает меня с неумолимой силой».

Ф. Дзержинский с Юлией и Михаилом Гольдманами.
Швейцария, 1910 г. [Из открытых источников]
Снова тайные поездки внутри империи и за границей, активная нелегальная работа, рабочие кружки, смена документов, кличек и имен, неизбежные аресты…
И совсем нежданная, особенно в революционном 1905 году, страстная, но, увы, несчастная любовь. Сабине Файнштейн он отправит проникновенное письмо: «Я невменяем и боюсь писать. Но должен – как должен был купить эту ветку сирени – я должен что-то сказать – сам не могу – не могу выразить в словах того – что, чувствую должен совершить безумие, что должен продолжать любить и говорить об этом. Сдерживаемое – оно взрывается сразу – срывает все преграды и несется как разбушевавшийся поток. Оно принимает мистические формы – мои уста все шепчут: лети, моя освобожденная душа, в голубизну неба – люби и разорвись мое сердце – и унесись в таинственный край – куда-то туда далеко, где бы я видел только Вас и белую сирень – и чудесные цветы, и лазурные небеса, где трогательная, тихая музыка, тихая, как летними вечерами в деревне – неуловимая для уха – наигрывала бы песнь любви».
И тут в семье Сабины разразилась трагедия. Её младшая сестра Михалина, как выяснилось, тоже влюбленная в Феликса, выйдя из тюрьмы и не желая мешать их счастью, выбирает самоубийство. Сабина считает себя виноватой и резко прекращает отношения с Дзержинским.

Ф. Дзержинский.
Фото В. Иванова.
1905 г.
[РГАСПИ]
После внезапного, болезненного разрыва, разбуженная душа требовала какой-то ответной ласки. И тут-то появляется Соня. Поначалу их свела общая издательская работа, общие революционные идеалы. Затем венчание, его вынужденный отъезд, её арест… Их сын рождается в тюрьме… Казалось уже, что вовсе не женщины, а именно они, тюрьмы, будет вечными спутницами Феликса.
Но вот дверь камеры открыта… Вопреки копившейся, надсадной боли, вопреки прогнозам врачей и тайным упованиям жандармов, вопреки недавним жестоким побоям от уголовников, после которых попал в лазарет и затем в одиночку, он все-таки дожил до этого часа.
Когда сняли ножные оковы, когда смог спать в общей камере и по пять часов трудиться в маленьком полутемном помещении мастерской, выполнявшей на швейных машинах военные заказы, тоска стала одолевать меньше. Работа как-то исцеляла и ослабшие мускулы, и озябшие нервы. Это ведь только поначалу кажется, что в каземате хорошо думается. Поначалу. Но потом приходит опасение, что в одиночке и сами слова забыть можно. Общаться не с кем. Смыслы просто распадаются на звуки.
Еще задолго до Бутырки, даже до Сибири, из Седлецкой тюрьмы двадцатичетырехлетний Феликс писал сестре:
«Дорогая Альдона! Далеко друг от друга разошлись наши пути, но память о дорогих и еще невинных днях моего детства, память о матери нашей – все это невольно толкало и толкает меня не рвать нити, соединяющей нас, как бы она тонка ни была. Поэтому не сердись на меня за мои убеждения, в них нет места для ненависти к людям. Я возненавидел богатство, так как полюбил людей, так как я вижу и чувствую всеми струнами своей души, что сегодня… люди поклоняются золотому тельцу, который превратил человеческие души в скотские и изгнал из сердец людей любовь. Помни, что в душе таких людей, как я, есть святая искра… которая дает счастье даже на костре».
Медленно и неуверенно выходя из постылого каменного мешка, он пошатывался не только от физической слабости и ран от кандалов, но и от внезапного опьянения этим непривычным, всеобъемлющим ощущением свободы, пришедшей прямо будто по календарю, в первый день весны.
Не ошибся, угадал в недавнем письме супруге: «Теперь я дремлю, как медведь зимой в своей берлоге, осталась только ясная мысль, что весна придет, и тогда перестану сосать свою лапу и все оставшиеся еще в душе и теле силы проявятся. Буду жить».
Голова заметно кружилась, а пульс в висках лихорадочно отбивал только эти три слога – сво-бо-да, сво-бо-да! Она мгновенно заполнила все его существо, заменив привычную, скупую, как тюремная пайка, связь с внешним, закамерным, застенным, «забутырским» миром. Даже если это лекарство, принимать сразу большую дозу рискованно.
Наверное, и разум, как сощуренные глаза, отвыкшие от прямых лучей солнца, затухавшие в ежедневной близорукой и серой перспективе каменных стен, пола и потолка, начинает пока лишь защитно слезиться от неожиданного и бескрайнего хотя и предвечернего света, от этого снега и неба, от веселой суматохи лиц вокруг…
Чудилось, что у этой сегодняшней свободы есть какой-то свой, особый цвет, звук, запах и даже вкус… Ведь для многолетнего узника суть свободы постепенно и неизбежно сужается всего лишь до понятия воли, воли физической – окна без решеток, двери без засова, тела без кандалов и арестантской робы, стен без сырости, прогулок без конвоя… Клочки этой воли-свободы он не раз обретал и прежде, но только дерзкими, рискованными побегами, таясь и скрываясь, меняя одежду, документы, имена, подпольные клички, страны и города, конспиративные адреса и связи. А по пятам следовали его фотокарточки – фас, профиль – и приметы: «Рост 2 аршина 7 5/8 вершка, телосложение правильное, цвет волос на голове, бровях и пробивающихся усах темно-каштановый, по виду волосы гладкие, причесывает их назад, глаза серого цвета, выпуклые, голова окружностью 13 вершков, лоб выпуклый в 2 вершка, лицо круглое, чистое, на левой щеке две родинки, зубы все целы, чистые, рот умеренный, подбородок заостренный, голос баритон, очертание ушей вершок с небольшим».

Ф. Дзержинский в период пребывания в Ковенской тюрьме.
Жандармское отделение, г. Ковно, 1898 г. [РГАСПИ]
Ещё ранним утром арестантская почта разнесла по камерам слух, что тюрьму нынче будут «освобождать». Да если б и не было этого общего слуха, у каждого ведь был свой.
Заключенным доступны лишь разрешенные с начала войны и уже несвежие номера «Правительственного вестника» да «Русского инвалида». А там, за стенами, город шумел уже несколько дней. Прямо у ворот собирались толпы демонстрантов, родственников, рабочих ближних заводов и фабрик. Они громко скандировали «Воля! Воля! Воля!» Выкрикивали даже фамилии узников. Пели песни – революционные и просто русские народные, в самих мотивах которых, пожалуй, заложена не меньшая бунтарская мощь и удаль.
Впрочем, на распорядок дня внутри бутырских стен эти шумные дни никак не влияли. Они по-прежнему стояли угрюмо, твердо и несокрушимо, как защитная дамба посреди штормового моря. А как иначе? Тюрьмы из века в век были неотъемлемой частью любого государства, столпом его стабильности, его надежной укрепой. И части эти жили из века в век по своему, розному от общего укладу. Так было, есть и будет.
Разве что сегодня служители выглядели чуть более озадаченными и вяловатыми. Но только чуть.

Ф. Дзержинский в период пребывания в Седлецкой тюрьме.
1901 г. [РГАСПИ]
Где-то там революция, где-то там вроде бы отрекся царь. Но все равно в Петрограде кто-то есть, заседает, решает, командует. На их памяти в девятьсот пятом уж такие песни и крики, митинги и демонстрации были. И дружинники, и пальба, и баррикады. И декабрьский мороз был. Тогда рабочие Миусского трамвайного парка и савёловские железнодорожники тоже собирались у ворот и даже пытались захватить тюрьму, но конвойная команда их легко отбила. А потом пришли верные присяге драгуны.
Так и миновало. А вскоре грянул славный юбилей Дома Романовых. Издан был Всемилостивейший манифест, по которому надлежало «достойно ознаменовать нынешний торжественный день и увековечить его в памяти народной». В высочайшей бумаге объявлялось о льготах и пособиях малоимущим, амнистии заключенным, погашении кредитных и налоговых задолженностей, бесплатном угощении для народа и много чего ещё. Три месяца длились народные гулянья. Гремели балы, обеды и приёмы…
Манифест уверенно провозглашал: «Совокупными трудами венценосных предшественников наших на престоле российском и всех верных сынов России созидалось и крепло русское государство… В сиянии славы и величия выступает образ русского воина, защитника веры, престола и Отечества… Благоговейная память о подвигах почивших да послужит заветом для поколений грядущих, и да объединит вокруг престола нашего всех верных подданных для новых трудов и подвигов на славу и благоденствие России…»
Ан, глядь, и ныне какой манифест объявят, какое послабление выйдет и всё понемногу успокоится, рассосется! А камеры свободные в Бутырке завсегда имеются. Это ж как фабрика. Под тридцать тысяч каторжников за год этап за этапом сквозь неё проходит.
Но вот, в середине дня, непрестанно гудя клаксоном, подкатил к Бутырке грузовик. И уже не с рабочими, а с вооруженными солдатами и дружинниками в кузове. В ответ на отказ открыть ворота, стрелять и угрожать они не стали – просто быстренько раздобыли железные ломы, которыми местные дворники скалывали лёд с тротуаров…
Этому дню не суждено было получить статус национального праздника, как во Франции. Хотя символичное число – 1 марта, первый день весны – безусловно к этому располагало. Но Бутырка – не Бастилия. И Россия – не Франция.
Около пяти вечера, сразу после первых ударов, обязанные беречь всякую казенную собственность, а ворота таковыми безусловно являлись, надзиратели и жандармы сдались. Двери страшной Бутырки распахнулись. Мощная людская лавина с криками и песнями хлынула внутрь двора, закружилась, затопала, разлилась по этажам. Испуганные стражи робко жались к стенам, без всякого сопротивления отдавали и оружие, и связки ключей. По коридорам застучали сапоги, заскрипели и захлопали двери, загулял сквозняк.
Многоликий поток, не теряя революционной энергии, вскоре двинулся в обратном направлении, уже вобрав в себя сотни людей в арестантских одеждах. Застучали молотки, расковавшие тех политкаторжан, что были в кандалах. Классическое орудие пролетариата становилось прямым символом свободы и революции. Затем страдальцев, избавившихся от оков, под «Варшавянку» и «Смело, товарищи, в ногу» подхватывали на руки и несли к выходу.

На улицах Москвы. Февраль 1917 г. [Из открытых источников]
Свобода пришла сама, открыто, мощно, шумно и многолюдно. И эта свобода была не только его личной. Она была частицей общей, великой свободы. Которой он грезил, на которую положил всю свою жизнь. Жизнь, которую он мыслил тоже исключительно лишь частицей общей жизни, общей борьбы за счастливое будущее.
– Юзеф! Юзеф!
Феликс оглянулся на этот женский крик – надо же, кто-то вспомнил одну из его подпольных кличек. И он тут же оказался в горячих объятиях. Да, да, он знал эту кудрявую девушку ещё по Варшаве. Значит, у его сегодняшней свободы было ещё и имя.
– Яника, это вы?! Яника Тарновска?
– Так, так, то я. – И широкая безудержная улыбка вместе со слезами заиграла на ее лице.
– Только я теперь уже не Юзеф, не Франек, не Астрономек, а снова Феликс, – чуть смущенно поправил он. – Феликс Дзержинский.
– Да ведь и я не Яника! – радостно откликнулась она и протянув руку, представилась: – Люцина Френкель.
И тут же приколола к его тюремному одеянию свой красный бант. Рядом оказался ещё один знакомый ещё с 1905 года по Польше, а потом и сибирской ссылке Казимир Взентек.
– Нам поручено сразу доставить вас в Московский совет, на заседание. Совет теперь в здании бывшей городской думы.
– Ну, добже, добже… – инстинктивно, ещё не переходя на русский от воспоминания об этой девушке, о Варшаве, о Вильно, о Лодзи, о польском подполье, беспрестанно вращая головой, привыкая к новой реальности и слегка поёживаясь, с ответной улыбкой произнёс Феликс. – Трохэ зимно тут на воле.
Первый весенний день действительно выдался ясным, солнечным, но и морозным. Впрочем, февраль в срединной России неизменно суров. Недовольный количеством отведенных ему дней, он всегда чувствует себя ущемленным в правах и уж в этом-то году, будто заразившись общим революционным энтузиазмом, явно решил не сбавлять градус, экспроприировать недельку-другую у готового разговляться блинами и пирогами зажиточного соседа – марта.
Едва товарищ Френкель назвала его имя, Феликса восторженно подняли на руки и перенесли в кузов грузовика, над которым гордо реяло красное знамя. Совершенно незнакомые люди протискивались к нему, улыбались, жали руку, обнимали. И уже казались близкими, едва ли не родными. Видно было, что товарищ Дзержинский известен многим. Даже если и не встречались лично, то о нем, его судьбе, делах и несгибаемом характере знали, слышали, читали в революционных газетах.
Откуда-то из толпы явилась длинная и широкая, скорее всего, кавалерийская шинель без погон… Он сел, уютно завернулся в нее. Наверное, со своей нынешней тюремной бородой и длинными нечесаными волосами, сухой и изможденный он, несмотря на эту шинель, едва ли мог выглядеть человеком военным. Скорее уж каким-то странствующим от монастыря к монастырю, недавно исполнившим обет затворником-монахом. «А что? – усмехнулся он самому себе. – Шинель – она, пожалуй, и есть своеобразная ряса, сутана служителя революции».