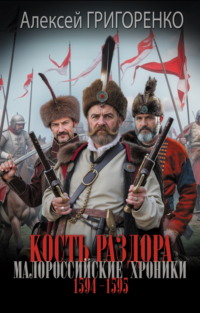Kitabı oxu: «Кость раздора. Малороссийские хроники. 1594-1595 годы»
Девиз: Ничего не происходит с человеком случайно.

© Алексей Григоренко, 2024
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2025
Историческое молчание
Предуведомление автора
Пантелеймон Кулиш в книге «История воссоединения Руси» подводит довольно горький итог, рассуждая о начальных козацких войнах в Речи Посполитой, приведших через полвека к частичному краху как самого государства – утрате Малороссии, так и к окончательному исчезновению Польши с политической карты тогдашнего мира – в результате трех разделов восемнадцатого столетия:«Два только источника существуют для истории второго козацкого восстания (1-е – под предводительством гетмана Криштофа-Федора Косинского, 1593 г. – А. Г.), Гейденштейн и Бельский, да и те во многом противоречат один другому. При том же оба эти источника суть свидетельства стороны противной, и потому мы не имеем никакой возможности исполнить правило: audiatur et altera pars. Вообще, это важная потеря для русской истории, что украинские козаки, эти главные деятели торжества Руси над Польшею, оставили по себе так мало памятников своей деятельности. Кровь их пролилась как вода на землю и не оставила даже пятна по себе. Энергический дух их отошел в вечность, не заградивши уст хулителям своим; а их потомки лишены утешения слышать посмертное слово предков, каково оно ни было. И вот мы разворачиваем чуждые сказания о нашем былом и устами исторических врагов своих поведаем миру понимаемые до сих пор двусмысленно, сбивчиво, часто крайне нелепо дела героев равноправности» (Кулиш П. А. История воссоединения Руси, т. 2, с. 117. СПб, 1874).
Пожинаем же эти плоды исторического молчания народа: даже само имя собственное героя нашего повествования, гетмана и предводителя 2-й козацкой войны Наливайко, текуче, непостоянно и вариативно. Так, в трудах и первоначальных изысканиях знаменитых историков Х1Х века имеем такую картину:
анонимная «История русов», приписываемая архиепископу могилевскому Георгию Конисскому, и Николай Маркевич называют нашего героя – Павло;
Владимир Антонович и Николай Костомаров – Семерый;
Боркулабовская летопись – Севериня;
тот же Пантелеймон Кулиш – Семен;
другие источники, включая Википедию, соцписателей вроде Ивана Ле и марксистских историков уже несуществующего СССР, – Семерин, Северин и даже Северий (вполне на древнеримский манер – если сделать ударение на 2-м слоге).
Так как же все-таки звали нашего героя?
Ответом будет все то же молчание.
Я писал не историческое исследование, но роман, потому из всех вариантов избрал имя героя согласно анонимной «Истории русов», с опубликования которой в начале ХIХ столетия и началось заинтересованное изучение образованным обществом далеких исторических событий Малороссии, давным-давно к этому времени интегрированной в процесс общерусской истории, общерусской политики и общерусской культуры. Потомки отважных воителей за свободу, правду и святоотеческую веру, о которых и рассказывается на этих страницах, стали мирными «гречкосеями» и мелкопоместным малороссийским дворянством со своим благодушным, зачастую химерным мирком, вошедшим в русскую литературу тщанием Н. В. Гоголя, предки которого – Лизогубы и Гоголи – тоже в свою очередь были отважными и заметными фигурами в давней военной истории края.
Николай Васильевич не устоял перед искушением составить всеобъемлющий исторический свод: «Историю Малороссии я пишу всю от начала до конца. Она будет или в шести малых, или в четырех больших томах» (письмо к М. Максимовичу от 12 февраля 1834 года. Такая самонадеянность и безоглядность, вероятно, свойственна только лишь юности – Гоголю 25 лет), но уже к 6 марта того же года, то есть всего через 24 дня, наступает отрезвление: писатель столкнулся все с тем же историческим молчанием – практически полным отсутствием достоверных материалов, о чем он сообщает в письме И. И. Срезневскому, и – отступил… «Я к нашим летописям охладел, напрасно силясь в них отыскать то, что хотел бы отыскать. Нигде ничего о том времени, которое должно бы быть богаче всех событиями. Народ, которого вся жизнь состояла из движений, которого невольно (если бы он даже был недеятелен от природы) соседи, положение земли, опасность бытия выводили на дела и подвиги, этот народ… (Тут Гоголь отчего-то прервал свою мысль, – но мы сегодня, через без малого 200 лет, можем поразмыслить все же о том, о чем в некоей печали и разочаровании не договоривает писатель. – А. Г.) Я не доволен польскими историками, они очень мало говорят об этих подвигах; впрочем, они могли знать хорошо только со времени унии, но и там ни одного летописца с нечерствою душою, мыслями. Если бы крымцы и турки имели литературу, я бы был уверен, что ни одного самостоятельного тогда народа в Европе не была бы так интересна история, как козаков. И потому-то каждый звук песни мне говорит живее о протекшем, нежели наши вялые и короткие летописи, если можно назвать летописями не современные записки, но поздние выписки, начинавшиеся уже тогда, когда память уступила место забвению. Эти летописи похожи на хозяина, прибившего замок к своей конюшне, когда лошади были уже украдены…»
Так и неосуществленный шеститомник (или четырехтомник) преобразовался в «Отрывок из истории Малороссии» и в статьи «О малороссийских песнях» и «Взгляд на составление Малороссии», вошедшие в сборник «Арабески», ну и, конечно же, в бессмертную повесть «Тарас Бульба».
У Гоголя – оставались исторические и героические песни, туманные свидетельства, больше похожие на мифы и апокрифы, полученные из третьих-четвертых воспоминаний по восходящей от долгожителей козацких родов Гетманщины, которым прадеды что-то такое рассказывали, пока они сидели мальчонками под столами в крестьянских хатах. Что же имеем мы, насельники ХХI века, кроме печальных известий о том, что сегодня происходит на Украине?..
Отступить ли и нам, как некогда отступил Гоголь? Или все же попытаться преобразовать художественной догадкой, метафизическим прозрением это историческое молчание, эти жалкие крохи известий, обрывков и лоскутов «чуждых» и «вялых» летописей, в которых высверками, на сущее мгновение, появляются зачастую исполинские фигуры нашей безъязыкой истории, мужественные лица людей, каковых больше нет и, вероятно, больше не будет, которые в неустрашимом дерзании и безоглядности закладывали основы нашей противоречивой, драматичной и зачастую трагичной истории, которая до сей поры происходит с каждым из нас. Но все начиналось – с молчания и мглы канувших, прошедших веков. Нам уже не услышать тех песен, которые так любезны были сердцам Гоголя и Максимовича, но мы все же – дерзаем«понудить себя на художество» – по слову древнерусского северного святого преподобного Кирилла Челмогорского, – ибо другого выбора у нас нет.
В своей многолетней работе над текстом я использовал все доступные мне источники, хроники и поминания, как русские (под этим именем я разумею триединый по моему убеждению народ – в сегодняшней терминологии: русских, украинцев и белорусов, в терминологии же описываемой эпохи конца ХVI столетия – московитов, русинов и литву), так и польские, но и в совокупности достоверный исторический материал весьма скуден, потому более всего я полагался на свою историческую интуицию, за возможные переборы и сгущения которой я заранее прошу прощения у читателя. Но в целом – даже не Павло (Северин) Наливайко является главным героем повествования, но то эпохальное событие конца ХVI столетия, до основания потрясшее все общество Речи Посполитой, включая и поляков-католиков, расколовшее на более чем четыре столетия украинский народ и принесшее неисчислимые беды – Брестская уния 1596 года, названная полемистами ХVII столетия настоящейкостью раздора, разорвавшая единое до того духовное средостение народа Юго-Западной Руси, который позже назывался черкасами (по наименованию крепости на Днепре), козацким народом, русинами, малороссами и затем уже украинцами.
Развитие этой темы, быть может, с некоторым публицистическим заострением читатель найдет в примечаниях, разбросанных в тексте. Там же помещена и достоверная краткая информация об исторических деятелях, помянутых на страницах романа, и отчасти о последующих событиях, произошедших уже за хронологическими границами этого повествования.
Отдельно надобно сказать о «Записках Арсенка Осьмачки», ставших неотъемлемой частью наших «Хроник». Они были обнаружены мною в древлехранилище Свято-Успенской Почаевской лавры в середине 1990-х годов и требуют нескольких пояснительных слов для сегодняшнего читателя. Волею судьбы и сложившихся обстоятельств киевский бурсак конца ХVI столетия, отягощенный схоластическим богословием и обрывками разнообразных познаний, не свершил свой жизненный путь, как тысячи его однокашников, затерявшихся в бескрайних просторах и бесчисленных селах Юго-Западной Руси, сегодня называющейся Украиной, где они научали грамоте козацких и селянских детей, сочиняли драматические и комедийные тексты для вертепных театров, колядки и песни, ставшие со временем основой «красного виршевания» и «красного письма», то есть будущей литературы этого обширного и благодатного края. Некоторые из однокашников Арсенка стали со временем епископами и были призваны на служение российскими императорами, а прежде царями, на внутренние российские кафедры – в Архангельск, в Тобольск, в Ростов, где лучшие из них просияли чудесами и святостью и до сей поры почитаемы в общерусском сонме святых.
Кто не знает великих имен святителей Димитрия Ростовского, Иоанна Тобольского, Иоасафа Белгородского, – а ведь они вышли из тех же стен малороссийских бурс-семинарий, что и наш летописец Арсенко Осьмачка, – только он опередил их на столетие, и Промыслом Божиим ему было суждено другое свидетельство, которое ныне развернуто перед благосклонным читателем.
Тютчев сказал: «Блажен, кто посетил сей мир / В его минуты роковые» – в случае с нашим героем, а его «Записки» начинаются с 1593 года и завершаются 1635 годом, это были во всем судьбоносные времена для Юго-Западной Руси-Украины – усиление католического прозелитизма над православными землями, массовый переход в католичество русских и литовских дворянских родов; сползание почти всех тогдашних русских епископов к мысли о подчинении Римскому престолу, посредством которого, как им казалось, Юго-Западная Русь «войдет в семью европейских народов», – как говорится теперь, а тогда благая покорность Риму мыслилась избавлением от бесконечных притеснений со стороны оголтелого короля, ставшего игрушкой в умелых руках ордена иезуитов, и правительства, закончившееся печальной Брестской унией 1596 года; противостояние козачества и простого поспольства колебанию епископов и окончательному закабалению панством, вылившееся в две первые козацкие войны, – во второй из них наш Арсенко Осьмачка принимает деятельное участие вплоть до трагического и страшного разгрома повстанцев в Солоницком урочище над Сулой, недалеко от Днепра. Принимает он и косвенное участие в событиях и итогах церковного собора в Бресте осенью 1596 года, оформившего окончательно унию с Римом и подчинившего на четыре века часть Русской церкви под папскую туфлю; участвует в походе козацких отрядов в составе армии короля Сигизмунда III Вазы в Московию уже во времена Смуты российской, – мы находим его в осаде под стенами Троице-Сергиевской лавры, в осаде Переславля, он грабит с козаками и польскими жолнерами древний Ростов; затем, когда Смута в Москве завершилась, он принимает некое участие, по крайней мере как пристальный самовидец, в возобновлении иерархии Православной церкви гетманом Петром Конашевичем Сагайдачным и Иерусалимским патриархом Феофаном, и о том оставляет интересные заметки и записи в одном из своих письмовников…
В 1635 году мы находим его в иноческой келье Никольского Самарского пустынножительного войскового монастыря, построенного запорожскими козаками для престарелых сечевиков, где старики, уцелевшие по воле судьбы в прежних походах и войнах, замаливали прегрешения своей молодости, а наш Арсенко систематизировал и продолжал письмом то, чему он некогда был самовидцем. Наш летописатель не дожил, по всей видимости, до Хмельниччины – Великой козацкой войны 1648–1654 годов, в корне изменившей геополитическую обстановку в тогдашней Европе и на века соединившей в единое государство Юго-Западную и Северо-Восточную Русь, Малую и Великую Россию, но и того, чему он стал свидетелем, много для жизни одного человека.
Конечно, я до сего дня не разобрал еще полностью десятков письмовников и разрозненных тетрадей, попавших в мои руки в Почаеве в 1990-е годы, – многие из них безжалостно объедены сотнями, а может быть, и тысячами поколений мышей, что-то размокало и не раз высыхало, превращая древнюю бумагу в сущие пепел и прах, какие-то крупные фрагменты и вовсе выпали из груд трухлявой бумаги, в самой «Хронике Луцкой», часть из которой я расшифровал к этому времени, вообще зияет обугленная дыра от«злой пули жолнерской». Эта «Хроника» спасла Арсенка от смерти в Солоницком урочище в начале лета 1596 года и дала ему лишних 40 лет жизни, как пишет сам автор о том… Вторая часть «Хроники Луцкой» мною еще не разобрана и не расшифрована, но надеюсь все-таки в свой срок ее завершить, – там рассказано о событиях, произошедших с нашим героем уже после 1596-го злосчастного года.
Интересна и загадочна судьба самих этих «Записок». И здесь не обойтись без краткого рассказа о драматичной во многом судьбе монастыря, где была обретена эта рукопись. Самарский Николаевский пустынножительный монастырь основан запорожскими козаками как богадельня для престарелых сечевиков в 1576 году, неоднократно дотла и до основания его разрушали – во время хмельниччины – русско-польской войны в 1650-х годах; затем – в 1688 году; в 1690 году монастырь постигло очередное несчастье: почти все насельники и большая часть жителей монастырской слободы погибли от эпидемии, после которой монастырское имущество, в том числе и архив, были уничтожены.
Но рукопись Арсенка Осьмачки уцелела тогда, будучи предусмотрительно закопанной, по всей вероятности, им же самим в подклете деревянного храма Кирика и Иулиты – храм этот ныне не существует. В 1709 году в очередной раз монастырь был разрушен из-за гетмана Ивана Мазепы во время русско-шведской войны – изменника поддержали запорожские козаки. В 1711 году монастырь уже был разрушен татарами. К 1739 году монастырь был полностью обновлен и вернул себе значение религиозного центра запорожских земель, иливольностей, в терминологии той эпохи – при монастыре существовали школы и больницы, а численность крестьян и вотчинников достигала 500 человек. Монастырю принадлежали слобода Черненная, четыре хутора, озеро Соленое и речка Протовча, мельницы и пасеки, в общей сложности 18 698 десятин земли.
В Самарской обители принимали постриг, умерли и были похоронены многие запорожские старшины: кошевой атаман Филипп Федоров, войсковой толмач Иван Швыдкий, войсковой писарь Дмитрий Романовский, войсковой судья Моисей Сухой и другие. Где-то в безымянной забытой могиле здесь пребывают и кости автора этих «Записок». За колокол весом в 169 пудов 22 фунта, приобретенный в XVIII веке, запорожские козаки выложили огромную по тем временам сумму – 8320 рублей 90 копеек, колокольня же, возведенная в 1828 году, считалась самой высокой на Украине. Долгое время в монастыре сохранялись главная святыня монастыря – чудотворная Ахтырская икона Божией Матери и чтимая икона святителя Николая, патрона и покровителя обители, и четыре запорожских креста. Сегодня судьба этих реликвий неизвестна.
В 1930 году колокольню взорвали, братию выселили и расстреляли, Никольский собор перестроили под театральный зал, сам монастырь обратили в дом инвалидов. После войны обком партии Днепропетровска принял решение организовать здесь дом для престарелых металлургов. Дом-богадельня обзавелся большим хозяйством, и началось строительство разных пристроек в стиле «сталинского ампира», при этом весьма пострадали прежние монастырские постройки. Во время строительства и добыли на свет Божий замшелый проржавевший сундук, набитый истлевшими бумагами. Так как запорожского золота в сундуке не нашли, хотели было содержимое его сжечь ясным коммунистическим пламенем, да в последний момент решили отправить в исторический музей Днепропетровска, носящий имя историка Дмитрия Яворницкого, который оставил потомкам фундаментальное трехтомное исследование «История запорожских козаков». В 1960-е годы в монастыре устроили интернат для психически больных девочек. С 1994 года здесь возобновилась монашеская и церковная жизнь.
Нельзя сказать, что к разбору рукописей Арсенка Осьмачки никто не приступал, но у одних исследователей не хватало квалификации, других бдительные надзорные органы отстраняли на всякий случай из-за подозрения в украинском национализме, в конце концов в 1970-е годы так и не разобранные рукописи Арсенка Осьмачки из музея ввиду реорганизации залов под диораму «Битва за Днепр» и последующего перепрофилирования под мемориал Л. И. Брежнева, днепропетровского партийного бонзы в 1930-х годах, а потом генсека и четырехкратного Героя несуществующего уже СССР, были переданы в Почаев, но и в тамошней лавре некому было разбирать и рассортировывать эти груды слипшихся и истлевших листов, где они пролежали в забвении еще 20 лет. В начале 1990-х годов, когда я впервые приехал в Почаев для участия в Почаевской международной религиозной конференции, собранной тщанием Георгия Шевкунова (ныне митрополит Псковский и Порховский Тихон), для противостояния униатской агрессии на Западной Украине, монахи, прознав о том, что я составляю некий свод под общим названием«Малороссийские хроники», предложили мне попробовать разобрать этот архив и хоть что-то оттуда использовать. Выражаю им особенную признательность.
Сделаю и несколько замечаний по стилю «Записок». Понятно, что мне пришлось их практически переводить со старорусского на современный язык. Бурсацкая и схоластическая закваска лексики хрониста и виршетворца конца ХVI столетия, нагромождение латинских, церковно-славянских и польских выражений и слов порою зашкаливали, и я безжалостно резал и выжигал длинноты, псевдокрасоты и славянизмы «Записок», упрощая и уплощая язык автора, дабы сегодняшний досужий любитель литературы мог хотя бы отчасти понять то, о чем он нам хочет поведать, своим «читателям и друзьям будущины» по его же терминологии. Само собой разумеется, что мне пришлось не только упрощать язык Арсенка Осьмачки, но и несколько беллетризировать текст, делая его удобным и связным для досужего чтения современного человека, с присущими ныне всем нам фрагментарностью и клиповостью мышления и восприятия (или по слову литературного критика Сергея Чупринина – «фейсбучностью» нашего сознания).
И последнее, – об этнической терминологии. Народы, населявшие Речь Посполитую, а также жившие по соседству, назывались вовсе не так, как теперь. Поэтому предваряя законное недоумение читателей, укажу историческое, а затем – современное наименование народностей, о которых поминается на этих страницах:
русские, русины – малороссы, затем украинцы;
литовцы, литва – белорусы;
московиты, москва и производное от «москвы» москали – русские, россияне;
жмудь – литовцы, жители сегодняшней области Жемайтия и в целом Литвы;
жиды – евреи.
Приходится особо артикулировать на термине этом ввиду ранимости определенной части нашего общества и напомнить, чтожид, жидовин и прочие являются производными от польского Žid. И в прошлом, и в настоящем – это официальный термин в польском языке и в литературе. Никакого другого обозначения еврея нет в Польше. Термин и слово не несут никакой эмоциональной нагрузки и пренебрежительной окраски, как может показаться кому-то, и используются во всех официальных документах Польской республики до сего дня. Для русского уха, может быть, звучит не очень хорошо, но такова историческая реальность, которой мы следуем;
ляхи – поляки;
османы – турки;
волохи – румыны и молдаване;
угры – венгры;
одни только татары так и остались татарами.
1. Черная рада, Чигирин, 1594
Мягкий, желт, как липовый цвет, медок на дне кухля. Цедя глоток за глотком, он отчего-то припомнил деда своего прозвищем Наливая, осавула при Шахе еще, знатного пияницу-питуха той славной, сгинувшей ныне козацкой поры. Улыбнулся в усы, не отнимая кухля от пересохших уст, – хлебал дедуган чиколдуху-мокруху вволю, однако и справу свою знал: пахал черноземлю и густо сеял хлеба, правил козацкий правеж, обустраивал родные пределы и аулы крымские воевал, когда наступала войсковая страда, – с бою брал городки и глинобитные крымские крепостицы, и на вечерней заре своей жизни дошел было до самой Кафы с летучим, легким стариковским отрядом – и в шестьдесят своих лет все еще молодечествовал Наливай, – в Кафе же и был страчен жестоко. Как липовый цвет к маковке лета…
Хорошо, не знали отец с матерью особицы лютой той казни: надрезали стариковскую кожу, стянули чулком, обнажив лиловые, все еще крепкие в старости мышцы, или по кусочку рубили пальцы, руки, стопы, голени, ноги, или еще что-то лютое придумали вороги в Кафе, –«Мне отмщение…» – и нам тоже – отмщение…
Павло прищурил на высокое солнце глаза.
Пусты небеса, глубоки. Словно неосяжное синее око с расчиненной в предвечной слезе Божьей зеницей. Ты видел, один только Ты и видел, как это было, – тлело в Павле, – и не спас старого деда моего, не вывел его из-под Кафы, – ему пришла пора умереть?.. Да, скорее всего это так, хотя нам, оставшимся до поры на земле в этом вот текучем, изменчивом времени – не примириться со знанием этим, как не примириться с другими смертями, не привыкнуть к ним никогда. Жаль только, – думал Павло, – что сыновья (и мой отец среди них) не дознались про то ничего: весь престарелый и в старости легкий как пух дедов отряд разметало под глинобитными стенами Кафы. Как пороховой дым, когда прогремит выстрел и с воем каменное ядро полетит туда, куда пушкарь целился, – двинется тугой ветер невидимым сильным плечом и следа от дыма не останется никакого. Так и от нас, и от наших забот, от нашего подневольного и вольного делания – что останется?
А началось – с пасхального разговения. Запекли женщины дома порося к Великодню, выставили ведро чистой хлебной горилки, – и разговелся на славу от брюха дед Наливай после великопостных молитв и трудов, после пуда соленой капусты и пуда соленых же огурцов, плеснул через край в московитскую полоненную некогда братину из черненого серебра, взятую в давнишнем набеге на пограничный с Речью Посполитой городок Рыльск, со стола воеводы и смел ее в свою дорожную торбу, – и заманулось деду Кафу на приступ попробовать – ласковый шелк, душистый османский табак, звонкие пиастры и румяные дукаты повабили деда. О, хлебная эта горилка, прозрачная, как слеза, затуманила ты око старого Наливая!..
Сыны с вервием бросились деда вязать – да куда там, справишься разве? Был бы чужой – успокоили бы кулачищами да плашмя саблею в лоб неразумный, а на батька – мыслимо ли руку подъять? Разметал сынов по кутам: чуть ли не гикнул страшное слово проклятия «я вас породил – я вас и убью!», цыкнул страшно, вывернув набрякший яростью глаз. Знали они этот погляд – пощады не жди. Свистнул соседских дедов – из поредевшей от времени и войны наливайковской сотни: «Покажем, панове, сим недоумкам ни на что не пригодным, як Кафа аллаха свого благае за жизнь!..»
Дед Сиромаха, дед Выпывайло, дед Миняйло, дед Бастрюкайло, дед Выверникожух, дед Крыса, дед Червонець и иншие с ними деды – и дед Наливай-осавул, – помни же их имена.
Сладок мед, но горько в душе. Пуст окоем и затаилась земля. Полуденный ветр ласков и шелковист, как трава. В знойном мареве висят черные птицы. Скоро им будет корм и пожива. И здесь я тоже не властен, думал Павло, разве я вольно выбираю войну? Прежде – дед Наливай. И я простил ныне Кафу, хотя в том бою с сыновьями его, моими дядьями, я сидел под тем пасхальным столом, что трещал от ударов их ног и рук, и помню, как ошметки поросячьего мяса сползали со стены, – я простил, когда старое и родное тело его разъяли среди равнодушного татарского говора на площади Кафы, а с ним – и тех дедов-добровольцев, кто не погиб под стенами от пальбы и был взят в полон. Никто не знает, чего это стоило мне. Трудно и невыносимо вот это: «Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи человеколюбче…», хотя чистой беззлобной детской душой, в козачатах еще, поклялся пройти дедов путь через Дикое поле и устроить поминальную тризну в той клятой Кафе… И замирился ныне с ханом на том, чтобы ясырь в пограничье не брал, – да чего стоят ханские обещания?.. Потому что где ему его еще брать, как не на наших землях? Знаю, знаю, братья мои, что ненадолго все это, потому что без живого товара оскудеет этот Богом отринутый Крым. Но мне нужно отдохнуть и собраться, всем нам – отдохнуть и собраться, потому что грядет с другой стороны другая беда…
Он допил последние тягучие капли, утер уста рукавом и наклонился с седла, протягивая кухоль безродной девчонке, вынесшей ему из нарядной мазанки-хаты утолить дорожную жажду.
«Спасибо, доню…» – сказал привычно, забывая уже и медок, и ее самое, и ждущие чего-то глаза, глядящие на него неотрывно. Голубые и чистые.
Он и названия цвета такого припомнить не мог – загрубела, как невыделанная шкура, душа у него за белесым, жарким огнем пылающих сел, за многой кровью, прибывшей за недолгий век его на земле. Разве что в храме, во время высокой и пронзительной литургии, наступал мир и упокоение в душе у него – и светлела печаль, и все то, что лежало за каменными церковными стенами, обретало название, место и смысл, и тогда, неведомо как, душа будто стремилась к истоку, и близилось детство из памяти, из черной бездны его одиночества и молчания – голубое, чистое, светлое. И он знал, как жить ему дальше, но и не жил, когда выходил на паперть, привычно и уже отстраненно бросая несколько шелягов в черные ладони нищего-жебрака. И отъезжая от храма, оставляя за спиной густой гул благовеста, думал уже о насущном и неотложном, в котором предстояло прожить и выжить, и где уже не находилось места высокому этому:«Ненавидящих и обидящих нас прости…»
И теперь осадил внезапно коня, крутанул его вправо и наклонился, грозовой тучей навис над девчонкой, глядя ей прямо в бездонную черноту кружалиц-зрачков:
– Чья? – помедлив, спросил.
– Сирота, – сказала она, – со вчерашнего.
Глаза ее были сухи.
– Так плачь же! – негромко сказал.
Она в отрицании повела головой.
Она была еще сущим ребенком, девчонкой – что там она понимала в этом вот мире? Но уже была частичкой народа. Его – разноликого, странного, непокорного – народа со всем присущим ему добрым, злым, глупым и высоким, смешанным во единую взвесь.
Он удивился бы, если бы она заплакала.
Должно быть, сильно тогда хлестнул он коня, потому что обернувшись в дороге, увидел темный запекшийся рубец на крупе – так хлестнул, словно движение в окружающем его душу пространстве могло стереть эту девчонку с земли и из памяти, но он знал в себе глубоко, что теперь ему уже никуда не уйти от ее молчаливого взгляда, как и ей не уйти от своей неисповедимой сиротской судьбы, – и ее безымянное подорожное имя сливается неотступно с прозвищами тех давних дедов из его малолетства, сложивших неразумные головы под стенами Кафы, и с именами сотен и сотен других, ставших попранным прахом, разметанным по широким безгласным степям.
«Ненавидящих и обидящих нас…»
На чигиринской белопыльной дороге, в скляной затаившейся и обманчивой тишине, в кромешном окрестном безлюдье его обступали безотчетные думы, сгущающиеся прямо из застывшего полуденного воздуха. Душа будто грузнела и в тяжести каменела. Он предчувствовал, что и как будет на черной раде в Чигирине, куда стекались козацкие полки и войсковая старшина. Путь на Черкассы был перекрыт. Жолнеры польного гетмана пана Жолкевского стояли на шляхах и тропинах правого – русского – берега, встречая коегождого всадника мушкетной пальбой, хотя, как извещали лазутчики, гетман отдал наказ брать живыми пытающихся пробиться к Черкассам, бить батогами и с кручи сбрасывать в Днепр на потеху. Но жолнеры были ленивы ловить и вязать – легко ли сказать, без пальбы, силой одной остановить конный вооруженный загон, идущий наметом к верхней столице запорожского войска?.. Вот и стреляют свинцом из мушкетов, отгоняя и побивая тех неразумных, кто не знает еще оповестки полковника Лободы.
Павлу перед выездом в Чигирин хотелось побыть одному – он знал от доверенных, что предложится на раде в сиротском безгетманстве их – и потому джур своих он отправил другою дорогою. Был ли готов? Он не знал. Потому что предстоящее дело отличалось от привычных забот, как дюжий добытчик-степняк отличается от хлопчика-козачонка. И в этом отныне, от достигаемого Чигирина, жить ему и трудиться, нынешнему генеральному осавулу, Наливаеву внуку. И, скорее всего, умереть. Мысль о смерти – смутная, солоноватая и в меру тяжелая – не пробуждала в нем страха, не тяготила болью от неизбежности. Никто из живущих в этих пределах от края до края не мог припомнить – за чаркой ли, в долгом походе или на промысле – ни единой покойной в старости смерти козацкой. Не водилось такого, хотя люди – братья, соседи по времени и по заботам любили грешный сей свет, любили землю, на которой они родились для тяжкой хлебной работы и жатвы. Кто из них хотел умереть по воле своей? Разве что сиромаха безродный.
Но так получалось – и с этим ничего нельзя было поделать. Это знал каждый воин, который в затишье ходил за сохой, вспарывая черноземные душистые недра, это знала каждая женщина, носящая под сердцем ребенка для жизни, чтобы в три малых годка посадить младенчика, обряженного в первые свои шароварцы и в крестильную рубашонку, на теплый круп войскового коня за широкую отцовскую спину, и втайне молиться за сына, за мужа, чтобы подольше их смерть не брала… И каждый из них, людей народа его, посполитых и войсковых, был равно готов как жить, так и умереть. Смертью не напрасной и славной для остающихся жить. Потому что нет смерти, когда за тобой в этом сверкающем и удивительном мире живого остается твое доброе, за что отдана твоя жизнь, и остаются те, безмерно любимые, коим ты дал жить в счастье и тяжести времени дней… Может, кто-то продолжит твое дело, пройдет до конца твой путь до цели, до которой ты не дошел. Да и как же иначе, если сыновья, подрастая уже зачастую в сиротстве, знают от материнской утробы те две работы, которые знаешь и ты: хлебопашествовать и воевать, – когда с низовьев Днепра, от Сечи, медной пеной докатится до окоема круглый, как ядро, стон колокола войскового. Так нечего здесь судить и страшиться. Божий промысел на все твои дни, ему и доверься с молитвой. И если судьба тысячеусто избирает тебя на святое служение христианской войны – радуйся, свете, за честь и сражайся без страха.