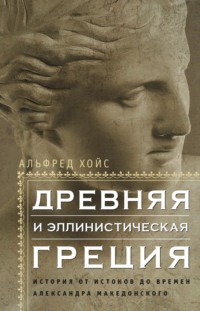Kitabı oxu: «Древняя и эллинистическая Греция. История от истоков до времен Александра Македонского»
© Перевод, ЗАО «Центрполиграф», 2025
© Художественное оформление, ЗАО «Центрполиграф», 2025
Истоки и начало греческой истории
Греческий полуостров теснейшим образом связан с Эгейским морем. Он обращен к нему своим восточным побережьем и южной оконечностью, в то время как западный берег не имеет удобного выхода в море. Одному только такому положению обязано Эгейское море той ролью посредника, какую оно на протяжении многих столетий играло в мировой истории, связывая Азию и Египет с одной стороны и Европу – с другой стороны. Культурные ценности Азии, которые Греция получала из первых рук, имели для нее не меньшее значение, чем переселения из Европы. Но Эллада не ограничивалась ролью принимающей стороны. Как только созрели необходимые условия, Греция стала дающей стороной.
Древнейшие культуры Эгейского региона
Когда мы сегодня ведем речь о доисторических временах, то имеем в виду тень более ранней древности, чем та, которая совсем недавно была доступна нашему изучению. Уже в ходе новейших исследований удалось показать, что в Фессалии на реке Пеней в палеолитические времена существовали стоянки рыбаков и охотников. Такие же каменные орудия подобных добытчиков зверя были найдены в одной беотийской пещере. Отдельные находки такого рода были обнаружены также и на островах. Это все, что нам известно о доисторическом населении греческого полуострова и прилегающих островов. Можно, однако, предположить, что под влиянием окружающего их мира эти люди образовали исходный расовый тип средиземноморского человека.
Не изолированно, но под культурным влиянием Передней Азии Греция и Юго-Восточная Европа перешагнули порог, отделяющий дикого добытчика, food gatherer, от более высокой ступени развития, знаменующей переход от культуры присваивающей к культуре производящей, то есть к культуре food producer. Это одновременно порог, отделяющий мезолит от неолита, нового каменного века.
В Передней Азии все началось с примитивного возделывания земли и нерегулярных сборов урожаев и с приручения, а потом и одомашнивания травоядных животных. Поскольку, разумеется, люди не всегда могли кочевать вместе со своими стадами, то о коренном изменении образа жизни этих племен не могло быть и речи. Только с появлением настоящего земледелия (поначалу для него использовали нетронутые целинные земли), когда люди научились восстанавливать почву, земля стала долговременным владением и объектом, имеющим ценность в глазах владельца. Можно было осесть на такой земле, утвердиться на ней, укрепить поселения и приступить к строительству настоящих городов. Теперь человек был в состоянии создавать запасы и копить богатства; в деревнях образовался класс крестьян, в городах же проживал класс землевладельцев. Эти поселения нуждались в направляющей власти, которая защищала землю и территорию рода, следила за справедливым распределением воды и обеспечивала покровительство богов. Так возникло территориальное государство, коим, по милости Божьей, правили князья и священники. Это была иерархическая система абсолютных авторитетов, которая возникала везде, где плодородие земли благоприятствовало аграрному хозяйству.
Зачатки такого сельского хозяйства с переходом к строительству городов и оседлости находим мы в Палестине, лучшими свидетельствами чего являются для нас Иерихон и Абу-Гош, находим в Сирии, в Месопотамии (находки в Калат-Джармо), на Кипре и еще далее к востоку в Малой Азии (находки в Хаджиларе). Широкое распространение этих первичных аграрных областей объясняется экстенсивным характером тогдашнего сельского хозяйства, когда люди не имели ни малейшего представления о мелиорации земель. В религиозном плане почитание плодородия привело к культовому почитанию женского и материнского начала. Идолы «великой богини» начали лепить из сырой глины задолго до того, как была освоена техника изготовления сосудов из обожженной глины. По раскопкам в Иерихоне и центральноанатолийском Хаджиларе нам известен культ глиняных черепов. Керамики еще не существовало, но уже были хорошо обработанные каменные чаши, по которым эта ступень развития была названа «культурой каменных чаш».
Уже во времена древнейшего земледелия, когда люди еще не знали техники восстановления плодородия истощенной земли, начались массовые переселения ищущих новой земли крестьян из Малой Азии на острова Эгейского моря и в материковую Грецию. Эти переселенцы оседали везде, где находили жирную землю, пригодную для обработки, и прежде всего в Фессалии. Поселения были также основаны на многих островах Эгейского моря для того, чтобы облегчить путь через море. Теперь мы находим и в Элладе следы первых долговременных поселений, земледелия и регулярного скотоводства. Именно с этого началось то имеющее всемирно-историческое значение движение, которое мы называем «малоазийским культурным дрейфом». Речь шла о переселении и миграции земледельцев в поисках свободной земли, о перемещении вместе с ними предметов культуры, людей и товаров, знаний и идей, и перемещение это текло в едином направлении – из Передней Азии в Европу. Началось оно уже в шестом или, по меньшей мере, в пятом тысячелетии и продолжалось до начала третьего тысячелетия. То было великое движение передовой переднеазиатской культуры.
Важный прогресс наметился, когда в Передней Азии перешли к изготовлению сосудов из обожженной глины. Этот материал находок имеет для нас большое значение, так как подобные сосуды самой технологией их изготовления, формой и украшениями в такой степени были связаны со временем их появления, что нам стало не слишком трудно датировать находки. Разумеется, сосуды сохранились в целом состоянии только в захоронениях, хотя все культуры, как правило, оставляют после себя только одни черепки. Часто культурные слои располагаются друг над другом, и границы между ними устанавливают по найденным черепкам, особенности которых и позволяют проводить временные границы.
С появлением горшечного промысла мы восходим на ступень расцвета неолита, характерными признаками которого являются отшлифованные – но не грубо оббитые – каменные орудия и керамические изделия. На основе разнообразий форм глиняных сосудов и некоторых других находок стало возможным разграничение на территории Передней Азии и прилежащих к ней областей ряда культурных провинций. Одной из таких провинций считаются Сирия и Месопотамия, где была обнаружена культура Тель-Халафа, другая культурная провинция образовалась в Палестине, третья в Египте, четвертую мы видим в Иране, эта последняя культура распространяла свое влияние до Передней Индии (культуры Хараппо и Мохенджо-Даро). Пятая культурная провинция – это Анатолия; ее пределы расширились на запад за счет переднеазиатского культурного дрейфа.
Кроме того, после возникновения гончарного промысла возобновилось движение с Востока. Как только пришедшие в движение племена начинают заниматься земледелием, скотоводством и переходят к оседлости, так сразу же за этим следует гончарный промысел, украшение сосудов резьбой и живописными изображениями, изготовление и применение печатей и культ великой богини-матери, которую изображали в виде идолов или рисунков на сосудах.
Этот культурный поток прокатился над Эгейским регионом далее на запад и северо-запад, одним крылом в Италию, другим на Балканы и в пойму Дуная и еще дальше, в Центральную Европу. При этом обширная анатолийская культурная провинция с самого начала проявляет известную обособленность от соседней Сирии и Месопотамии, в Малой Азии языковой тип древних средиземноморцев развился в значительный культурный язык, в то время как в Сирии и Месопотамии со всей очевидностью преобладали шумерские и семитические идиомы. Семитическое влияние рано оставило глубокий отпечаток также в Палестине, а в Египте культурный подъем начался с момента смешения живших там хамитов с пришельцами-семитами.
Автохтонный малоазийский языковый тип вместе с переднеазиатским культурным дрейфом распространился на Эгейский регион, в Италию, на Балканы и на Дунай. Всюду в этих местах язык пришельцев оставил следы в названиях населенных пунктов, которые сохранялись вплоть до последнего времени. Характерны звуковые сочетания nt и ss, присутствующие в конечных слогах. Границы распространения малоазийской культуры можно определить по таким названиям, как Найссос, нынешний Ниш, Карнантум, возле нынешней Вены, Карантания (Каринтия), Пустерталь (некогда Пустрисса), Тарент в Италии и Кримиссос на Сицилии.
Поскольку анатолийская лексика распространялась из района Эгейского моря, мы привыкли обозначать ее как «эгейскую». К этой эгейской группе языков и народов принадлежали все переселенцы, которые явились в Грецию, на Балканы, на Дунай и в Италию из Малой Азии.
Центры анатолийской культурной экспансии располагались в Киликии, что подтверждается археологическими находками в Мерсине и Тарсе, далее, в Восточной Анатолии, где в 1960-х годах были проведены основополагающие исследования Джеймса Меллаарта в Чаталь-Хююк, и в центральных районах Малой Азии, где тот же ученый отыскал в Хаджиларе богатый материал по керамике и малой скульптуре.
Эгейская область восприняла толчок к развитию высокой культуры не только в результате переднеазиатского культурного дрейфа. Существовали также влияния, исходившие с противоположного берега Средиземного моря, из Египта и Северной Африки, так что мы можем с полным правом говорить также и о «североафриканском культурном дрейфе». Разумеется, путь этих влияний пролегал дальше на Запад, в Испанию, Бретань, Британские острова и Северную Европу, а также на Мальту, Сардинию и Корсику. Все же этим культурным дрейфом был затронут и Крит, а вместе с ним и Эгейский регион. Африканские влияния принесли с собой прежде всего мегалитические строения в форме круглых и куполообразных захоронений, каменных кругов и менгир, а также средиземноморский «пещерный дух», который был склонен для отправления культа прятаться в подземных убежищах. Этим вторым культурным дрейфом на Крит были занесены многие влияния в керамике и обработке камня, а позже и в строительстве купольных гробниц, что должно было сыграть значительную роль в становлении культуры Крита и Микен.
Культуру, которая в результате переднеазиатского культурного дрейфа достигла материковой Греции, мы, по расположенному в Фессалии месту ее находки, обозначаем как культуру Сескло. Речь идет о крестьянской культуре с многочисленными деревнями и несколькими центрами более городского типа, но больше всего она была привязана к Фессалии и Беотии, плодородным областям с высоким уровнем благосостояния населения, которое, кроме земледелия, занималось также морскими путешествиями и торговлей. Как бы ни зависела культура Сескло от цивилизации Малой Азии, все же влияние последней не было абсолютно доминирующим. Здесь несколько упростилась декоративность великолепно расписанных, но чрезмерно роскошных анатолийских керамических изделий, превратившись в многообразно варьирующую схему рельефных узоров. Особое внимание мастера уделяли гармоническому оформлению сосудов. Анатолийская скульптура с ее богатством воплощений великой Богини Матери была в Эгейском бассейне сведена к типам стоящей, сидящей и присевшей на корточки богини, при этом скульпторы избегали всякой схематизации и каждой фигурке придавали неповторимую форму и прелесть. В архитектуре начинают исчезать ранние формы мегарона, в основном строили квадратные в плане дома с каркасными стенами, наклоненными внутрь, что позволяло избежать обрушения зданий во время землетрясений.
Поскольку на Крите египетско-североафриканское влияние было сильнее, чем в материковой Греции, постольку в противоположность культуре Сескло культура Крита занимает особое место. В эпоху неолита Крит был уже довольно густо заселен, при этом жившие там люди уже освоили отгонное скотоводство на склонах критских гор. Особенно обширным поселением был Кносс. Под североафриканским влиянием в керамике мастера отказались от живописной росписи сосудов в пользу инкрустированных резных украшений. Также и при изготовлении каменных сосудов придерживались египетских образцов. Что касается скульптуры, то в слоях, относящихся к раннему неолиту, мы совершенно неожиданно сталкиваемся с мужскими статуэтками, изображающими людей в своеобразных набедренных повязках, форма которых указывает на иммиграцию на Крит ливийцев. Однако в малой скульптуре Крита прослеживается также мотив переднеазиатской великой Богини Матери.
Но как бы то ни было, идолы, созданные на острове, по своей красоте и художественной зрелости не могут идти ни в какое сравнение со скульптурными изображениями человека, найденными в материковой Греции. Напротив, в скульптурных изображениях животных мы встречаемся с выдающейся пластикой, в которой даже проявляются черты жанровой скульптуры. Так же как на материке, находим мы на Крите зачатки наивного раннего реализма, основанного на непосредственном восприятии окружающих предметов. Этот реализм в корне противоречит началам позднего эллинистического искусства, истоки которого проистекают из понятийных представлений, а следовательно, из абстрактных идей.
Великая Богиня Мать в Эгейском регионе постепенно расчленяется на отдельные локальные образы. Нередко рядом с ней изображают умирающего и воскресающего бога весны и растительности, который был таким же партнером богини, как в Малой Азии Атис, в Сирии Адонис, а в Месопотамии Таммуз.
В Эгейском бассейне к перенятым на Востоке представлениям добавилась одна новая черта: на первый план выступили содрогания тектонических сил подземного мира. Без сомнения, это можно объяснить внешними влияниями, прежде всего частыми в Греции землетрясениями и тем, что мы теперь называем «карстовыми феноменами» (пещерами, подземными реками и т. п.). Если в Передней Азии люди особенно страшились многочисленных богов, покровителей погоды, представлявшихся верховными правителями мира, то в Эгейском бассейне такой верховной владычицей стала «великая Богиня», правившая подземным миром.
В течение неолита постепенно намечался медленный прогресс, в результате которого люди научились добывать медь, золото и серебро. Лидирующие позиции в этом процессе занимала опять-таки Передняя Азия с ее богатыми залежами – прежде всего меди и серебра. Поначалу металл использовали только для украшений в виде крученой проволоки и заколок. Позже из меди стали изготовлять некоторые инструменты, орудия труда и оружие, а потом отдавать предпочтение – вследствие большей твердости – сплавам меди с другими цветными металлами. Начали, в конце концов, изготовлять и металлические сосуды, сначала путем отливки и ковки, а затем и путем пайки листового металла. Все эти изменения не слишком быстро появились в Анатолии, а потом так же медленно начали проникать и в Грецию. Прошло очень продолжительное время, прежде чем эти изменения привели к перевороту в образе жизни. При этом мы говорим сейчас о Передней Азии, где с четвертого тысячелетия до нашей эры начал происходить переход от неолита к меднокаменному веку (энеолиту). При этом культура Греции пока еще оставалась на стадии неолита (нового каменного века). Тем не менее и там гончарному делу все больше и больше угрожала конкуренция со стороны металлических ваз, поэтому горшечники начали искать способы изготавливать сосуды, которые своей формой и темным блеском походили бы на металлические изделия. Это привело к отказу от цветной росписи стенок сосудов. Такая смена стиля возвестила переход к веку металла.
Переднеазиатский культурный дрейф послужил толчком к развитию более квалифицированного земледелия, к появлению оседлости и развитию гончарного дела в Центральной Европе. Там эти культурные влияния столкнулись с народностями, которые с доисторических времен украшали предметы своего обихода спиральным орнаментом и меандрами, то есть мотивами, которые до того времени оставались в основном чуждыми народам Средиземноморья. Поскольку в центральноевропейском регионе эти художественные мотивы были перенесены на изделия гончарного промысла, то на территории от Бельгии до Польши, Венгрии и Румынии распространилась культура так называемой ленточной керамики. К сожалению, нам совершенно неизвестно, носителями каких языков были авторы этих изделий.
В первой половине третьего тысячелетия у этого культурного круга появилась наклонность к экспансии. Мы можем утверждать это в отношении Восточной Европы и Италии; главные волны переселения хлынули прежде всего на Балканский полуостров и в конце концов докатились до Греции. Именно там за время от 2700 до 2500 года до н. э. осели представители культуры ленточной керамики, пришедшие туда отчасти из Венгрии и отчасти из Румынии. Одной из таких орд приписывают основание фессалийского городища Димини, и по этой причине вся эта волна перемещения народов называется в литературе переселением Димини. Целью пришельцев была богатая Фессалия, но часть этой волны докатилась до Пелопоннеса и Киклад. На северо-востоке пришельцы достигли фракийских берегов Эгейского моря и Малой Азии, но это были осколки великого переселения. Число вторгшихся переселенцев, также и тех, что осели в Фессалии, было слишком мало, чтобы они смогли утвердить надолго свое искусство и свой язык. Они ассимилировались среди местных народов так же, как позже ассимилировались норманны в Нормандии, а лангобарды в Италии. Остались лишь спирали как художественный мотив украшений, мотив, который позже играл такую важную роль в культурах Крита и Микен. С точки зрения универсальной истории эти переселения положили конец переднеазиатскому культурному дрейфу в том отношении, что возник встречный поток, сменивший одностороннее движение исторических сил и культурных ценностей из Азии в Европу. Впервые в истории Европа перехватила инициативу и распространила культурные элементы своих переселений в юго-восточном направлении. С тех пор Греция подпала под двойное влияние Малой Азии, с одной стороны, и Балканского полуострова – с другой, став зоной напряжения в месте встречи экспансий двух континентов.
То, что уменьшилась, а затем и вовсе исчезла угроза со стороны носителей культуры ленточной керамики, зависело не в последнюю очередь от того, что во второй половине третьего тысячелетия их оттеснили новые пришельцы, среди которых они в конце концов окончательно растворились. Индоевропейские племена покинули места своего обитания в Юго-Восточной Европе и положили конец эре ленточной керамики. Как завоеватели, появились они и на берегах Эгейского моря. Поскольку они не принесли с собой никаких существенных предметов материальной культуры, постольку археология не может точно сказать, когда именно состоялось их первое появление в этом регионе. По этой же причине мы не можем с уверенностью определить время, когда первые группы индоевропейцев вторглись в Грецию или в Малую Азию. Их первые вторжения не могли еще изменить культурное лицо обоих районов. Но в Анатолии уже тогда мог возникнуть эгейско-индоевропейский смешанный «лувийский» язык. Кроме этого, во второй половине третьего тысячелетия в Анатолии, на островах, включая Крит, в материковой Греции и в Македонии образовался культурный круг, который был резко отграничен от все более индоевропеизирующейся внутренней Европы, от семитической Сирии и шумерско-семитической Месопотамии. Этот культурный круг, хотя и имевший глубокие корни в неолитической традиции и этнически определявшийся в существенной степени старыми эгейскими народностями, был в языковом отношении, во всяком случае там, где это касалось лувийцев, под большим влиянием индоевропейских народов. Повторная анатолийская культурная экспансия проявилась прежде всего достижениями малоазийской металлургии. Представляется, однако, что малоазийский народный элемент вскоре снова схлынул. Идет ли в этом случае речь о лувизированных народностях, пока доподлинно неизвестно.
С окончательной победой образа жизни, обусловленного внедрением металлов, начинается – в Малой Азии и на Крите около 2600, а в материковой Греции около 2500 года до н. э. – эпоха металла, а именно раннебронзовый век. Разумеется, в те времена не хватало такого необходимого элемента для легирования меди, как олова. Таким образом, в течение раннебронзового века мы имеем дело с сообществами, фаза культурного развития которых определяется все еще преимущественно медью. Из практических соображений, однако, в отношении начала металлической эпохи принято говорить все же о бронзовом веке.
Мы делим эпоху бронзы на три периода – ранний, средний и поздний бронзовый век, при этом промежуточная временная граница находится между 2000 и 1600 годами до н. э., а поздняя ступень заканчивается в 1200 году до н. э., после чего наступает железный век. В районе Эгейского моря культурный круг раннебронзового периода распадается на отдельные области – Малую Азию, Крит, материковую Грецию, Киклады и Македонию. Артур Эванс, первооткрыватель минойского Крита, назвал этот район минойским, по имени легендарного царя Миноса. Бронзовый век материковой Греции был назван Уэйсом и Блегеном «элладским», а для малоазийского бронзового века Махтельд Меллинк предложил наименование «анатолийский». Таким образом, в рамках раннего, среднего и позднего бронзового века можно говорить о раннеминойской, среднеминойской и позднеминойской эпохах, точно так же можно вести речь о раннеэлладской, среднеэлладской и позднеэлладской эпохах. Точно такое же членение можно применить и к ступеням бронзового века в Анатолии, на Кикладах и в Македонии.
В то время как в неолите и энеолите ведущую роль играли восточные и центральные районы Малой Азии, в раннеанатолийский период центр тяжести исторического развития переместился к западу полуострова. Здесь возникают новые многочисленные поселения, деревни и маленькие городки, городки – главным образом – как резиденции правителей. Наиболее известный город – место пребывания правящих династий – Троя (Илион), известная нам по раскопкам Генриха Шлимана, Вильгельма Дерпфельда, а позже одной американской экспедиции. Уже Шлиман разделил слои, относящиеся к раннебронзовому веку, на пять подслоев – от Трои I до Трои V. Однако и эти пять подслоев были далее разделены американцами на более короткие периоды каждый.
Троя оказалась окруженным мощной каменной стеной городом, в центре которого помещалась резиденция правителя. Здание, в котором жил и правил царь, в архитектурном отношении являло собой типичный мегарон – удлиненный дом, вход в который располагался в узком торце. Вход вел в передний зал, далее в главное помещение, а затем в дальнее, заднее помещение. В слое Троя II, который представляет город в период его наивысшего расцвета, в центре населенного пункта находилось большее количество монументальных, как представляется, мегаронических построек. От кварталов, населенных подданными, они были отделены особой стеной и перистилем – рядом колонн, изнутри обрамлявших стену. Мощная, опоясывающая весь населенный пункт городская стена за время периода Троя II была обустроена многочисленными башнями и воротами. Среди находок, сделанных в этой Трое раннебронзового периода, следует в первую очередь выделить керамику, имевшую весьма характерные формы, как, например, так называемые depas amphikypellon (остроконечные сосуды с двумя ручками) и амфоры, стенки и крышки которых украшались лицом или бюстом великой Матери Богини. Особого внимания, однако, заслуживают находки сокровищ, доступ к которым открыл Шлиман. Речь идет о кладах, которые закапывали в землю жители Трои II в предчувствии захвата города каким-либо врагом. В этих сокровищницах прежде всего удивляют изделия из золота и серебра, а также сосуды и дорогие украшения, выполненные тончайшей техникой зерни и филиграни. Было также обнаружено каменное оружие, представленное типом «боевых топоров».
Культуре Трои близка культура, обнаруженная в населенных пунктах соседних островов. На Лесбосе располагалось – по крайней мере эпизодически – окруженное стеной поселение Фермос, а на Лемносе – раскопанный итальянцами (в последний раз экспедицией Бернардо Бреа) сильно укрепленный город Полиохни. Примечательно, что в этих городах не найдены резиденции правителей. Важнейшими частями зданий – частных жилищ – были строения, выполненные в виде мегаронов.
Культуры остальной территории Малой Азии соответствовали культуре Трои, но в зависимости от места расположения проявляли свои местные особенности. Важным центром был Бейджусалтан на верхнем Меандре, где найдены храмовые святилища. Среди других предметов культа обнаружены «культовые рога», с которыми мы сталкиваемся также и на Крите. Дальше к востоку турецкими, американскими и английскими экспедициями были раскопаны разнообразные места, причем в Аладжа-Хююк и Хороз-Тепе обнаружили богато убранные царские гробницы. Среди прочего в них нашли превосходно обработанные металлические сосуды и важные в культовых обрядах «штандарты» великолепной ручной работы, выполненные из бронзы. Разумеется, по технике изготовления золотые украшения из Аладжи не идут ни в какое сравнение с изделиями из Трои.
На Крите древняя культурная традиция была продолжена, хотя здесь не обошлось без влияний культур Северной Африки и Передней Азии. В Северной Африке были заимствованы мегалитические круглые гробницы и некоторые типы скульптурной миниатюры, в Передней Азии заимствовали идею изготовления призматических печатей. Из Малой Азии пришел не только металл, но также некоторое количество металлических сосудов, напоминавших формой критские глиняные горшки. Должно быть, переселенцами из Малой Азии были те люди, которые принесли с собой на Крит культовые двойные топоры, «культовые рога» и так называемые kermoi – жертвенные чаши, соединенные между собой особыми стержнями.
Независимо от внешних влияний, на Крите существовала и местная культура, проявившая себя в архитектуре и изготовлении каменных сосудов. Строительное искусство оставалось верным неолитическим традициям, в которых отсутствовали столь любимые на материке мегароны. Однако в изготовлении изящных каменных сосудов местные ремесленники демонстрировали подлинное мастерство. Обнаруженные в царских гробницах восточнокритского Мохлоса сосуды являют собой несравненные шедевры. В тех же гробницах находили также золотые украшения, которые напоминают не столько изделия из Трои или Аладжи, сколько украшения из месопотамского Ура. В круглых гробницах были сделаны богатые находки, прежде всего в южнокритском Месаре, но также и в других частях острова. Что касается построек средних размеров, то они были покрыты кладкой, выполненной в форме купола (толосы). Круглые гробницы большего диаметра, напротив, покрывали деревянными кровлями.
В эпоху ранней бронзы жители Киклад покорили Эгейское море на своих многовесельных судах. Население этих островов стало посредниками между Анатолией и материковой Грецией, разведало оно и пути на запад – в Южную Италию, на Сицилию, Мальту, в Южную Францию и Испанию. Однако они выступали не только как купцы, перевозившие малоазийский металл, но и доставляли в эти страны изделия собственных промыслов. Жители Киклад распространяли по миру мраморные статуэтки обнаженных женских фигурок и мужчин-музыкантов. Такие статуэтки во множестве обнаруживают на островах-некрополях и в погребениях того времени.
Разумеется, в неолитических малых скульптурных формах не чувствуется большого искусства, фигурки выполняли, как на фабрике, большими сериями и партиями. Они находили потребителей и в материковой Греции, и на Крите. Тщательной обработкой отличаются коробки из зеленокаменных пород, украшенные сетью спирального узора. Печати, украшенные спиральным узором, были также впервые найдены на Кикладах. Позже их стали копировать на Крите и даже в восточных районах Малой Азии. Трудолюбие и прилежание жителей островов стало залогом их благосостояния, судить о котором можно по тому факту, что толщина тогдашнего культурного слоя намного превосходит толщину сегодняшнего культурного слоя. Представляется, что под влиянием Киклад находились Аттика, Эвбея и даже временами Крит. Вместе с тем через Крит из Северной Африки были позаимствованы круглые гробницы, однако это было лишь довольно скромное подражание. К сожалению, наши знания о Кикладах не отличаются большой полнотой и явно недостаточны, так как, возможно, расположенные там окруженные стенами города до сих пор еще не раскопаны.
Так же как на Крите и на Кикладах, в материковой Греции в раннеэлладский период существовали многочисленные мелкие городки и резиденции правителей. Один из типов правительственного здания был раскопан в Лерне в Арголиде американским археологом Дж. Каски. Города были опоясаны несколькими рядами стен. Внутри стен находились тесно примыкавшие друг к другу дома, оставлявшие небольшие пространства для тесных улочек. Здесь также можно повсюду обнаружить признаки значительной ремесленной деятельности, особенно в прибрежных городах, как, например, на восточном берегу Аттики, где обрабатывали доставленную из Малой Азии медь.
Другими населенными пунктами городского типа были Афины, Микены, Тиринс и уже упомянутая Лерна; количество деревень было весьма велико, возможно даже, что их было больше, чем в наше время. Представляется, что во всеобщий подъем внесли свой вклад пришельцы, которые в течение раннеэлладского периода переселялись из Малой Азии в Элладу и привносили урбанистическую ноту в господствовавшую там культуру и обычаи. Так же как на Кикладах, здесь можно заметить некоторый регресс в выработке произведений искусства. Развитая в неолите культура мелкой скульптурной формы практически угасла. Гончарное искусство, которое ограничилось подражанием формам металлических сосудов, на долгое время лишилось всякого декоративного орнамента.
На Крите жителями материковой Греции был заимствован мегалитический тип гробниц, в Аттике находят довольно убогие подражания кикладским захоронениям; на Лефкасе, однако, можно видеть круглые гробницы в форме кургана с окруженным стеной основанием, а на городском холме Тиринса были обнаружены окруженные стенами круглые строения, которые скорее надо рассматривать как монументальные гробницы, нежели как резиденцию правителей. Впрочем, и в Лер-не в центре города временами обнаруживают высокие и мощные курганы.
На рубеже тысячелетий, точнее, около 1950 года до н. э., после того как в раннебронзовую эпоху группы индоевропейских племен были вытеснены в Македонию и, возможно также, в материковую Грецию и Малую Азию, в Грецию вторглись другие народы. Большая часть существовавших к тому времени поселений была разрушена, портовые города восточного побережья подверглись уничтожению; раннеэлладскую культуру, насколько позволяет судить археологический материал, постиг насильственный конец. Частые находки боевых топоров говорят о тяжелых сражениях и жестоких грабежах. Разрушения и разграбления удалось избежать лишь немногим городам, как, например, Лерне.