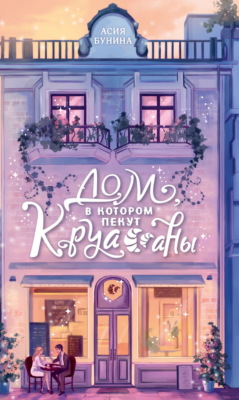Kitabı oxu: «Дни, когда мы так сильно друг друга любили»
Amy Neff
THE DAYS I LOVED YOU MOST
Copyright © 2024 by Amy Neff
All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission.
Cover Art: “© 2024 by Harlequin Enterprises ULC”.
 Школа перевода В. Баканова
Школа перевода В. Баканова
© Лаврентьева О., перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет за собой уголовную, административную и гражданскую ответственность.
* * *
«Я никогда не читала ничего подобного этому глубоко волнующему, сложному роману».
– ДЖОДИ ПИКОЛТ,автор бестселлера «Ангел для сестры»
* * *
Джонатану и саду, который мы вырастили
Если бы только при каждой мысли о тебе вырастал цветок, я мог бы бродить по своему саду вечно.
Альфред Теннисон
Глава 1
Эвелин
Июнь 2001 г.
Джозеф вот-вот все скажет, в воздухе разлито ожидание. Чтобы унять тревогу, я беру мужа за руку, бугристую от мозолей, с черной каймой вокруг ногтей – сажал сегодня в саду луковицы. Он сжимает мои дрожащие пальцы. Между нашими ладонями становится влажно и тепло.
Напротив, на стареньком продавленном диване, молча сидят дети. Два торшера рядом с нами распространяют желтое сияние. Джозеф их включил, когда только начало темнеть, а теперь, боясь помешать разговору, никто не встает, чтобы зажечь верхний свет. На пианино – их у нас два – льется лунный свет, отражаясь на клавишах цвета слоновой кости. Погрузившись в беседу, мы не заметили, как через распахнутые окна в дом вошла ночь. Воздух в кабинете неподвижный, тяжелый, необычайно жаркий для поздней весны в Коннектикуте. Слышно только жужжание вентилятора под потолком да эхо волн, доносящееся с пляжа Бернард-бич за поворотом.
Когда дети росли – а мы тогда держали семейную гостиницу «Устричная раковина», – кофейного столика было просто не видно из-под груды незаконченных пазлов с маяками Новой Англии. Сегодня же он заставлен остатками закусок: подтаявшими, лоснящимися кусочками сыра, изрядно общипанными кистями винограда и раскрошившимися крекерами. Джозеф просил меня особо не заморачиваться, но из Нью-Йорка приехал Томас, наш сын, которого мы не видели с Рождества, и у меня появился повод прогуляться до нового магазина вина и сыра в центре. Его открыли напротив «Викс Грайндерс», который стоит там еще с тех пор, когда внуки были маленькими: Джозеф совал им в ладошки долларовые купюры и отправлял за сэндвичами в вощеной бумаге, чтобы пообедать на пляже. Он пытался отговорить меня от посещения магазина, но я пока еще нормально ориентируюсь, хотя и хожу медленнее. Важное дело помогало мне сосредоточиться, держать мысли в узде.
Все молчат, ждут, когда Джозеф продолжит не предвещающее ничего хорошего вступление – «Дети, нам нужно сообщить вам что-то очень важное» – и объяснит, по какому поводу мы здесь собрались.
Вайолет, наша младшенькая, уже взрослая замужняя женщина, мать четырех детей, сидит на стареньком диване между братом и сестрой. Когда дети выросли и разъехались, а гостиница перестала принимать постояльцев, я сама поменяла на диване обивку; потом уже внуки предсказуемо наделали на ней пятен, а наполнитель по центру каждой подушки снова продавился.
Дети выросли здесь, в «Устричной раковине», как когда-то Джозеф. И, в какой-то мере, я сама. Наша троица – я, мой брат Томми и Джозеф – была неразлучна. Мы то и дело забегали в гостиницу через сетчатую москитную дверь, а мать Джозефа, размахивая фартуком и смеясь, выгоняла нас на крыльцо, чтобы мы не потревожили постояльцев. Спустя годы, которые пролетели незаметно, уже наши дети отмечали бронь номеров на исписанном календаре, подметали пол, помогали мне раскатывать тесто и вырезать на нем кружочки для печенья на завтрак. Потом подключились и внуки: провожали гостей в номера, снимали с веревки выгоревшие на солнце простыни, из садового шланга смывали песок со сложенных штабелями шезлонгов. В гостинице всегда было полно постояльцев; для меня череда сменяющихся лиц была подобна помехам на радио, белому шуму, под который мы жили своей жизнью. Даже сейчас, когда мы готовимся сообщить детям столь важную вещь, я не понимаю, как это все оставить. Тянет вернуться назад, вместе, и начать с самого начала.
– Нелегко вам говорить… Даже не знаю, как лучше… – запинаясь, произносит Джозеф, еще крепче сжимая мою руку.
Джейн, наша старшая, пристально смотрит на меня. Не поймешь, о чем она думает. В детстве ее эмоций было не разглядеть из-за буйной копны спадавших на лицо волос. Сейчас копна приведена в подобающий для диктора новостей вид: выпрямлена и подстрижена по плечи. Длинные руки-ноги, вытянутая шея стали для Джейн преимуществом. Некогда нескладная девчушка теперь двигается с заученной грацией. Я избегаю ее взгляда, боясь, что мое лицо выдаст меня, расскажет ей то, о чем я умолчала.
Томас, напряженно сжав губы, не сводит глаз с отца. У них практически одинаковое телосложение: оба ростом без малого шесть футов, с широкими плечами и узкими торсами, как у пловцов. Но в отличие от Джозефа, у которого только лет в шестьдесят появилась первая седина да на висках шевелюра слегка поредела, Томас начал седеть в молодости. Еще когда он выпускался из Нью-Йоркского университета, я заметила, что у него в волосах – там, где их не прикрывала академическая шапочка, – поблескивают серебряные нити. Томас был очень серьезным юношей и улыбался только для фотографий, даже в тот торжественный день. Сегодня он выглядит осунувшимся по сравнению с Рождеством – не знаю, вместе ли они с Энн готовят и ужинают или он в одиночку ест за письменным столом. Томас по-прежнему в брюках и рубашке, не стал переодеваться после напряженного рабочего дня, череды встреч с другими топ-менеджерами. Снял только пиджак, потому что невыносимо жарко и душно. Даже пот у него соблюдает дисциплину: испарина собралась у линии волос, и ни одна капелька не смеет стечь на лоб.
– Мама и я…
Джозеф балансирует на грани, глаза у него наполняются слезами. Я уже сомневаюсь, что он соберется с духом и скажет.
– Вы же знаете, как сильно мы друг друга любим и что всю жизнь мы вместе. И вас мы тоже очень любим… Поймите, мы просто не сможем жить один без другого…
Я почти готова вмешаться, взять удар на себя. Наши дети, наши малыши выросли. Когда-то они не могли без меня обойтись и в порывах любви хватали за ноги, забирались на колени. Потом они шли в школу, уезжали в другие города и жили своей жизнью, к которой мы не были причастны: заводили друзей, принимали решения, совершали ошибки, влюблялись, расставались; в их жилах течет наша кровь, но в потаенные уголки их душ мы не вхожи. И все это время мы с Джозефом, словно остров, оставались на месте, растерянные и озадаченные тем, как быстро мелькают года.
Он делает глубокий вдох, собирая волю в кулак.
– Мы не хотим оставлять последнюю главу нашей жизни на волю случая, не хотим жалкого, затянувшегося, мучительного для всех конца. Наверное, я повергну вас в шок – я сам в ужасе от того, что собираюсь вам сказать, и мы тоже не сразу свыклись с этой мыслью, – но, поверьте, лучше всего поступить именно так…
– И как же? Ну?.. – теряя терпение, спрашивает Томас.
– Через год, в следующем июне, мы планируем уйти из жизни, – срывающимся голосом договаривает Джозеф.
У Вайолет глаза лезут на лоб.
– Что?! Что вы планируете?!
– Мы не хотим, чтобы один из нас умер раньше. Не хотим жить друг без друга. У нас есть право самим решить, как закончится наша история.
Это объяснение звучит более мягко, чем прозвучала бы правда, но в голосе Джозефа боль: он изо всех сил старается облегчить бремя, которое мы сейчас возлагаем на плечи детей, и замаскировать истинные причины словами любви.
– Я не понял, – говорит Томас.
– О чем вы вообще? – бормочет Джейн и ставит свой напиток на стол, будто ей нужно поскорее освободить руки.
– Этот год станет для нас последним.
У меня возникает странное ощущение, когда я слышу эти слова со стороны, хотя некоторое время назад я сама сказала Джозефу то же самое: «Этот год станет для меня последним».
– Вы ведь шутите, да?
Джейн переводит взгляд с меня на отца и обратно, пытаясь понять, в чем соль шутки.
– Если бы, – отвечаю я.
– Ну объясните же! – умоляет Вайолет.
– Минутку…
Я пересаживаюсь к ним поближе, мостясь на краешке дивана.
Томас откидывается на подушки, подальше от меня.
– Да, объясните, будьте добры. А то нагнали жути.
– Мы с отцом стареем…
– Можно подумать, вам по сто лет! Господи, вам еще и восьмидесяти нет! – возмущается Джейн. – Сколько тебе исполняется, семьдесят шесть?
В это время в следующем году мне будет почти семьдесят семь, а Джозефу – семьдесят девять. С точностью до месяцев и дней высчитывать не стоит.
– А я и не говорила, что мы состарились. Я сказала «стареем». Дай мне объяснить.
Я держу эмоции под контролем, хотя все доводы, которые мы репетировали, застряли у меня на языке, а в горле пересохло от мысли о грядущих потерях, о том, чего мы лишаемся, от горя, которое мы зазываем в нашу тихую гавань.
Томас ерзает на месте, кипя от злости.
– Просто однажды мы дойдем до точки невозврата, когда один из нас перестанет узнавать другого, когда мы не сможем друг о друге позаботиться или вообще не вспомним, кто мы такие. И нет способа выяснить, когда настанет этот день, нет способа остановить время. Мы уже прожили дольше своих родителей, за исключением моей матери… Но вы помните, как мы с ней намучились за эти годы. Ни к чему такой ужас ни вам, ни нам.
– Есть специальные пансионаты для таких случаев! Есть нормальные, рациональные решения, – перебивает меня Джейн.
Я спешу продолжить:
– Нам не нужна такая жизнь. Ее нельзя назвать полноценной. Мы не хотим жить друг без друга.
– И в итоге вы надумали… – Томас складывает руки на груди.
– Мы надумали прожить последний год, – вступает в разговор Джозеф, – на полную катушку. Не медленно увядать и чахнуть, а оставить вам и внукам счастливые воспоминания, уйти на высокой ноте.
– Ой, вспомнили, что у вас есть внуки? – фыркает Джейн.
– Мы о них и не забывали, – выдавливаю я, еле сдерживая слезы. – Мы очень хорошо обдумали наше решение.
Томас выдыхает через нос, получается похоже на смешок.
– А мы? Как мы без вас?!
Всплеск эмоций Вайолет не встречает поддержки со стороны брата и сестры. Взгляд Джейн перемещается от меня к Джозефу и обратно, затем фокусируется на блюде с сыром, будто там спрятаны ответы на все вопросы. Я понимаю, что она осмысливает ситуацию, переваривает услышанное, сопоставляет наши слова с известными ей фактами и… не находит объяснения.
Пытаясь проявить хоть какое-то подобие силы и уверенности, Джозеф выдавливает из себя улыбку, которая получается ужасно грустной. Сердце у меня просто разрывается.
– Вы же знаете, как мы вас любим. Пусть этот год станет большим семейным праздником, который мы проведем вместе.
– Праздником? – скептически говорит Томас. – Ладно, у меня, конечно, к вам миллион вопросов, но главный такой: кто-то из вас смертельно болен?
Я мягко улыбаюсь.
– Мы все смертны, Томас.
– Очень смешно, ма.
– Серьезно, мам. Кто-то из вас заболел?
Джейн сейчас походит на застывшую в стойке гончую, которая навострила уши на шорох в траве. Я обещала себе ничего им не говорить. Во всяком случае, пока.
– Мама!
От настойчивости Джейн у меня покалывает в подмышках, свет вдруг кажется слишком ярким.
– Мама! – вторит ей Вайолет, чувствуя, что они напали на след.
После бесконечных обследований диагноз подтвердился, у моего упорного тайного врага теперь есть имя. Есть объяснение моему состоянию. Теперь я знаю, кто ворует у меня память, мешает организму нормально функционировать, заставляет забыть и саму себя, и тех, кого я люблю. В этом слове гнездится мой страх. Паркинсон. Лекарства, которые должны были помочь, не помогают. Болезнь быстро прогрессирует, врачи разводят руками: они такого не ожидали и не в состоянии объяснить. Я попала в ту невезучую треть пациентов, которой грозит скорая деменция, – этот кошмар мне знаком. В доме для престарелых, где находилась моя мать, пахло гнилью и хлоркой; мать кричала, швыряла вещи, не узнавала меня; в ее воспоминаниях были провалы длиной в десятилетия. Мой конец может быть еще хуже.
– Зачем вы нас обманываете? – обвиняет Джейн, будто приставляя мне нож к горлу.
– Мы не обманываем…
Я зажимаю дрожащие пальцы под коленями, ищу лазейку, не хочу раскрывать диагноз.
– Но и всю правду не говорите!
– Эвелин, скажи, они поймут… – сдается Джозеф.
– Что поймем? – Вайолет бросается к отцу.
– Джозеф…
– Они все равно узнают…
Плечи у него поникли под тяжестью несказанных слов; все силы он потратил на то, чтобы начать разговор.
– Мы ведь это обсуждали!
Я сопротивляюсь желанию утихомирить его, утащить в другую комнату.
– Что именно?
Взгляд Вайолет мечется между нами, она похожа на ребенка, который умоляет рассказать ему «страшный секрет».
– Я так и знала! – восклицает Джейн, воздевая руки.
– Невероятно, – бормочет Томас.
Он встает, подходит к камину и остается там стоять, облокотившись о каминную полку.
– Рас-ска-зы-вай! – Джейн выделяет каждый слог, будто проворачивая ключ в замочной скважине и открывая заветную дверь.
– Эвелин…
– Я не хотела…
– Вы же понимаете, что мы от вас не отстанем, – говорит Томас.
– Мама, что происходит? – В голосе Вайолет нотки страха.
– Вы с папой и так уже заявили, что намерены покончить жизнь самоубийством. А теперь хотите сообщить еще что-то более ужасное?! Что может быть хуже? – вопрошает Джейн.
Несмотря на абсурдность разговора или как раз из-за нее, мне хочется засмеяться. Я сдерживаюсь, и смех клокочет в горле будто рыдание.
– Будет хуже, если вы начнете со мной носиться как с хрустальной вазой.
Частичное признание, первая за сегодня правда, вырывается у меня против моей воли.
– Значит, ты собралась умирать, – заключает Джейн.
– Через год, – соглашаюсь я, отчаянно желая вернуться к тому, с чего мы начали: «В следующем июне. Это наш последний год».
– Полный трындец, – произносит Томас.
– Ма, слушай…
Слова Джейн – будто рука, протянутая из спасательной лодки. Она, как никто другой, знает, каково это – барахтаться в воде, приготовившись к худшему.
– Ты правда думала, что мы согласно покиваем и оставим все как есть?
Я выдыхаю, беру курс на смирение. «У вас вторая стадия». Шесть месяцев назад даже первая стадия казалась кошмаром. «Болезнь быстро прогрессирует. Обычно между стадиями проходят месяцы, годы, а у вас…» Сейчас я бы все отдала, чтобы вернуться на первую. Джозеф, конечно, прав. Забор, который я воздвигла вокруг своей болезни, слишком хлипок. Даже без моего согласия они разберут его на раз-два.
– У меня болезнь Паркинсона. Прогрессирует быстрее, чем предполагали врачи. Я хотела как можно дольше сохранять подобие нормальной жизни, но течение болезни…
Я показываю им руку – такой тремор не скроет и искусный игрок в покер.
– Ой, мамочка… – начинает Вайолет.
– Господи… – выдыхает Томас.
– О боже, мама! Ну как же так… Почему ты нам ничего не говорила? Послушай, у Майкла Джея Фокса ведь как раз Паркинсон, да? И он вполне себе нормально живет, снимается, о смерти вроде и не думает, – говорит Джейн.
– У всех по-разному. Мой лечащий врач сказал, что у меня редкий случай.
– Проконсультируемся у другого врача, – настаивает Томас. – Ты обращалась за вторым мнением?
– Вот поэтому я и не хотела вам говорить! Несколько лет меня обследовали вдоль и поперек, чтобы найти способ остановить болезнь. Увы, таковых нет. – Голос у меня срывается. – Не хочу торчать в больницах и поликлиниках, не хочу, чтобы вы носились в поисках какой-то волшебной таблетки. Все, так я решила. Никаких больше обсуждений моего диагноза.
– Надо было сказать. Возможно, у нас получилось бы помочь, – говорит Томас. – Это ведь не только тебя касается.
– Что мы можем сделать? – спрашивает Вайолет. – Должен быть какой-то выход.
– Так, подождите, – перебивает ее Джейн. – Мама, у тебя Паркинсон… Мамочка, милая, это ужасно, за что тебе эта напасть… Но… вы говорите, что вы оба хотите… Папа! А у тебя что?
– О господи! – Новая волна ужаса пробегает по лицу Вайолет. – Что с тобой, папа?!
Джозеф смущенно моргает.
– А что со мной?
– Вы сказали, что оба хотите покончить с жизнью, – поясняет Джейн; ее эмоции под контролем, она как доктор, изучающий историю болезни. – Что у тебя?
– У меня ничего.
– Ваш отец почему-то решил, что моя смерть становится и для него поводом умереть. Я буду вам очень благодарна, если вы все вместе его переубедите. У меня не получается.
– Эвелин, – предупреждающим тоном говорит Джозеф.
– Что-о-о? – Пораженный Томас трет лоб. – Вы оба сумасшедшие.
– Так ты здоров? – сухо уточняет Джейн.
– Насколько мне известно, да.
– И хочешь совершить самоубийство из-за того, что больна мама, верно?
– Я предпочел бы, чтобы мы оба остались живы, но она ясно дала понять, что это не вариант, – говорит Джозеф обиженно и резко.
Все, хлипкий забор рухнул, теперь не спрячешься, все карты на столе, нет смысла изворачиваться.
– Это что, какая-то извращенная проверка друг друга на слабо? – спрашивает Томас. – Вы блефуете?
– Я не блефую, – отвечаю я, уже желая повернуть время вспять, просто обнять детей и заверить их в том, что мы всегда будем рядом. Усилием воли я и себя саму заставила бы поверить в эту заманчивую ложь.
– Я тоже, – добавляет Джозеф.
Интересно, он доведет дело до конца? А я? Признаться в своих намерениях, выдержать гнев и боль детей (вызванные одними только нашими словами) – это одно. Но сделать?
– Я в замешательстве, – произносит Джейн.
– Па, я думал, ты более благоразумен. – Томас вызывающе смотрит на отца.
– Томас! – Я говорю твердо, но без резкости.
Мы ждали от него подобной реакции. Мы были готовы.
– Что? Что Томас? – усмехается он. – Елки-палки, да вы просто эгоисты! Как, по-вашему, Вайолет и Джейн должны преподнести это детям?
– Мы об этом подумали.
Только я хочу объяснить подробнее, как отвлекаюсь на свой тремор, который уже нет нужды скрывать. Джозеф снова крепко сжимает мои пальцы, и я благодарна ему за поддержку.
– Сильно сомневаюсь! – кричит наш сын. – Вы себя ведете как влюбленные подростки!
– Не ори! Я не могу сосредоточиться, – обрывает его Джейн, пользуясь статусом старшей сестры, – это круче, чем, как Томас, быть влиятельным финансистом.
Наша старшенькая… Трудно поверить: она, так и не побывав замужем, скоро сама может стать бабушкой: ее дочь Рейн с мужем пытаются зачать ребенка. Малыша, которого я, наверное, никогда не возьму на руки.
Эта еще не случившаяся, но уже мучительная потеря оставляет во мне незаживающую рану: я представляю Рейн в роддоме на кровати, с розовым младенцем на руках, рядом стул, на котором могла бы сидеть я; собралась родня, Рейн дает мне в руки своего малыша, моего правнука, однако меня там нет. Я никогда не увижу, как разворачивается новая жизнь, не почувствую, как крошечные пальчики обхватывают мои, не узнаю, как внучка постигает объединяющие нас секреты материнства. Как я держала своих детей, так и она будет держать своих, и я должна быть там, показать ей, дать ее усталым глазам отдых, сказать: «давай мне малыша», которого я люблю уже с тех пор, как полюбила ее, то есть еще до того, как мы встретились, и буду любить всю жизнь и во веки веков.
Томас поворачивается к другой сестре.
– Вайолет, как тебе это нравится?
Наша младшая меньше ростом, чем брат и сестра. Ей досталась моя миниатюрная фигура, а Томас и Джейн пошли в рослого Джозефа. Вайолет напоминает мне фарфоровую куколку (в детстве она любила с такими играть): волнистые волосы, пухлые губы, блестящие от слез глаза… Ее хрупкость прекрасна и осязаема.
– Я просто не могу себе этого представить, – тихо и неуверенно говорит Вайолет. – Только они не эгоисты. Это все ужасно, невыносимо, но в то же время как-то романтично, что ли.
Опустив голову и зажмурив глаза, Томас утыкается носом в сложенные лодочкой ладони.
– Ненормальная, – резюмирует он и поднимает взгляд на старшую сестру. – Джейн, ну хоть ты будь здесь голосом разума!
– У меня в голове это не укладывается, – отвечает она.
Джейн вертит в руках общипанную веточку винограда. Ковыряет ее, сдирает кожицу, добираясь до зелени междоузлия. Она не плачет, не злится. Просто пытается понять. Подобное решение кажется ей чуждым, непостижимым. Мысль о том, что можно кого-то любить столь сильно, приводит ее в ужас.
– Вы оба сошли с ума. – Томас, очень мрачный, качает головой.
Джозеф открывает было рот, чтобы объяснить, но я его опережаю, стараясь вернуть разговор в нужное русло.
– Конечно, вы расстроились, ничего удивительного.
Я говорю и тут же понимаю, что этих слов недостаточно, но в голове у меня туман, и я напрочь забыла заготовленное объяснение, которое, мы надеялись, их успокоит, утолит их печаль.
– По-твоему, мы просто расстроились? Совсем чуть-чуть, да? – Голос Томаса дрожит. – Ваша затея – безумие. Забудьте о ней.
Я продолжаю, чувствуя, что теряю силы:
– Вам нужно все осмыслить, это займет время. На данный момент мы просто хотим, чтобы вы знали. Все. Обсуждать тут нечего.
Джозеф кивает. Я чувствую на себе его взгляд. Он всегда улавливает малейшие изменения моего настроения и вскидывает брови, считывая с меня то, что я не в состоянии скрыть. У меня живот сводит от страха – события, что были гипотетическими еще вчера, закрутились в головоломную спираль. Таймер установлен, песочные часы перевернуты. Мне больше нечего дать, я иссякла. Решимость, которой я вроде набралась к сегодняшнему дню, улетучится, если дети продолжат наседать. Моя уверенность фальшива и разбивается вдребезги, когда я смотрю им в глаза. Джозеф, к счастью, как всегда знает, что мне нужно, – даже не надо просить.
– Хочется верить, что когда-то вы все поймете, ну а пока просто доверяйте нам и нашему решению.
Он отпускает мою руку и поднимается на ноги, давая понять, что разговор окончен.
– Нечего обсуждать, говорите? Надо просто вам доверять? – кипятится Томас.
Он взглядом ищет поддержки у сестер, но – по крайней мере, на данный момент – на поле боя он остался один. Вайолет совсем сникла, Джейн – сплошной лед.
– Опоздаешь на поезд, – мягко напоминает Джозеф.
Томас открывает-закрывает рот и упускает момент, когда еще можно было что-то возразить. В комнате повисает туман, как будто мы все видим одно и то же осознанное сновидение. Томас перекидывает пиджак через руку и направляется в прихожую. Джозеф – за ним, Джейн и Вайолет тоже поднимаются с дивана, и волшебный туман исчезает. Уже очень поздно, почти ночь. Вновь слышен шум бесконечно накатывающих на берег волн, до этого заглушаемый протестами наших детей. Я не обижаюсь, когда Томас уходит, не попрощавшись и не чмокнув меня в щеку. Мы понимали, что будет именно так. И все равно мне горько смотреть ему вслед. Джейн начинает собирать тарелки со стола, я машу ей, мол, не надо, но она не обращает на меня внимания и уносит их на кухню.
Вайолет опускается рядом со мной на диванчик, поджимая под себя ноги, как в детстве.
– Мама, я так переживаю! Господи, через что тебе пришлось пройти, каково тебе сейчас… Это ужасно. Жаль, что я не знала… Но, умоляю, не делай этого!
Вайолет страшно, страх накладывается на душевную боль, и во мне разрастается чувство вины. Как же им объяснить, что я вовсе не хочу умирать, но это единственный выход?
– Если бы все было так просто!
У меня по щекам катятся слезы. Я обнимаю дочь, пряча свои печали у нее в кудрях.
Джозеф на прощание говорит сыну:
– Понятно, что ты не одобряешь наше решение. Мы и не ждали. Но не пропадай, пожалуйста, Томас, хорошо?
Томас молча одаривает отца свирепым взглядом и, хлопнув москитной дверью, уходит.
– Имейте в виду, мы не договорили! – С этими словами Джейн хватает сумочку.
Пряча глаза, наскоро меня обнимает и спешит за братом. Джейн пообещала подбросить Томаса до вокзала – ему надо успеть на последний поезд до Нью-Йорка. Я переживаю: вдруг в таком взвинченном состоянии он не сразу найдет платформу и опоздает. Лучше бы, конечно, ему переночевать у нас, но он всегда возвращается в город до полуночи.
Джозеф провожает Вайолет к выходу, она берет его под руку и на секунду замирает у двери, словно запоминая гостиную перед тем, как она исчезнет. Вайолет живет по соседству и идет домой коротким путем, через сад. В этом крытом дранкой доме я выросла, его нам с Джозефом завещала моя мать. Интересно, когда Вайолет расскажет Коннору о нашем решении. Он хороший человек, любит нашу дочь, однако сам сроду не спросит, почему она без настроения.
Проводив Вайолет, Джозеф садится ко мне на диван. Хотя гостиная опустела, в ней витают отголоски произнесенных сегодня слов.
– Все прошло хорошо. – Его голос звучит напряженно, как будто после всех этих разговоров ему нужно откашляться. – Нам все равно надо было им сказать.
На сердце у меня тяжело; я вспоминаю, как Джейн беспрестанно вертела в руках веточку винограда, как плакала Вайолет и как злился Томас. Мы с Джозефом до этого обсуждали, рассказывать ли им вообще, гуманно ли давать им время подготовиться, тем самым обрекая на год мучений. Но я знаю цену секретам, и это не тот, который я могла бы хранить.
– Такое тяжело принять. Со временем поймут.
– Надеюсь, что ты права, – с нотками сомнения говорит Джозеф.
– Слушай, а ты быстренько меня слил.
Я вытираю щеки, не признаваясь, что наряду с гневом чувствую облегчение: теперь не нужно прятаться, придумывать оправдания, стесняться.
– Каюсь, дорогая. Но не ввести их в курс дела было как-то неправильно. Если ничего не объяснять, то получался театр абсурда.
– Я была не готова! – раздраженно бросаю я.
– А я, что ли, готов. – Внимание Джозефа останавливается на пустом диване, его собственная боль – как жертвоприношение вмятинам, оставленным детьми.
Мы сидим в тишине – не в той напряженной тишине, что была несколько мгновений назад, а в наполненной осознанием того, что мы вдвоем схватились за тяжелую ношу, что мы соучастники решений друг друга. Возможно, Джозеф делает ставку на то, что я передумаю, или на то, что этот разговор, мое убеждение унесутся вместе с моей угасающей памятью.
– Что теперь? – спрашиваю я.
– Теперь мы просто проводим предстоящий год вместе: ты, я, ребята с внуками. Пройдемся по следам нашей жизни, повспоминаем. Это все, чего я хочу.
– Так и знала, что ты это скажешь, – игриво поддеваю я Джозефа, предсказуемость которого словно отдающий горечью, но целительный бальзам.
– А что плохого в таком желании?
Моя игривость сходит на нет.
– Прекрасное желание. И все же… ты здоров. У тебя больше времени.
– Я слишком много дней провел без тебя.
Я прислоняюсь к нему, очень осторожно. Я в Бостоне, он в Европе – все кажется настолько далеким, будто происходило не с нами.
– Это было давно. С тех пор мы наверстали.
– Сколько бы мы ни были вместе, мне всегда мало.
В глазах мужа слезы, неумолимая действительность говорит нам о том, что год пролетит очень быстро.
– Мне тоже, – откликаюсь я.
Джозеф заключает меня в объятия.
– А ты чего хочешь? – шепчет он мне на ухо. – Ты же тоже об этом думаешь, я знаю. Представляешь себе, чем мы могли бы заняться.
– Прежде всего, я представляю, как ты передумаешь.
Я отстраняюсь и смотрю на него в упор красными от слез глазами. Впереди один-единственный год, и от неотвратимости происходящего меня бросает в дрожь. Было не так страшно, когда речь шла обо мне одной. Мне представлялось, что я просто уплыву, оставив легкую рябь на воде. Теперь в два раза тяжелее: на глубину, в неизвестность надо опуститься сразу двум камням.
– Прошу тебя, Эвелин! Сегодня и так несладко пришлось.
Я отступаю, наваливается усталость. Уступаю хотя бы на данный момент.
– Тогда ты знаешь ответ. Но, – качаю я головой, – это глупость несусветная, несбыточная. Не знаю как и вообще смогла бы я…
Я замолкаю, и он осторожно уточняет:
– Ты про оркестр?
Я смотрю в кабинет, где под светом ламп сияют два наших пианино. Глянцевый черный «Стейнвей», за который я сажусь редко. Этот образцовый инструмент я в двадцатых годах выпросила у отца, однако играть на нем под критическим взглядом матери было все равно что танцевать свинг где-нибудь в музее – так же неуместно, на грани безрассудства. Я предпочитаю «Болдуин», тот, что Джозеф купил с рук, из дерева теплого медового цвета, с пожелтевшими клавишами, банкеткой, под продавленным откидным сиденьем которой хранятся ноты. На этом пианино я научила играть Джейн и пыталась учить Томаса и Вайолет, хотя у них в итоге дело не пошло. На нем я давала уроки для начинающих и развлекала гостей: когда дети были маленькими, «Устричная раковина» была наполнена под завязку, и в гостиной проходили импровизированные концерты с музыкой, хохотом и танцами.
Самая большая мечта в моем списке – играть в Бостонском симфоническом оркестре. Всю жизнь я практиковалась, движимая этой мечтой, именно она заставляла мое сердце биться быстрее. Непрактичное, неправдоподобное стремление, которое расцвело во мне, когда я лелеяла надежду на другой путь; я так и не смогла его подавить, несмотря на разум, логику и траекторию моей жизни. Даже сейчас, когда я подошла к ее краю. Я не признаю, насколько несбыточной всегда была моя мечта, насколько смешной она стала сейчас. Моя идея кажется маленькой, эгоистичной в свете гнева на лицах моих детей. И все же потребность остается, пульсирует во мне, делается еще слышнее на фоне боя отсчитывающих мои дни часов.
Вместо всего этого я говорю:
– Нам нужно найти способ попрощаться.