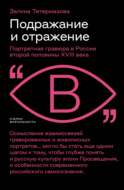Kitabı oxu: «Психомоторная эстетика. Движение и чувство в литературе и кино начала ХX века»
Очерки визуальности
Ана Хедберг-Оленина
Психомоторная эстетика
Движение и чувство в литературе и кино начала ХX века
Новое литературное обозрение
Москва
2024
УДК 821.161.1+791«191/192»
ББК 83.3(2=411.2)53-1 + 85.373(2=411.2)53-1
Х35
Редактор серии Г. Ельшевская
Перевод с английского А. Баженовой-Сорокиной, А. Коваловой и А. Хедберг-Олениной
Ана Хедберг-Оленина
Психомоторная эстетика: движение и чувство в литературе и кино начала ХX века / Ана Хедберг-Оленина. – М.: Новое литературное обозрение, 2024. – (Серия «Очерки визуальности»).
В конце ХIX века понятие «душа» в психологии уступило место нейрофизиологическим исследованиям состояний и деятельности человека, а в культурной сфере возникла идея о том, что любое произведение представляет собой набор раздражителей, вызывающих определенные реакции. Ана Хедберг-Оленина в своей книге исследует влияние психофизиологии на искусство начала ХX века, рассматривая отсылки к психологическим трактатам в работах искусствоведов и теоретиков, а также практические уроки, почерпнутые художниками из науки. Как актеры и режиссеры немого кино обращались к нейрофизиологии в поисках более выразительного движения? Зачем продюсеры киноиндустрии в США и СССР фиксировали реакции зрителей? Как в период становления массовой культуры разработки нейрофизиологии применялись для оптимизации рекламы и политической пропаганды? Автор демонстрирует, как по-разному и часто неожиданно работники культуры интерпретировали научные теории о нервной деятельности – теории, предвосхитившие современное применение нейронауки в психологии искусства и маркетинге. Ана Хедберг-Оленина – филолог, киновед, доцент кафедры сравнительного литературоведения и медиа исследований Университета Штата Аризона.
ISBN 978-5-4448-2425-2
© Oxford University Press, 2020
© А. Баженова-Сорокина, А. Ковалова, А. Хедберг-Оленина, перевод с английского, 2024
© Д. Черногаев, дизайн серии, 2024
© ООО «Новое литературное обозрение», 2024
Введение
…глухие физиологические процессы, управляемые ритмом кровообращения, вызывают в нас стремление к деятельности; и этот темп нашей крови мы переносим на творчество образов1.
Андрей Белый
Психология как научная дисциплина возникла в конце XIX века, когда она отмежевалась от философии и взяла курс на точные науки. Важнейшим шагом на этом пути стал отказ от метафизического понятия «души» в пользу нейрофизиологических подходов к психике. Как писал в 1890 году основоположник американской психологии Уильям Джеймс, душу нужно считать «средой, в которой комбинируются результаты множества процессов, происходящих внутри мозга»2. По утверждению Джеймса, только такая «психофизическая» формулировка, постулирующая соответствие между психическими состояниями и нервной деятельностью, открывает долгосрочные перспективы для исследования науки, претендующей на то, чтобы оставаться в рамках «не метафизического, но позитивистского знания»3. В тот же период в Германии Вильгельм Вундт подвел под психологию естественнонаучный фундамент. По его мнению, изучать психику при помощи широко распространенного метода самонаблюдения недостаточно, так как человек не может уследить за бессознательными процессами. Чтобы дополнить интроспекцию как метод, Вундт разработал процедуры лабораторного анализа элементарных мыслительных функций и ввел в оборот рабочие определения стимула и реакции. Он измерял силу отклика подопытного, рассчитывая скорость прохождения импульса от нервных центров к мышечным тканям. Современникам и последователям стало казаться, что ключ к эфемерной, неуловимой жизни человеческой души наконец-таки найден, что ее теперь можно измерять и анализировать. Экспериментальные лаборатории принялись зондировать механизмы чувственного восприятия, памяти, умственных и аффективных процессов, разлагая сложнейшие психические функции на элементарные составляющие и выискивая их материальную основу. Во Франции знаменитый психиатр и невролог Жан-Мартен Шарко стал вести фотографическую документацию спазмов и параличей «истерических» пациенток в поисках следов перенесенных ими душевных травм4. Итальянский ученый Анджело Моссо измерял увеличение поступления крови в мозг, когда испытуемый проделывал определенные задачи в уме (ил. 0.1)5.

Ил. 0.1. Аппарат для записи «мозгового пульса», использовавшийся итальянским ученым Анжело Моссо для регистрации притока крови к лобной части мозга во время решения умственных задач пациентом.
Возникновение институтов так называемой физиологической психологии создало дискурсивное пространство, в котором телесные симптомы интерпретировались как индикаторы внутренних процессов. Лаборатории начали разрабатывать специальные инструменты и методы для графического изображения мышечных сокращений, изменения дыхания, давления и пульса, считавшихся показателями нервной деятельности. Разрабатывая эти направления, психология постепенно расшатывала общепринятые представления о суверенном субъекте и его индивидуальном, подконтрольным ему внутреннем мире. Новые горизонты, которые открывала эта наука, завораживали исследователей и вместе с тем порождали стремление к контролю над телом и психикой. С одной стороны, ученые опускались в недоступные доселе глубины, где все было незнакомым, а привычные философские категории не работали. То, что когда-то метафорически называлось «движениями души», вдруг предстало в виде цепочек нервных реакций и рефлекторных автоматизмов. Новейшие исследования выявили обширные области человеческого поведения, неподвластные сознательному управлению. Представления о чувствах, действиях, мыслях и других душевных проявлениях вдруг начали терять свою привычную форму, представ в виде нервных процессов, дробящихся на электрические и химические сигналы между клетками. С другой стороны, научные открытия стимулировали позитивистское желание разложить по полочкам все детали, установить «нормы» и отклонения, а главное, найти практическое применение новым представлениям о физической первооснове мыслительных процессов. Покорение внутреннего мира продолжалось в этом направлении и в XX веке.
Рождение психологии пришлось на эпоху модерна. Этот период ознаменовался глубокими изменениями в социальных структурах, когда дали трещину вековые законы и негласные устои, регулировавшие права, ценности, возможности и самоопределение человека. Возникновение массовой культуры и авангарда перевернуло представления о том, что является искусством и как его воспринимать. Механизация – как отмечает Зигфрид Гидеон – вторглась во все сферы жизни, от производства товаров и услуг до транспорта, сообщения, военной промышленности, медицины и культуры6. Повседневная жизнь в индустриальной городской среде стала все более отличаться от жизни крестьянских провинций. По словам Георга Зиммеля и Вальтера Беньямина, чувства горожан ежедневно подвергаются шоку и гиперстимуляции, их повседневный опыт распадается на бессвязные фрагменты, а чувство социальной принадлежности становится все более зыбким. В статье «Орнамент массы» 1927 года Зигфрид Кракауэр заявляет, что символами его эпохи являются движения рук рабочих на конвейере и синхронное выбрасывание ног танцовщиц канкана «Тиллер Герлз»7. Эти повторяющиеся движения, согласно Кракауэру, показывают, насколько современный человек обезличен, анонимен, заменим и отчужден от плодов своего труда – ведь вся его жизнь сводится к одному телодвижению, к одному просчитанному эффекту в механизме экономики. С другой стороны, как конвейерная линия, так и массовые шоу стали источником новых ощущений, новых режимов расходования энергии, как физической, так и психической. В таком ключе эти явления стали объектом изучения прикладной психологии – молодого направления, вышедшего из экспериментальной психофизиологии XIX века. К 1920‑м годам эта наука уже прочно утвердилась в промышленных сферах, где требовался подбор рабочих с хорошей координацией, требовалось исследование условий, приводящих к хронической усталости и выгоранию, выделение способов психологического воздействия в рекламе и на плакатах по технике безопасности и т. п. Массовые зрелища и кинопоказы также стали предметом интереса психологов, пытавшихся объяснить, каким образом эти представления влияют на нейрофизиологические процессы, управляющие вниманием, памятью, эмоциями и закладкой новых поведенческих программ.
Однако проникновение научных идей в разные области культуры не происходило односторонне, сверху вниз. Многие художники и писатели эпохи (особенно новаторы, восставшие против классических форм репрезентации) обращались к психологическому дискурсу в поисках прозрения и вдохновения. Они хотели найти методы, которые бы позволили описать изменчивые состояния сознания и запечатлеть, как возникают и распадаются ощущения, мысли и настроения. Авангардистов более не удовлетворяли общепринятый язык и изобразительные традиции; их интриговали открытия психологов, нашедших органические связи между внутренними состояниями и телесной моторикой. Одновременно с ними филологи, искусствоведы и теоретики кино обращались к науке для того, чтобы понять природу психологических процессов, лежащих в основе восприятия новых форм, – например, чтобы оценить роль кинестетических и ритмических ощущений в формировании общего эстетического впечатления от произведения искусства. А еще часть работников сферы культуры, таких как менеджеры киноиндустрии, коммерческие рекламодатели и политики-пропагандисты, обращались к психологии, чтобы выработать техники для завоевания популярности у масс и контроля над реакцией аудитории.
В данном исследовании меня интересовало то, как идеи, взятые из физиологической психологии, проявились в теории и в художественной практике в разных областях культуры 1910–1920‑х годов. В эти десятилетия, ключевые для совместного развития художественного модернизма и индустриальной эпохи модерна, в междисциплинарном дискурсе XIX века на стыке психологии и искусства зародились новые вопросы о роли движения и мышечного чувства в творчестве. Я ввожу термин «психомоторная эстетика» для обозначения этого многогранного дискурсивного феномена. Несмотря на то, что взаимопроникновение идей между научной и художественной средой проявлялось в различных формах, и в каждом случае за ним стояли разные мотивации, есть одна основополагающая особенность, обеспечивающая описываемому мной явлению эпистемологическую целостность. Психомоторная эстетика была системой теоретических концепций и практик, делавшей упор на мышечном движении как неотъемлемой части когнитивных и аффективных процессов. В такой парадигме особый интерес вызывали не только выражения эмоций, о которых писал, например, Дарвин во влиятельном трактате, посвященном этой теме, в 1872 году8. Артикуляция звуков в речи, автоматизмы пишущей руки, непроизвольные жесты, сопровождающие реплики говорящего, микродвижения зрителей, синхронизированные с действием на экране, – это лишь некоторые примеры телесных проявлений, ставших предметом внимания художников и теоретиков. В своем исследовании я изучаю, как теоретически осмыслялись двигательные реакции и к чему эти интерпретации приводили.
В главах этой книги исследуются концепции движения тела, относящиеся к созданию литературных текстов, художественно-исполнительской деятельности, актерской игре в кино и к опыту кинозрителя. В работе показывается, каким образом идеи, практики и стратегии репрезентации, родившиеся из научного дискурса, повлияли на производство искусства, а также на его рецепцию публикой, исследователями, представителями кинопромышленности и просвещения. Проведенный анализ свидетельствует о том, что, обращаясь к глубинным знаниям психофизиологии, художники и теоретики сформулировали новые вопросы о природе творческой деятельности и эстетического переживания. Жесты и движения стали считаться неотъемлемой частью творческого процесса и восприятия искусства. Такие телесные проявления стали рассматриваться как точка запуска сложных внутренних переживаний и как мера их интенсивности. В то же время складывался новый подход к осмыслению продуктов художественного творчества – стихов, перформанса, фильмов. К художественным формам начали относиться как к матрицам, или моделям, служащим для того, чтобы вызывать те или иные эмоции. Произведения искусства стали анализироваться как комбинации стимулов для получения определенных кинестетических и аффективных ощущений. В этой работе я прослеживаю зарождение концепций, инициировавших этот процесс, и исследую его последствия.
Кроме того, эта книга рассматривает издержки биологического подхода к искусству, такие как физиологический редукционизм, нормативные стандарты и ложная ясность в интерпретировании внутреннего опыта. Подвергая сомнению утверждение о том, что телесные проявления предоставляют ключ к психологическим процессам, книга указывает на слепые пятна и апории, сопровождавшие выявление такой, якобы объективной «правды тела» в научных лабораториях и в культурных объектах. Каким образом эта «правда» была связана с доступными на то время технологиями и аналитическими методами экспериментаторов? До какой степени она отражала культурные идеологии и социальные иерархии эпохи? Как нейрофизиологический дискурс сформировал современное представление о творчестве, особенно же о дихотомиях инстинктивного и искусственного, заложенного и выученного, общечеловеческого и личного, автоматического и осознанного, вынужденного и игрового, безгранично открытого к изменениям и предустановленного? Эта книга рассматривает подобные проблемы на конкретных исторических примерах, чтобы выявить линии напряжения, проходящие между двумя компонентами понятия «психомоторный» – «психологический» и «моторный», – где первый элемент признаёт непознаваемую сложность человеческого мышления, а второй подразумевает механистический, управленческий взгляд на автоматизмы нервной системы.
Споры, спровоцированные вторжением нейрофизиологии на территорию искусства, резко выдвинули на первый план все тревоги индустриальной эпохи. В исторических исследованиях Ансона Рабинбаха, Фридриха Киттлера, Сесилии Тики, Марка Сельцера, Сары Даньюс, Фелисии Маккаррен, Уте Холль и других авторов, описывающих технологическую сторону модерна, наглядно показано, как различные модернистские практики пытались осмыслить стремительно меняющиеся представления об общественной роли, автономии и цельности личности, а также свободе воли в условиях технологической революции9. Данное исследование предполагает, что кризисы модерной субъективности – радикальный пересмотр нашего опыта как обезличенного, фрагментарного и потенциально программируемого – предугадываются уже в нейрофизиологическом тестировании процессов восприятия. По мере того как ощущение, чувство, мысль, действие, экспрессия и другие психологические функции растворялись в паттернах иннерваций, записанных лабораторными инструментами, индивидуальное «я» представало как циркуляция импульсов – картина, одновременно обескураживающая, освобождающая и соблазнительная, в том смысле что она уничтожала уже и без того рушившуюся идею рационального, суверенного субъекта и открывала новые горизонты для изучения и использования бессознательного. Переворачивая с ног на голову картезианское cogito, экспериментальная психология рубежа веков утверждала, что вся структура мышления обусловлена особенностями нашей нервной системы, включая цикл обратной связи между мышцами и центральной нервной системой.
Моторная иннервация с точки зрения физиологической эстетики
Идея документирования мышечных сокращений (будь то «произвольные» движения мышц скелета или «непроизвольные» сокращения сердца и мягких тканей, мышц, осуществляющих регулировку кровообращения, дыхания, мочеиспускания и других функций организма) стала важным методом экспериментальной нейрофизиологии XIX века. Подробные записи этих импульсов в режиме реального времени обеспечили детальную фиксацию физических процессов, таких как проявление эмоций, передвижение и осуществление труда. Таким же способом изучались проявления усталости, шока или нервно-мышечных патологий, а также механизмы внимания и вовлечения всего тела в процесс восприятия. Графическое фиксирование как будто обнажало внутреннюю жизнь подопытных, представляя ее в форме абстрактных синусоид и хронофотографических серий. Как показал Роберт Брэйн, такие научные изображения способствовали переходу идей из пространства физиологических лабораторий в более широкую культуру, популяризируя «технику, онтологию и антропологию, созданные экспериментальными физиологами» в среде художников и теоретиков10. Осуществленный с применением этих технологий анализ жестов, ритмов и разнообразных микродвижений тела занял важное место в дискурсе о физиологической эстетике, также известной как психологизм.
Психологизм был не единой теорией, а, скорее, набором подходов, пытавшихся объяснить аспекты художественного творчества и восприятия искусства с точки зрения биологии и психологии. Некоторые его направления выражались в псевдодарвинистских попытках определить эстетические предпочтения (такие как симметрия, гармония, определенные пропорции тела и т. п.) сквозь призму эволюционных преимуществ11. Однако основу психологизма составляли теории, описывающие элементарные законы перцепции. Основание для него заложили в середине XIX века Герман фон Гельмгольц и Густав Фехнер, исследовавшие психофизические особенности аудиальных и визуальных ощущений. Эмпирическая психология стала основой для анализа структурных особенностей произведений искусства, разрабатываемого в этот же период Иоганном Гербартом, Хейманом Штейнталем, Морицем Лазарусом и другими теоретиками. Именно в рамках перцептивной психологии впервые появились научные описания кинестетической эмпатии («вчувствования»). Неясные ощущения мышечного напряжения и слабые со-движения, вызванные наблюдением за движениями других людей и динамическими формами, интересовали философов-романтиков с конца XVIII века, однако лабораторное оборудование дало возможность эмпирически изучать этот телесный отклик. Во Франции коллега Жана-Мартена Шарко, Шарль Фере, анализировал «динамогенные» эффекты различных раздражителей, таких как свет разного цвета или звуки пианино, регистрируя изменения в мышечном тоне подопытных динамометром12. Фере также обнаружил и описал склонность чувствительных пациенток («истерических» женщин, находившихся в госпитале Сальпетриер) копировать действия других, назвав этот эффект «психомоторной индукцией»13. Как отмечали Джонатан Крэри и Роберт Брэйн, идеи Фере и других психофизиологов задали направление для художественных экспериментов рубежа веков и повлияли на многих художников и литераторов-модернистов14. Например, Крэри показывает, как пуантилист Жорж Сёра стремился к балансу «динамогенных и тормозящих эффектов» в композиции своих картин, так чтобы создать «гармоничное равновесие в психо-кинетическом отклике» зрителей15. Эти задачи были вдохновлены концепциями Фере.
Из Европы психофизиологические методы исследований быстро распространялись по другим странам. Молодые ученые из России и США целенаправленно ездили в исследовательские центры Германии и Франции, стажировались в лабораториях европейских светил науки, публиковались в европейских журналах и привозили новые идеи к себе на родину, создавая собственные независимые исследовательские центры. Благодаря международным контактам физиологический подход к эстетике распространялся за пределы Европы. Исследовательница Робин Ведер прослеживает биографию британского психолога Эдварда Титченера, который учился у Вильгельма Вундта в Лейпциге, а в 1892 году возглавил психологическую лабораторию Корнелльского университета в США. Титченер, будучи сторонником концепции кинестетической эмпатии (вчувствования), учил своих студентов воспитывать в себе внимание к собственным проприоцептивным ощущениям движения и позы16. В том же году Уильям Джеймс пригласил другого выпускника докторской программы Вундта, немца Хуго Мюнстерберга возглавить психологическую лабораторию в Гарварде. В 1904 году Мюнстерберг написал книгу по прикладной психологии «Принципы художественного образования», в которой утверждал, что кинестетическая эмпатия является неотъемлемой частью взаимодействия зрителя с художественными формами17. Знаменитые российские нейрофизиологи Иван Сеченов и Иван Догель учились у Гельмгольца и начали карьеру с исследований перцепции. В начале своего пути Сеченов изучал воздействие ультрафиолета на микроанатомию глаза, а Догель записывал изменения пульса людей и животных под воздействием музыки разных стилей18. Основатель российской школы «объективной психологии» и будущий рефлексолог Владимир Бехтерев учился у Вильгельма Вундта, Жана-Мартена Шарко, Пауля Эмиля Флексига и Эмиля Дюбуа-Реймона. Психологические лаборатории самого Бехтерева в Казани, а затем в Петербурге поощряли прикладные исследования в области эстетики, такие как изыскания Ильи Спиртова, касающиеся влияния музыки на работу мышц и кровообращение19. В последние два десятилетия XIX века в России появились первые серьезные психологические труды, посвященные эстетике. Среди них выделяется книга «Музыка и чувство» Александра Неустроева (1890), отстаивающая абстрактный взгляд на музыку и утверждающая, что мелодия передает не эмоции или конкретные образы, а «отдельные моменты психического движения, его скорость, медлительность, силу, слабость, возрастание, падение»20. Неустроев обращает внимание на эти абстрактные динамические параметры с тем, чтобы показать, как музыка воздействует на слушателя изнутри, влияя на характер его движений, сердечный цикл и пульс. В основе философской части книги Неустроева лежит перцептивная психология Морица Лазаруса и теория «чистой музыки» немецкого критика Эдуарда Ганслика. Среди психофизиологических источников – исследования Ивана Догеля о пульсе и его связи с музыкой и Эрнста Лойманна, вундтианского психолога из Страсбурга, изучавшего изменения пульса и дыхания при прослушивании разных метров поэзии21.
Метод графической записи, который использовался в психофизиологических исследованиях, нес в себе новую эпистемологию. Прикрепленный к телу кимограф чертит непрерывную кривую на вращающемся барабане, таким образом создавая беспредметную репрезентацию соматических показателей. Подобно хронофотографическим записям Этьена-Жюля Марея, сводившим движущуюся фигуру к нескольким подсвеченным векторам, непосредственная графическая транскрипция движений кимографом создавала математический образ биомеханических сил, формирующих телесное поведение. Эти записи предоставляли ученым данные, которые выглядели объективными, неиндивидуализированными и поддающимися количественному измерению. По сравнению с устным или письменным свидетельством подопытного кривая кимографа выглядела значительно более показательной. Она, казалось бы, записывалась автоматически, без посредничества языка или символических образов, без цензуры сознания и искажений вследствие ненадежной памяти и неосознанности ощущений. Использование графической регистрации дало начало двум противоположным тенденциям. С одной стороны, возможность ученых осмыслять соматические данные, представленные в оптической и математической форме, парадоксальным образом вывела за скобки уравнения ключевой элемент эксперимента – субъекта, так что результат выглядел бесплотной абстракцией. С другой стороны, тщательные транскрипции всех мимолетных состояний тела и микродвижений подогревали интерес к внутренним ощущениям пациента, несмотря на то что большая часть этих процессов не была доступна сознательному восприятию. Вдохновившиеся этими исследованиями художники, танцоры и теоретики культуры стали представлять жизнь тела в виде потоков энергии и биомеханических векторов, ощутимых как проприоцептивные настройки или телосостояния, которые можно корректировать, изменив привычные схемы собственных движений. Ученые обнаружили, что «мышечное чувство», или проприоцепция (когда нервные сигналы с периферии помогают мозгу понять то, каким образом мышцы задействованы в данный момент), играет ключевую роль в процессах восприятия и эмоциональных проявлениях, а также в приобретении навыков и выработке привычек. Появились новые термины, такие как «мышечная память» и «моторный образ», которые стали использоваться для обозначения двигательных навыков и режимов.
Упор, который делали ученые XIX века на объективных маркерах поведения, расширил представления о бессознательных проявлениях психики, благодаря чему философы получили новые аргументы для критики идеи индивидуальной воли, автономности и самоопределения человека. Через несколько лет после стажировки в Германии и Австрии российский физиолог Иван Сеченов опубликовал научно-популярное эссе «Рефлексы головного мозга» (1863), поразившее интеллектуальные круги в России своей открытой антиметафизичностью и детерминизмом. Статья Сеченова утверждает, что мысли в нашей голове являются укороченной версией моторной реакции, – а скорее всего, они и являлись моторной реакцией на предыдущей ступени эволюции. Другими словами, мысли образуются, потому что энергия, которая могла пойти на активацию движения, остается в мозге и распространяется по его нервным каналам. Далее Сеченов объяснял, что мышечное чувство должно считаться неотъемлемой частью чувственного восприятия и процесса познания, а также фундаментом для всех психологических состояний. Он утверждал, что наблюдаемое поведение является показателем происходящей в этот самый момент умственной деятельности:
все внешние проявления мозговой деятельности действительно могут быть сведены на мышечное движение. <…> все без исключения качества внешних проявлений мозговой деятельности, которые мы характеризуем, например, словами: одушевленность, страстность, насмешка, печаль, радость и пр., суть не что иное, как результаты большего или меньшего укорочения какой-нибудь группы мышц – акта, как всем известно, чисто механического22.
Исходя из этих представлений, Сеченов указывает на их значение для эстетики:
Мы знаем, что рукою музыканта вырываются из бездушного инструмента звуки, полные жизни и страсти, а под рукою скульптора оживает камень. Ведь и у музыканта и у скульптора рука, творящая жизнь, способна делать лишь чисто механические движения, которые, строго говоря, могут быть даже подвергнуты математическому анализу и выражены формулой23.
В размышлениях Сеченова о творчестве уже намечены спорные вопросы, которые не будут давать покоя художникам и теоретикам культуры и в XX веке. Сеченов высказывает предположение, что движения художника могут быть записаны и подвержены количественному анализу. Таким образом, форма произведения искусства сводится к физическими параметрам, а его воздействие на восприятие зрителя становится просчитываемым. Тайна «жизни» произведения, его способность впечатлять, завораживать, оставлять глубокий эмоциональный и интеллектуальный след, как кажется, разгадана. Однако какое место такая детерминистская концепция отводит вопросу о воле художнике и о роли сотворчества зрителя?
Фридриху Ницше, современнику Сеченова, также пытавшемуся осмыслить сформулированную еще Шопенгауэром проблему независимой воли, психофизиология предоставила дополнительное оружие для борьбы с традиционными представлениями об этике и личной ответственности. В «Воле к власти» (1888) Ницше заявляет, что сочувствие – это просто предрасположенность, обусловленная бессознательным телесным подражанием действиям других людей:
«симпатия» или то, что называют «альтруизмом», есть простые духовные проявления этого психомоторного раппорта (induction psychomotrice, как называет ее Ш. Фере). Мы никогда не сообщаемся мыслями, но только движениями, мимическими знаками, из которых уже потом вычитываем эти мысли обратно24.
Но как бы Ницше ни восторгался психофизиологией, в итоге он восстает против механистического детерминизма, предполагаемого ею. Как поясняет Крэри, ницшеанская идея «воли к власти» предполагает способность личности осмысленно пользоваться динамогенными и подавляющими импульсами собственного организма, то есть давать ход жизнеутверждающим порывам, вместо пассивного принятия внешних стимулов и внутренних биологических предрасположенностей. По мысли Ницше, художник таким образом становится проводником «силы, проявляющейся и утверждающей себя в собственной внутренней динамике»25. Сильное произведение искусства, соответственно, способно передать публике жизнеутверждающий всплеск динамогенной энергии.
Непроизвольные телодвижения глубоко интересовали писателей XIX века и стали частью обрисовки персонажей в реалистических романах, а также источником готического ужаса в историях о гипнотизме, раздвоении личности, телепатии, спиритизме и прочих мистических явлениях. В «Анне Карениной» (1877) Толстого изменник и неисправимый бонвиван Стива Облонский не может скрыть выражение лица перед заподозрившей его женой; впоследствии он объясняет себе выдавшую его мимику как «рефлексы головного мозга»26. В повести Куприна «Олеся» (1898) очаровательная деревенская ведьма гипнотизируют героя и начинает контролировать его походку, сначала имитируя его шаги, а затем заставляя его споткнуться. Повествователь поясняет этот гипнотический трюк через отсылку к отчету «доктора Шарко об опытах, произведенных им над двумя пациентками Сальпетриера, профессиональными колдуньями, страдавшими истерией»27. В обоих примерах бессознательные моторные проявления все еще не ставят под сомнение идею целостности личности: Облонский способен рационально оценить свое поведение, а повествователь в «Олесе» вновь обретает самоконтроль после того, как развеиваются колдовские чары.
Совсем иначе дело обстояло у писателей и художников рубежа веков, объявивших двигательные автоматизмы объектом своего творчества и необходимой предпосылкой собственного экспериментального стиля. Рей Бет Гордон ярко описала эстрадные манеры французских исполнителей рубежа XIX–XX веков, имитировавших медицинские образы истерии и эпилепсии для того, чтобы представить «популярное зрелище тела как совокупности нервных тиков, вывихов и механических рефлексов»28. Зрелище такого рода уже предполагало распад целостной, владеющей собой личности.
Художники-модернисты, в частности Эдвард Мунк, культивировали чувствительность к внешним стимулам, в особенности к ранящим и травмирующим впечатлениям, и пытались отреагировать на них посредством работы с цветом и линией, добиваясь, чтобы «момент стресса заново затрепетал»29. Как показывает Роберт Брэйн, Мунк сформулировал свою творческую позицию, опираясь на