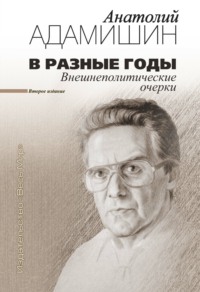Kitabı oxu: «В разные годы. Внешнеполитические очерки»
Жене Светлане и не только за эту книгу
© Адамишин А.Л., 2024
© Издательство «Весь Мир», 2024
От автора
Эта книга – мемуарные очерки советской, а затем российской внешней и частично внутренней политики с середины 60-х до середины 90-х годов прошлого столетия. Они основаны в значительной части на дневниковых записях, которые я вел более-менее регулярно все эти годы. Для ориентации во времени привожу свой послужной список:

Итого: ровно, почти дата в дату, сорок лет. Плюс в 1997–1998 гг. – федеральный министр по делам СНГ.
Пролог
С младых ногтей
В первую крупную дипломатическую игру попал я скорее по случаю. Состоял он в том, что в 1960-е годы служба моя в Посольстве СССР в Италии шла под началом Семена Павловича Козырева. Повезло мне с ним чрезвычайно. Это был человек самородного ума – начал он свою трудовую деятельность водителем – быстрой смекалки и, главное, постоянной заряженности на работу. (По молодости лет это качество меня несколько раздражало, ибо оборачивалось постоянной «эксплуатацией».) К профессионализму Козырева добавлялась его природная интеллигентность, брань и грубость ему претили. Ко мне, как сказала на его похоронах в августе 1991 г. вдова, Татьяна Федоровна, он относился как к сыну. Чего еще желать?
Лет через тридцать я узнал из опубликованных партийных архивов, что Козырев занял мужественную позицию, когда у нас «наверху» решался вопрос, как реагировать на решение присудить Нобелевскую премию по литературе Александру Солженицыну. (Здесь и далее я позволяю себе выделять курсивом собственные суждения, сделанные иногда много позже моих первоначальных записей об описываемых событиях и людях. Надеюсь это не будет мешать моим читателям.)
По-итальянски посол не говорил, французским, который был у него совсем неплохой, вне быта пользовался редко. Разговоры с иностранцами без свидетелей в то время не поощрялись, так что многие его контакты с миром шли через меня, переводчика. К тому же Семен Павлович, работавший с Молотовым и довольно близко знавший Сталина, не был склонен делиться своими размышлениями с окружающими. Но с кем-то посоветоваться нужно, а тут под рукой парень, который так или иначе в курсе разных дел и вроде не треплив. И посол все чаще как бы перепроверял на мне свои заключения и доклады в Москву. Со временем я вовсе стал писать некоторые не особо важные телеграммы, по-нашему «телеги». Поскольку к шифропереписке по причине низкого чина все шесть лет работы в посольстве я допущен не был, то сочинял на листочках, затем старший товарищ переписывал (все от руки!) на фирменную желтую бумагу. Постепенно я оказался не только в гуще событий, но и внутри дипломатической кухни. Терпеливо и целеустремленно натаскивал меня Семен Павлович.
Вообще-то, такова школа многих дебютантов и не только у нас. Молодого человека чаще всего распознавали именно в этих качествах – переводчика и помощника, а затем учили своим примером, своим опытом. Только тогда ты мог сказать, что получил образование, близкое к дипломатическому.
Беседы посла шли, как положено, с главными действующими лицами тогдашней итальянской политической сцены – президентами: Джованни Гронки, Марио Сеньи и Джузеппе Сарагатом, премьерами: Аминторе Фанфани, Альдо Моро, впоследствии похищенным и убитым «красными бригадами», Джулио Андреотти, Эмилио Коломбо. Деятели эти, разумеется, сильно отличались по человеческим качествам друг от друга, но со всеми Козырев сумел наладить контакт, иногда доверительный. Так я учился уменью расположить к себе, совершенно необходимому дипломату.
С такой, без преувеличения, исторической личностью, как лидер итальянских коммунистов Пальмиро Тольятти, Козырева связывали не просто тесные отношения, требующиеся по службе, но и личная дружба.
Повезло мне не только с послом, но и со страной. То был период бурного экономического роста, знаменитого «итальянского чуда», приподнятого настроения, веселых и жизнерадостных людей. После тягот фашизма и войны итальянцы стали выходить на широкую дорогу, сами удивляясь, как быстро они начали шагать. Они любили тогда повторять историю о шмеле, который не должен бы летать по законам аэродинамики: слишком у него короткие крылья и крупное тело, но он летает, посрамляя теорию. Точно так же по всем канонам не должна развиваться итальянская экономика, но она процветает, конфузя теоретиков. Страна находилась на ничем не омраченном подъеме. Экстремистские вылазки пришли позже.
Мудрый Козырев прекрасно использовал вновь появившееся у итальянцев чувство национальной гордости. Многие из них видели в отношениях с СССР возможность ослабить чрезмерную зависимость от атлантических союзников, прежде всего, экономическую. Именно при Козыреве знаменитыми сделками на итальянские трубы для советского газа и строительством автомобильного завода в городе Тольятти была пробита брешь в блокаде Советского Союза.
Развитие экономического сотрудничества вело к оживлению политических контактов, это вам подтвердят все учебники политологии. Но контекст оказался и более широкий. Тогда была предпринята одна из первых попыток ввести в цивилизованные рамки противостояние двух блоков: НАТО и Варшавского договора. Италия попала в НАТО без большого желания, ее втянула туда логика холодной войны, вину за развязывание которой несут, видимо, в равной мере Трумэн и Сталин. Итальянское правительство твердо стояло на стороне США и НАТО, но, подталкиваемое деловыми кругами, отнюдь не занимало крайние позиции. Речь скорее шла о нюансах внешнеполитической ориентации, тем не менее и за них внутри страны вспыхивала борьба. Итальянцы не раз позволяли себе действия, на которые атлантисты смотрели косо. Не случайно первым из глав западных государств официальный визит в Москву совершил президент Италии Джованни Гронки. В ходе его было подписано Соглашение о культурном сотрудничестве с Италией, первое, как и экономические сделки, в последовавшем потом длинном ряду таких документов со странами Запада.
Подобно сквозной теме Станиславского итальянцы остались приверженцами такого подхода во все годы холодной войны. В настоящее время ситуация изменилась. Итальянское правительство в отношении России следует крайне недружественной линии Запада. Вместе с тем, как рассказал мне недавно вернувшийся из Рима посол С. Разов, в общественном мнении страны широко разлито недовольство подобным курсом, и оно выходит на поверхность в форме разного рода опросов, публичных выступлений, бесед.
…Какие же страсти кипели вокруг визита Гронки! Усилиями правых он пару раз откладывался, что, в свою очередь, вызывало раздражение Москвы. Козырев даже ходил к больному президенту, чтобы убедить Центр, что болезнь не дипломатическая. В феврале 1960 г. визит все же состоялся. Это был своего рода прорыв. Пальмиро Тольятти, с которым Козырев советовался, когда еще только возникла идея визита, с самого начала занял твердую позицию «за». Не страдая политической ревностью, он дальновидно советовал нам идти на сближение с левыми демохристианами (Фанфани, Гронки, Моро). Их «смелость» объясняется, говорил Тольятти, также той поддержкой, которой они пользуются у Иоанна XXIII, папы-реформатора. Именно он, пытаясь снять накал противоречий между католиками и коммунистами, выдвинул тезис, что бороться надо с идеями, а не с носителями этих идей; с последними вполне можно иметь дело. У итальянской компартии появился тогда план потеснить правых и привести к власти левоцентристское правительство демохристиан с последующим участием социалистов и внешней поддержкой коммунистов. Это была бы мирная эволюция, а не революционный захват власти. Отсюда пошел пресловутый «еврокоммунизм».
Отношениям с СССР в этом контексте отводилось особое место. Левые в Христианско-демократической партии (ХДП) надеялись показать, что именно они – даже в рамках атлантической солидарности – лучше всего строят экономическое сотрудничество с СССР. Остро нуждавшаяся в газе и нефти Италия получала от торговли с нами немалую выгоду, как, естественно, и мы. Не только двусторонние связи с Италией были на кону, но и то, что позже было названо отношения Восток–Запад. Для ХДП, в течение десятилетий находившейся у руля управления, благословение Святого престола и на отношения с СССР, и на разрядку было условием (латынь тут к месту) non plus ultra. Козырев это хорошо понимал. Именно поэтому он пошел – по наущению премьера А. Фанфани – на первые в послевоенной истории прямые контакты с Ватиканом.
Своим связным в этом строго конфиденциальном деле посол сделал меня. Моим визави с той стороны был монсиньор Виллебрандс, здоровый и симпатичный голландец: белобрысые волосики вокруг порядочной плеши, холеные белые руки. Встречались мы с ним раз десять, причем всегда на нейтральной территории. Чаще всего это происходило за чашечкой кофе в барах поблизости от собора Святого Петра, и даже мой неопытный взгляд замечал постоянную скрытую слежку. Нашей задачей было подготовить закрытую встречу между послом и представителем Ватикана.
В один прекрасный день, а именно 6 февраля 1963 г., получаю, наконец, от голландца сообщение: встретиться с Козыревым поручено кардиналу Агостино Беа, он ждет его у себя на дому, в монастыре «Колледжо Бразилиано» на окраине Рима. Выезжать просят сразу же. Докладываю послу, он готов ехать, но в посольстве, как назло, нет ни одного водителя. Хотя первые в моей жизни водительские права я получил в Риме сравнительно недавно, предлагаю свои услуги. Семен Павлович скрепя сердце соглашается. И вот я погнал по уже тогда довольно забитым улицам. Посол мужественно молчал на заднем сиденье. Лишь когда мы несолоно хлебавши вернулись назад в прохладную безопасность посольского двора, Семен Павлович квалифицировал мое водительское мастерство: «Еще и машину Адамишин водит хреново».
Высокий прелат дал нам от ворот поворот. Смысл был таков: проявляет Советский Союз инициативу, хочет иметь дипломатические отношения со Святым престолом, пусть заплатит за это должную цену. Какую? Послабление для церкви внутри СССР. Потом поговорим и об официальных связях. Не может быть, чтобы Ватикан не отдавал себе отчет, что на такие кондиции мы не пойдем. Но, наверно, у них была своя дискуссия, и верх взяла партия ватиканских ортодоксов типа нашего «Великого инквизитора» Суслова. Постоянно перебиравший четки и улыбавшийся старый Агостино (запомнилась его жилая комната, вполне мирская, стояла даже модная радиола «Грюндиг», включенная во время всего разговора) с улыбкой же дезавуировал итальянского премьера. Тот ведь говорил как раз о желании Ватикана и не упоминал ни о каких условиях. Но когда Козырев сказал об этом, кардинал отрезал: Фанфани не выступал и не мог выступать от имени Святого престола. Да, письмо от него в Госсекретариат Ватикана поступило, но он лишь передал пожелания советской стороны. Беа пошел дальше: Ватикан, мол, имеет хорошую информацию о внутренней жизни России и думает, что руководство СССР, лично Хрущев будут готовы обсудить религиозные вопросы.
Попав фактически в ловушку – на него давили именем высшего советского руководителя – Козырев показал себя молодцом. Жили мы без отношений с Ватиканом столько-то лет, поживем еще, коли вы не готовы, таков был его ответ Беа. Докладывая в Москву, Козырев, несмотря на ватиканские намеки на Хрущева, предложил на дальнейшие уступки не идти. Дело в том, что мы еще до начала всей этой истории пошли им навстречу: выпустили западноукраинского кардинала-католика И. Слипого, сидевшего у нас со сталинских времен. В тогдашнем советском руководстве, и без того на идею отношений с Ватиканом смотрели без энтузиазма, а тут еще что-то платить. Так что первая попытка не удалась.
Установление дипломатических отношений с Ватиканом затянулось на два десятилетия, пока не пришла перестройка. Но кое-какой лед многолетнего отчуждения был сломан: уже в марте 1963 г. личный посланец Хрущева, его зять Алексей Иванович Аджубей, встретился со Святым отцом. Благо, он мог это сделать как журналист, главный редактор «Известий». Об этой встрече я также договаривался с Виллебрандсом, и на этот раз он впервые пришел к нам в посольство, где не отказался и от рюмки водки. В памяти осталось, как уверенно Аджубей держал себя.
Произвела также впечатление внимательность Алексея Ивановича к окружающим – ценное качество для политика. Он нашел слова даже для той работы, до которой высокопоставленные гости обычно не снисходили: «Для точного перевода необходимо, чтобы переводчик был интеллектом не ниже говорящих». Мы с ним поддерживали дружеский контакт и после снятия Хрущева, когда оба они оказались в опале.
Почему левые христианские демократы в Италии – к вышеупомянутым добавлю мэра Флоренции Джорджо Ла Пира – подталкивали нас к сближению с Ватиканом? При молчаливой поддержке коммунистов они задумали выстроить некий треугольник в пользу разрядки: СССР, США, Ватикан. Улучшение наших отношений с Ватиканом рассматривалось как необходимая первая стадия этого замысла. Такой треугольник возник бы как результат встречи в Риме главы советского правительства с президентом-католиком Кеннеди под эгидой папы-миролюбца.
Эти амбициозные планы учитывали, что советско-американская встреча на высшем уровне, состоявшаяся в июне 1961 г. в Вене, оказалась малорезультативной. Помню, как сокрушался посол по поводу ее оценки, данной Громыко на партактиве МИДа: «Если попытаться образно выразиться, то это была встреча гиганта и пигмея». Семен Павлович сетовал: нельзя так недооценивать классового противника. Убедились мы в справедливости его слов на следующий год, когда разразился Кубинский кризис.
После того как прошла «кубинская гроза», левые демохристиане в Италии посчитали, что обстоятельства благоприятствуют осуществлению их планов, и начали подталкивать нас к контактам с Ватиканом. Не берусь судить, но возможно, что ватиканские ортодоксы, «прочитав» идею левых, сорвали ее или, во всяком случае, сильно затормозили. Треугольник, задуманный ради смягчения международной напряженности, так и не построился. В 1963 г. умрет Иоанн XXIII, потом убьют Кеннеди и, наконец, в 1964 году отстранят от власти Хрущева.
Но ватиканский сюжет остался. В апреле 1966 г. – потребовалось еще три года – состоялась «частная», но от этого не менее историческая встреча между министром Громыко и понтификом Павлом VI. Беседа продолжалась сорок пять минут. Если вычесть перевод, он шел через меня и отца-иезуита Джузеппе Ольсера, ректора русского колледжа в Риме, то почти вдвое меньше. По содержанию она была довольно общей, как и предыдущая беседа Аджубея. Важен, однако, сам факт встречи. Святой престол как бы благословлял взаимодействие с Советским Союзом на поприще мира. Инициативу в организации встречи проявили мы, и это был, безусловно, грамотный и далеко идущий шаг советского руководства.
До сих пор храню медальку, врученную мне папой после беседы с Громыко. С тех пор их накопилось, наверное, около десятка: контакты и диалог с Ватиканом продолжились и при отсутствии дипотношений.
Поддержание связей с руководством католической церкви, даже если они носили эпизодический характер и не шли дальше совместных прокламаций в пользу мира, можно, безусловно, отнести в актив внешней политики Брежнева–Громыко.
Как это делалось в годы Брежнева и Громыко
Мы в фортеции живем…
Солдатская песня. (Эпиграф к главе III повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»)
Очерк первый, вступительный
Оптимистичное поколение «застоя»
Октябрь 1964 г. Мне тридцать лет, я второй секретарь Посольства СССР в Риме, сопровождаю посла Козырева в поездке в Милан, деловой центр Италии. Выходим из гостиницы, слышим голоса мальчишек, продающих газеты: «Посмотрите, что наделали эти русские!» Новость действительно сенсационная: Хрущев уходит на пенсию.
«Какая там пенсия? Но все равно хорошо, что ушел», – не сдерживает своей реакции посол.
В те годы наружу выпирали многочисленные огрехи хрущевского правления. Для непосвященных, т.е. подавляющего большинства, оставались за кадром истинные причины его вынужденной отставки: попытка приструнить бюрократическую номенклатуру – главное зло советского строя, борьба за власть внутри узкого руководящего круга.
К непосвященным должен отнести и себя, причем не только в отношении этих событий, но вообще в том, что тогда происходило в стране. Да и кому было меня просвещать? Отец погиб на фронте, мать, наверняка что-то знавшая, молчала: неосторожное слово в сталинские времена могло оказаться последним. По жизни, если можно так выразиться, меня вел комсомол, куда вступил в 1948 г., едва мне исполнилось четырнадцать лет. Первые знания, переворачивавшие прежние представления, были связаны как раз с ХХ съездом, разоблачением Хрущевым Сталина.
Чтобы понять подоплеку внутренней и международной политики, пришлось годами собирать сведения по крупицам: беседуя со сведущими людьми, читая воспоминания, роясь в архивах, открывшихся, увы, ненадолго. Преимущество мемуаров в том и состоит, что пишешь о событиях давних лет, опираясь на знания, накопленные всею жизнью. Важно лишь не подгонять прошлое под нынешние представления и, по Киплингу, веря своей правде, знать, что правда не одна.
Итак, смена власти в Стране Советов. В кои веки она не вызвана смертью прежнего вождя. Хрущев смещен своими же товарищами из партийно-государственного руководства. Заглавную роль в «дворцовом перевороте» сыграл Л. Брежнев. Это с определенностью следует из архивов, открытых в перестройку. Именно ему Хрущев долгое время покровительствовал. За год до своей «отставки» он поручил Брежневу исполнять обязанности (деля их с Н. Подгорным) неформального второго лица в партии.
Внешне процедура обставлена сравнительно легитимно. Заявление об уходе на пенсию Никита Сергеевич подписывает на заседании Президиума ЦК КПСС. Правда, до этого состоялось еще одно, в отсутствие Хрущева. Оно-то все и решило. Но он оставляет свой пост живым и невредимым, что также считает важным результатом своей реформаторской деятельности.
Следующие три вождя – Брежнев, Андропов, Черненко – «восстановят справедливость»: покинут свой пост только со смертью.
«Последнее слово» Хрущева было достойным: «Не прошу милости – вопрос решен. Я сказал т. Микояну – бороться не буду. Радуюсь: наконец партия выросла и может контролировать любого человека. Собрались и мажете меня говном, а я не могу возразить»1.
На вершине пирамиды теперь двое: Л. Брежнев, Первый секретарь ЦК КПСС, и А. Косыгин, Председатель Совета Министров. Так они поделили посты, которые занимал Хрущев. Вскоре к ним присоединится Н. Подгорный в качестве Председателя Президиума Верховного Совета. Со временем Брежнев отстранит их обоих, но пока что упор делается на преимущества коллективного руководства.
Primus inter pares, первый среди равных, естественно, Леонид Ильич. Узнай он, что его ждут долгие восемнадцать лет правления, наверняка порадовался бы. И ужаснулся бы, узнав, что эти годы впервые в советской истории назовут застойными. Не подозревает он и о собственном финале: соратники будут несколько лет, несмотря на уговоры, держать у власти больного генсека.
Но сейчас Брежнев здоров, крепок и полон энергии. Он прекрасно ориентируется в партийных хитросплетениях, сплотил вокруг себя секретарей обкомов, неплохо знает народное хозяйство и, что особенно важно, оборонный комплекс. Его уважают военные, люто невзлюбившие Хрущева за миллионное сокращение армии в попытке облегчить бремя расходов на оборону.
Хуже с внешней политикой, но тут Брежнев рассчитывает на надежную опору. Громыко уже семь лет как министр иностранных дел. Он останется на этом посту еще двадцать один год.
Первые несколько лет «тройка» работала более-менее на равных. Затем сама логика системы утвердила Брежнева как непререкаемого верховного руководителя: он устраивал все звенья партийной номенклатуры.
Внутри страны дела шли поначалу неплохо. Сказались результаты нововведений и значительных капиталовложений в «гражданку» при Хрущеве: строительство пятиэтажек (при массовой ликвидации коммуналок), нарезание по 6 соток садовых участков, освоение целины. Главное же, динамике роста способствовала начатая Косыгиным реформа. К тому же подскочили цены на экспортируемую нефть, пошел поток товаров из социалистических стран. Люди почувствовали, что поднимается экономика и растет их благосостояние.
На нас, мелких птахах в МИДе, перемены отражались больше в бытовом плане. Многие мои товарищи именно в эти годы, вернувшись, как и я, из загранкомандировки, купили кооперативные квартиры по сравнительно доступным ценам.
Молодость – великий анестезиолог. Тяжелые и даже глубоко драматические события, такие как Кубинский кризис, когда мир балансировал на грани войны, не вызывали отчаяния. Вспоминаю, что постоянным ощущением был оптимизм, уверенность в том, что справимся с трудностями, времени-то навалом. Казалось, перед страной открывается лучшее будущее.
Для меня, как и для многих моих друзей, эти надежды сбылись не скоро, только с приходом перестройки, но сбылись.
Работа в министерстве после возвращения из Италии мне представлялась захватывающе интересной. Прежде всего потому, что, как и в случае с Козыревым, повезло с руководителем, Анатолием Гавриловичем Ковалевым, человеком талантливым, щедрым на идеи. Он тогда руководил тем, что я считал своей «альма-матер», – Первым Европейским отделом МИДа. (В МИДе той поры было пять европейских отделов, три первых занимались капстранами, два – соцстранами. Международный отдел ЦК КПСС имел специальное подразделение, ведавшее соцстранами). Через какое-то время Ковалев отрядил меня в так называемый «мозговой центр», Управление по планированию внешнеполитических мероприятий, а затем я в тридцать девять лет от роду вовсе стал заведовать одним из мидовских подразделений. По тогдашним меркам, это было что-то похожее на чиновничий рекорд: прошла пора сталинских репрессий, выдвиженцы, пришедшие тогда в министерство в молодом возрасте, старели, но оставались на местах. Правда, Управление, куда я был назначен, доживало спокойно свой век. Так что особого риска не было. Моя задача была вдохнуть в него жизнь. Нам было поручено «вести» Общеевропейское совещание. Оно, Управление, еще несколько лет продержалось, затем его расформировали.
Мир, разделенный на две системы, был многослойным, и наиболее жаркие схватки шли наверху. Чем выше поднимался я по служебной лестнице, тем плотнее встраивался в боевые порядки МИДа, тем очевиднее становилась пагубность некоторых базисных постулатов системы, ранее не замечаемая за бравурными лозунгами.
Внешнюю политику, как выразился в разговоре со мной один из выдающихся наших дипломатов, Валентин Михайлович Фалин, Брежнев «подарил Громыко», определяя ее общую миротворческую направленность. На первых этапах она была довольно результативной. Из достижений выделю исторический Договор о нераспространении ядерного оружия (1968); Договор с США о противоракетной обороне (ПРО) и ОСВ-1 – временное Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений (1972); ряд частичных мер в области разоружения, включая договоренности не размещать ядерное оружие в космосе (1967) и на дне морей и океанов (1971), а также Конвенцию о запрещении бактериологического оружия (1972).
После Московского договора о прекращении ядерных испытаний в трех сферах, заключенного еще при Хрущеве, в 1974 г. удалось договориться с США об ограничении мощности подземных ядерных взрывов.
В 1972 г. были подписаны Основы взаимоотношений между СССР и США, чему мы придавали особое значение, ибо считали, что этот документ закрепляет равенство двух великих держав. К сожалению, было оно далеко не полным.
По инициативе советской стороны в 1973 г. было подписано Соглашение с США о предотвращении ядерной войны, тоже скорее декларативное, чем практическое, ибо оно не предусматривало механизма осуществления. Но мы считали, что оно подкрепляет генеральный курс Советского Союза избежать войны с США.
На встрече Брежнева с Дж. Фордом во Владивостоке (ноябрь 1974 г.) были согласованы, а затем зафиксированы основные параметры будущего соглашения об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2. В улучшенном виде оно было подписано Брежневым и Картером через пять лет в Вене. В нем сохранилась главная «философия» подхода: принципы равенства, одинаковой безопасности, ядерного паритета. В реальной жизни дела обстояли сложнее и по сумме компонентов не в нашу пользу.
На фоне мер в области контроля над вооружениями, центральной проблемы для обеих государств, заметно улучшились наши отношения с США, охватив сферы торговли, культуры, образования, охраны окружаюшей среды. С приходом к власти администрации Никсона регулярными стали его встречи с Брежневым. Кульминацией явился совместный космический полет «Союз»– «Аполлон», правда, уже после того как Никсон ушел в отставку, чтобы избежать импичмента. Многие помнят, с каким воодушевлением люди восприняли восстановление, как нам казалось, дружеских связей с Америкой. Появившиеся сдвоенные троллейбусы в Москве стали звать «Союз–Аполлон». (А символом ухудшения стало заколачивание киосков «Пепси-кола» в 1979 г.)
В какой-то мере мы помогли американцам выйти из войны во Вьетнаме, посредничая на разных этапах – и с разным успехом – между ними и Демократической Республикой Вьетнамом (ДРВ).
Г. Киссинджер и здесь внес вклад в теорию международных отношений формулой «пристойный интервал» (англ. – decent interval), посоветовав Никсону так вести дело, чтобы после ухода американцев Сайгон мог продержаться год или два. Потом уже никого в США не будет волновать его судьба. Примерно так повели себя американцы в Ираке, затем в Афганистане.
Закончилась война на условиях Ханоя, который мы поддерживали с самого начала. Отрицательный эффект: победа коммунистов-северян вызвала прилив уверенности в действенности курса на «немедленный и твердый отпор империалистической агрессии, где бы она ни происходила». Поскольку мы везде видели американские происки, подлинные или воображаемые, такой курс привел, в конце концов, к Афганистану.
Постоянное внимание уделялось, используя принятый тогда термин, социалистическому содружеству государств, а также коммунистическим и левым партиям. Для Брежнева первое направление являлось приоритетным, и связи, в общем, наладились дружественные. Ситуация изменилась после событий в Чехословакии в 1968 г.
До этого авторитет Советского Союза держался довольно высоко. На него работали память о вкладе в разгром фашизма; активные действия по окончательной ликвидации колониализма; неоспоримые достижения социализма в ряде областей. «Железный занавес» эффективно задерживал информационный поток, поэтому отрицательные стороны нашей жизни знали за рубежом немногие.
К середине 1960-х зацементировались швы Берлинской стены, возведенной властями ГДР с нашего благословления, зажили раны Карибского кризиса. На «Западном фронте» намечались позитивные перемены. В памятном 1966 г. в Москву приезжал де Голль с действительно прорывным визитом. Роман с Францией завязывался всерьез и надолго. Помню, как стояла на ушах мидовская «Первая Европа». Старалась не отставать от Франции и «моя» Италия.
В отделе шло постоянное полушутливое соперничество между «французами», которые чувствовали себя главными, и всеми остальными. Борясь с галльским засильем, я напускал на них Пушкина. Александр Сергеевич, как известно, бдительно следил, чтобы Россию не обижали, а поскольку нередко это пытались делать французы, то им в ответ и доставалось по первое число.
В целом, несмотря на холодную войну, на Европейском континенте удалось наладить сотрудничество, прежде всего, экономическое. К деголлевской Франции и к Италии присоединилась ФРГ канцлера Вилли Брандта. Европа, откуда к нам меньше чем за тридцать лет пришли две мировые войны, всегда имела для нас особое значение. На базе улучшившихся двусторонних отношений и общей атмосферы мы не только «замахнулись» на такую крупную инициативу, как созыв Общеевропейского совещания, но и сумели успешно ее реализовать.
Однако продолжение хрущевской «оттепели» брежневской разрядкой не затрагивало ядра советской политики: заряженности на глобальную конфронтацию с Западом до «победного конца» при отсутствии сомнений в том, что социализм в конечном счете возьмет верх над капитализмом. Уже на первые годы нарождавшейся разрядки пришлась такая акция, как подавление Пражской весны 1968 г., имевшая тяжелые последствия как для внешней, так и для внутренней политики СССР. Дальше пошло-поехало: холодная война по всем азимутам с США и их союзниками, к чему добавлялись соперничество с Китаем, гонка вооружений, серьезно подстегнутая грубой ошибкой с размещением наших ракет СС-20, Афганистан. До ядерного конфликта дело не дошло, но к концу брежневского «застоя» разрядка окончательно выдохлась. Свой, и немалый вклад, разумеется, внесла и «богоизбранная» Америка. Наша страна жила на горах оружия и в разобранном состоянии по многим параметрам, как правило, скрытым от глаз.
Но начнем мы с позитива.