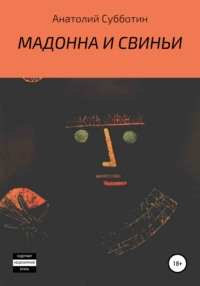Kitabı oxu: «Мадонна и свиньи»
Старики
Старики жили у реки. Речка была не фонтан, так себе – ручеёк, который, впрочем, весной поправлялся и затоплял стариковский огород, благо берега пологие. Мутная вода подходила к дому и пристройкам, стоящим чуть выше, но на большее её силёнок не хватало.
Где-то с середины апреля по ноябрь старика можно было видеть сидящим у палисадника на скамейке и курящим самокрутку. Холод и снег загоняли старика в дом. Но в доме его ожидал другой холод: бранилась сноха, и курильщику приходилось перетаптываться в сенцах. Казалось, без затяжки дымом он протянет ещё меньше, чем без глотка воды. Для него это означало «дышать». Названий сигарет он не помнил или никогда не знал. Не знал он и самого слова «сигареты». «Папирёсы» – и всё тут! Табак он различал лишь по крепости. Чем крепче, тем лучше. К тому же самое злое, едкое зелье стоило дёшево, и здесь интересы старика совпадали с интересами государства. А поскольку эта дешёвка производилась в родном отечестве, то можно со всей ответственностью заявить, что старик был БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМ патриотом.
В разлёте от 10 до 17 копеек родина предлагала ему выбирать между «Берёзкой», «Ланью», «Дымком», «Камой» и «Севером». Наиболее доступной была «Кама». Но родина, предлагая, не учла, что старик не знает названий сигарет, и на вкус ему тоже всё равно – что «Лань» что «Берёзка». Да и монеты старик не различал, то есть он их видел, но значение цифр оставалось для него тёмным. Если учесть, что он всю жизнь проработал бухгалтером, это может показаться странным, невероятным. Но, возможно, усталый мозг отторгает прежде всего то, что послужило основной причиной усталости, в данном случае – цифры.
Была ещё причина, по которой старик не мог купить себе сигарет. Он давно уже не отходил от дома дальше, чем на 3 шага. Однажды он заблудился, возвращаясь как раз из магазина, и неприятные ощущения, пережитые им, навсегда отбили у него охоту терять, выражаясь по-военному, ориентиры из виду.
Так что родина, предлагая выбирать, не учла многое. И выбирал не старик, а старуха, которая давно уже выбрала, и старик в последние годы пользовал в основном махру-махорку, 6 копеек упаковка. Выходит, он был не только бессознательным, но и МАХРОвым патриотом. Впрочем, ему было всё равно. Курево есть, и задиристое! Чего ещё? Да и с газетами по их, так сказать, косвенному назначению стало попроще. Прошли те времена, когда за раскурку растиражированного портрета вождя ставили в угол. Теперь хоть задницу вождём подотри – получишь, в крайнем случае, выговор с занесением в личное дело.
Круглый год старик ходил в валенках, в грязных, с жирными от еды пятнами, спецовочных штанах. Седые волосы и борода его на первый снег были похожи мало, а усы и совсем были жёлтыми.
Раза три в день старик, бросив окурок, кричал: «Старуха, ись давай!» Старуха ворчала и, немного повозившись на кухне, выталкивала с натугой сердитые слова: «Иди сопи!» За столом старик действительно сопел: ел жадно и громко, не ощущая, что похлёбка прокисла и он принимает яд. Пища выплёскивалась из дрожащей ложки, вываливалась из беззубого рта. За окном цвела черёмуха. Или (всё равно) шёл снег. Круглый год летали белые мухи.
Старуха страдала одышкой. Она была не столько толстой, сколько раздутой. Она говорила, что у неё водянка. Внучек, понимавший болезнь буквально, удивлялся, зачем ещё старуха пьёт, когда в ней и без того излишки воды и ей надо лечиться жаждой. Он мечтал поскорее вырасти, заработать денег и отвезти бабушку на пески, в какую-нибудь пустыню, где она бы, полежав на солнцепёке и высохнув, как мумия, сделалась здоровой и бессмертной. Пока же ему приходилось применять ДОМОРОЩЕННЫЙ метод лечения. И старуха каждый день возмущалась: «Где же кружка?! Куда она опять запропастилась?»
Старик тоже пил молоко. Но не теперь, а прежде, и не простое, а от ДУРНОЙ коровы. Напившись, он часто старуху поколачивал. Во всяком случае, та часто, к месту – не к месту, упоминала об этом и в подтверждение своих слов показывала себе на лоб, где красовался заметный шрам. «Это старик меня бутылкой угостил! – говорила она и, входя в роль, хныкала: – Всю жизнь только и видела от него, что тычки да тумаки!» Она имела от него шестерых детей. Точнее, родились восемь, но двое умерли, ещё не успев понять, куда они попали. Старуха ненавидела старика и желала, чтобы он скорее сдох. Старик был уже не способен и на ненависть. Ему было всё равно. Иногда по привычке он ещё пытался пустить в ход кулаки, но старуха уворачивалась. Ударить же в ответ она не решалась, потому что побаивалась. По привычке.
Зато «доставал» старика внучек. Он плевал в него сквозь трубку косточками черёмухи или сухим горохом. Он бросал ему под ноги «бомбочки» (смесь магния и марганца), от взрыва которых дрожали в доме стёкла. Да что там! Страшно вымолвить: он пинал старика под зад. И мёртвый бы из себя вышел! И старик выходил, то есть пускался на неразгибающихся сухих ножках, с кашлем «Етит твою мать!» за обормотом в погоню, но, разумеется, не догонял.
И вообще, он был настолько плох (или хорош), что путал своих детей. Как-то в гости приехал сын Михаил. Старика подтолкнули: ты что, мол, не видишь? Смотри, кто приехал! Старик присмотрелся, что-то припомнил, широко раскрыл дрожащую улыбку и назвал Михаила именем другого своего сына.
С некоторых пор старику стало казаться, что речка с каждым годом, днём, часом мелеет. Того и гляди совсем пересохнет! Старик боялся этого, поскольку течение воды (ему казалось) было вместе с тем и течением его крови. «Куда она девается?» – думал он про воду-кровь и бросал подозрительные взгляды на раздутый старухин живот. Неизвестно, какие действия со стороны старика последовали бы за его подозрениями, так как он вскоре умер. Возможно, последним предсмертным сном его был следующий.
Он проснулся чуть свет. Ему было дурно. В углу на коленях стоял его сын, с которым он жил. Сын, как в рупор, кричал в помойное ведро. Старику не нужно было помойного ведра, чтобы освободиться от дурноты. Ему не хватало кислорода, не хватало крови, которая разнесла бы кислород по телу. Он зашаркал на кухню и взял там свинорез. Старуха спала без задних ног, без задних мыслей. Живот её оказался слишком мягким, слишком рыхлым. Старик не рассчитал удар, и свинорез вошёл вместе с рукояткой и сжимающей её кистью руки. Речка с шумом вырвалась на волю. Целеустремлённо, не растекаясь, она соскочила с русской печи, где лежала старуха, взобралась по стене на подоконник и выдавила стекло. За огородом (уходим огородами!) её ждало высохшее русло. Старик ощутил необычайное облегчение. Сын, которому, видимо, тоже полегчало, подошёл к нему и, улыбаясь, спросил:
– Как дела, папа?
– Всё в русле, сынок, всё в русле! – ответил старик.
И тут он не проснулся, потому что умер.
Хоронили старика наскоро. То ли в спешке, то ли по неопытности забыли закрыть ему рот. На мотоцикле на большой скорости (в городишке машины совсем не водились, и гробы крепились к мотоциклам вместо колясок) свезли покойника на кладбище. Без музыки (какая музыка – она денег стоит!), без речей и салюта закопали. Деревянный крест и жидкий бумажный веночек «От детей и внуков» обозначили окончание дела. И жизни.
Старуха, хлебнув поминальной водки, прослезилась. Она пережила старика на 10 лет. А пока надо было думать о будущем. Дом приходил в негодность, весь скособочился. Из сына-то хозяин никудышный. И со снохой старухе не повезло: их не брала «сварка». Переехать к дочери? Так та в казённой квартире живёт. И мужик у неё алкоголик. Что делать? Надо было думать. Тяжело, со свистом дыша, надо было жить.
* * *
Через несколько лет после смерти старика сын и внучек искали его могилу. Снег ещё не сошёл, особенно в лесу, и искатели, утопая в сугробе, «под мухой», с хмельным энтузиазмом, долго кружили на десятке квадратных метров («Где-то тут должна быть»!), пока наконец внучек не запнулся о верхушку креста. Расчистив снег до первой перекладины, он прочёл на табличке имя. «Нашёл! – закричал новоявленный Архимед. – Вес изгнившего тела равен весу растаявшего снега. Вот он где спрятался – хитрый старик!»
Выпили, закусили, покрошили для птичек булку. Грела водка, пригревало апрельское солнце. Зверски хотелось жить.
1994 г.
Прыжок
Ю. Асланьяну
Поезд № 666 «Россия» блуждал в бескрайних просторах. Неровно, с перебоями стучало его сердце. В минуты наисильнейшего разгона он пугал окрестности протяжным воем. Лето корчилось в агонии, и пьяно раскачивались связанные одной целью вагоны. Связь была произвольной. Так, рядом с вагоном, где ехали освободившиеся из мест заключения, находился спецвагон с одноместными купе, обслуживающий крупных политиков, бизнесменов и дипкурьеров. Даже тень президента, говорят, там можно было встретить.
Одуревший от воли З. К. широким размахом ног избегал падения. Он шёл в тамбур покурить. Курилка напоминала парилку. Не сразу матёрый топорный дым позволил З. К. разглядеть одиноко стоящего господина, одетого в чёрную пару. На вид господину было лет 40. Столько же было и самому З. К. 20 из них его пасли в вольере, кормя верблюжьей колючкой. От господина же пахло «Наполеоном». И они разговорились. Господин сказал, что он банкир, и в доказательство представил брелок без ключа, ромбовидный, четырёхгранный, фиолетового стекла, обделанный по краям золотом, с золотою же цепочкой, напоминающий старинный фонарик. «Эта вещица и есть мой банк», – загадочно заметил господин. З. К. отвёл от него взгляд, неожиданно для себя устыдившись своего волосатого волчьего свитера, и посмотрел в окно. День одевался в чёрную пару. С этой минуты З. К. стал раздваиваться: он приобрёл жуткую редкую способность иногда видеть себя со стороны. И причиной этому послужило заставшее его врасплох странное доверие банкира.
Они простились приятельски, но каждый уже знал, что искать новой встречи не будет, словно между ними произошло нечто постыдное. Банкир вдруг полюбил одиночество и проводил почти всё время, закрывшись в своём купе. Казалось, он чего-то опасался, и З. К., выйдя однажды на полустанке покурить, наблюдал, как тот, соскочив с подножки вагона и нервно озираясь по сторонам, сначала заглянул, присев на корточки, под вагон, а затем, отбежав, обследовал взглядом его крышу. Если прежде З. К. топил в себе всплывающие порой грешные мысли в отношении брелока, то теперь он понял, что спектакль начат и ему, З. К., выпало сыграть в нём определённую роль. Всё просто: заяц бежит, гончей надо догонять. Всё просто!.. «И зачем он, дурак, побежал?» – злился З. К. Но делать было нечего. Наступил длительный период слежки и выжидания подходящего момента.
Теперь представьте себе такую картину. Тёплый вечер. Уже стемнело. Поезд замер на безлюдном полустанке. В купе банкира горит свет. Слегка подпрыгнув и схватившись за приспущенную оконную раму, подтягивается на руках, скребётся, лезет в купе З. К. Но банкир оборачивается, видит за окном чьё-то лицо и руки, подходит, чтобы рассмотреть поближе. З. К. сползает ниже, ниже, разжимает пальцы, приседает, оказавшись почти под вагоном. Банкир, вглядываясь, высовывает из окна голову. Но только тогда, когда он оставляет своё убежище, свою раковину по пояс, З. К. прыгает и, схватив его за шею, выдёргивает из купе, падая вместе с ним на шпалы и щебень соседней колеи. И вот оба лежат на правом боку. З. К. сзади. Перед ним – чёрная пара (со спины) и затылок (рукой подать!) брюнета-банкира. Ладони З. К. начинают судорожно искать на щебне ответ на вопрос: чем? Невесть как здесь очутившимся завалявшимся разводным ключом З. К. неловко бьёт по затылку. Чёрные волосы промокают и наливаются красным. Банкир не шевелится. З. К. обшаривает его карманы. Но брелока нет. НЕТ БРЕЛОКА! А состав вздрагивает и трогается.
Ключ от его купе у меня был. Оставалось только туда зайти. Но это и оказалось как раз самым трудным, почти невозможным. В коридоре спецвагона постоянно кто-то торчал. Я не имею в виду пассажиров. Они могли быть, могли не быть. Но фигура проводника или милиционера присутствовала всегда. Днём и ночью.
Не менее 10 раз каждые сутки я подкрадывался к стеклянной двери спецвагона, что рядом с туалетом. К счастью для меня, стекло было мутным. Иначе я, точнее, мой волчий свитер обязательно бы привлёк внимание охраны. Конечно, милиция и проводники знали всех своих пассажиров в лицо. И всё же будь на мне костюм (я сильно жалел, что не успел раздеть банкира), шансы мои проскользнуть незамеченным намного бы возросли. А так приходилось ждать, когда коридор опустеет. Я вглядывался в него сквозь муть стекла и, обнаружив человеческий силуэт или силуэты, поспешно возвращался в свой вагон. Задерживаться было нельзя, поскольку каждую секунду хотя бы одна из трёх дверей (в тамбур, туалет и вагон) могла распахнуться. И, кстати, распахивались, и чинуши, снующие туда и обратно, имели счастье меня лицезреть. Мне повезло, что я не вызвал у них подозрения. То ли они приняли меня за кого-то из прислуги, то ли прошлись по мне только взглядом, а не мыслью, витая ею по своему обыкновению высоко в делах. Не ясно. Да и не важно. А важно одно: они не были столь внимательны, как их охранники, и обошлось без шухера.
Но в целом мне не везло. Коридор, как свято место, не пустел. Фильм теней длился несколько суток и, казалось, будет бесконечным. Я стал нервничать. Я стал уже подумывать о напарнике, который взял бы охрану на себя и как-нибудь отвлёк её внимание. Но тут мне, почти отчаявшемуся, как это часто бывает, неожиданно блеснула надежда. Мне пришли в голову два обстоятельства, соединив которые, я увидел выход. Во всяком случае, это был шанс. Сначала я подумал о том, что милиционер чаще всего, особенно ночью, находится (сидит или прохаживается) в дальней от меня, от моего места наблюдения половине вагона. Понятно почему: поближе к своему купе, к своему столу и постели. В то время как купе банкира расположено ближе ко мне, третье по счёту. Потом я вспомнил, что для спецвагона характерна особая мягкость, иными словами – гибкость. Это значит, что, в отличие от нашего, жёсткого, он имеет способность отражать, как зеркало, повторять собой малейшие изменения пути. Я представил себе его форму на повороте. Глядя в окно, я стал ждать поворот.
… и успел вовремя. Спецвагон как раз начал закругляться, принимая вид подковы (на счастье!) или полумесяца (мусульманство принял). Тень охранника исчезла за изгибом. Я подбежал к двери купе банкира. Стук моих грубых «солдатских» ботинок заглушала ковровая дорожка. Помню, меня поразили её наличие в вагонном проходе и почему-то её цвет – тёмно-малиновый. Хотя что тут удивительного – всё-таки это был СПЕЦВАГОН. Мне не сразу удалось попасть ключом в замочную скважину. И когда, наконец, после щелчка дверь поддалась, я услышал окрик: «Эй, ты куда?!» Вагон успел распрямиться, и охранник заметил меня. Но я уже находился в купе.
Они сдержанно постучали. Один из них сквозь зубы произнёс: «Открывай, сволочь, по-хорошему!» З. К. обрадованно ухмыльнулся. Он понял, что другого ключа у них нет. НЕ ПОЛОЖЕНО! Хозяевами положения здесь были пассажиры, и проводнику на правах прислуги полагалось ждать вызова или робко стучаться. Боязнь потревожить покой важных сеньоров заставляла их сейчас медлить с выламыванием двери. Слушая их угрозы и уговоры, З. К. взял чемодан банкира и вывалил его содержимое на пол. Нашлось немного денег. Но ГЛАВНОГО не было и здесь. Дверь купе задрожала под ударами. Наконец они решились. З. К. ещё раз внимательно осмотрелся. У одной стены – шкаф для платья, откуда он только что достал чемодан, к другой на уровне второй полки крепилась полутораместная постель. Обеденно-письменный стол, два стула и раздвижное кресло-кровать довершали обстановку. З. К. выдернул из стола ящики. Папки с бумагами, всякая канцелярщина, но вещицы… Удары резко взяли другую ноту. З. К. оглянулся. Площадь двери вокруг замка пошла трещинами. Спецы – они упорно били в одно и то же место. Он запрыгнул на стол и глубже опустил оконную раму. И тут случайно (или ничто в этом мире не случайно?) его рука задела подушку, лежащую на краю постели. Хорошо, что банкир имел привычку спать головой к окну! Из-под подушки, приковывая взгляд З. К., вытекла и застыла золотая струя цепочки. Дверь издала громкий предсмертный стон.
Они выстрелили, когда З. К. уже прыгнул. Охранники стреляли его влёт. Грохот несущегося поезда и свист ветра приглушили пальбу. Но не грохот и не свист отвлекли внимание З. К. от опасности. Его поразила высота, с которой ему пришлось падать. Это была высота 3-го этажа. «Растёт он, что ли?» – подумал З. К. о вагоне. К счастью, внизу, на скате насыпи его ждал грязный, похудевший, но ещё способный смягчить посадку апрельский сугроб. Неужели уже весна?! Неужели прошло полгода с тех пор, как он впервые увидел брелок? Теперь тот был у него в кулаке. Но он забыл о нём, стоившем, быть может, целое состояние. Он размышлял о тоске пространства, которое зовётся белым светом, и о сжимающейся камере времени. Он думал о странностях, непостижимых странностях мира. Лёжа в сугробе, один среди бескрайних полей, он слушал тишину и смотрел в небо.
1994 г.
Последнее путешествие Синдбада
Ю. Беликову
Знайте, о, люди, друзья мои и домочадцы, семь раз я зарекался путешествовать морем и сушей и столько же раз нарушал свои клятвы. И каждый раз меня подстерегали беды одна ужаснее другой, и я чудом оставался жив и давал себе слово, что уж больше никогда не стану дразнить судьбу. Но раны затягиваются не только на теле – они затягиваются и в памяти. Душа моя пробуждалась от обморока, тоски и утомления, и мне снова хотелось посмотреть чужие страны, поторговать, послушать рассказы бывалых людей.
Особенно долго я боролся с искушением после седьмой своей одиссеи. Я говорил себе: «Куда тебя манит, о, несчастный? Разве мало тебе? Одумайся, опомнись, оглянись! Что ты ищешь? Ведь у тебя всё есть. У тебя есть друзья и собутыльники, жена и наложницы, дом – полная чаша, и сад, полный певчих птиц. А ты хочешь рискнуть всем этим и ставишь на морское игровое поле свою жизнь!» Так я отговаривал себя. Но моей всегда открытой души достигал и другой голос – голос духа странствий. И этот дух сказал мне: «О, жалкий раб слабости и лени! Ты ошибаешься, думая, что люди уважают тебя за богатство и деньги. Всё, что у тебя есть, – это твои приключения, и богатство твоё состоит из ужасов и бедствий. Вспомни, какого внимания и заботы ты удостаивался всякий раз, когда возвращался. С каким трепетом люди слушали твои рассказы. И они ждут от тебя новых историй, а ты молчишь или начинаешь повторяться. Но повторение не приносит процентов, и тебе не прожить подобно ростовщику. И ты должен снова отправиться в путешествие, и возможно, лишиться своих товаров, пользы и здоровья, умереть, но добыть им новую историю».
Я удивился не столько голосу, сколько им высказанному взгляду на цель путешествий и на богатство. И я не знал, что это: откровение Аллаха или происки искусителя. Тем не менее этот странный вывод в пользу странствий перевесил все веские аргументы «против». Он показался мне настолько убедительным, что я тут же начал сборы.
Я отобрал из тех, что у меня были, и ещё прикупил товаров – для торговли и обмена. Ткани, ковры, серебряная посуда, недорогие женские украшения, изделия из кожи, мечи и кинжалы, вино, оливковое масло – весь этот груз, упакованный в тюки и разлитый в бурдюки, мог нести лишь караван не менее чем из 20 верблюдов. Сюда же вошло и большое количество провианта в сухом и свежем виде, чтобы было что покушать, ибо никакие страдания меня так не страшат, как муки голода. Кроме того, я захватил 10 тысяч динаров и 20 тысяч дирхемов. А сопровождали меня трое слуг-помощников.
На попутном корабле я спустился вниз по Тигру и благополучно достиг города Басры. Там я присмотрел другой корабль, более крупного (морского) сложения, и, наняв его, перегрузил туда свои товары. Затем я отправился в хан на поиски спутников, таких же, как я, купцов, и вела меня старая истина, говорящая, что путешествовать веселей и безопасней коллективом. И, как я предполагал, мне быстро удалось встретить таких людей, поскольку Басра – это перекрёсток мира и прямая дорога к островам обогащения. Мы познакомились и подружились, и выпили за успех нашего предприятия много вина. А на следующий день мы зафрахтовали ещё два корабля – теперь с моим их стало три, и они, построясь караваном, покинули гавань.
Опасаясь нападения разбойников и людей без Аллаха в голове, промышляющих вдоль всего побережья Персов, мы решили удалиться от обычного курса кораблей и держаться противоположного берега. Некоторое время плаванье наше было спокойным и весёлым. Новый путь радовал нас, и нас удивляло, как до этого не додумались другие, ибо там мы не встретили ни одного корабля. Но через две недели ветер, дующий с суши, вдруг превратился в пламя, и горячее дыхание аравийских пустынь охватило нас. И хотя берега не было видно и мы ещё глубже повернули в море, мы никак не могли освободиться от этого дыхания. Пресная вода, которая была у нас с собой, быстро испортилась, и мы пили тухлую воду, и наши животы стали нам как чужие. Тогда мы перешли на вино, но при такой жаре вино набралось крепости и мощи, и многие перестали узнавать друг друга и понимать, где они находятся. И капитан запретил утолять жажду влагой безумия, и мы плыли в жажде и тоске, и мысль, что наши дни сочтены, не оставляла нас.
А в один раскалённый полдень, когда мы искали спасения в тревожной послеобеденной дремоте, нас вдруг разбудил крик вперёдсмотрящего. «Верблюды! – закричал тот из своей бочки, прикреплённой к мачте. – Я вижу караван верблюдов!» Но мы не поняли смысла его слов, ведь кругом до самого горизонта простиралось море. И капитан уже сказал: «Ты, верно, пьян, спускайся, я тебя отрезвлю!» Но тут мы и сами увидели этот караван, и волосы наших голов зашевелились, потому что верблюды шагали по воде, как посуху. Их было не меньше тридцати, несущих на себе людей и тюки груза. И нас забрал ужас, и я крикнул: «Либо это проделки шайтана, либо мы все лишились ума от переутомления!» А нас несло прямо на караван, но мы не сворачивали и хотели посмотреть, что будет. И чем ближе мы подплывали к ним, тем крупнее становились верблюды и наездники и их грузы. И казалось, что наши корабли могут пройти под брюхом одного из животных. И наше изумление и ужас тоже выросли и увеличились, тем более что мы увидели, что верблюды не касаются ногами воды, а идут над ней. Они шли по воздуху и поднимались всё выше. И вдруг они стали расплываться, словно были сделаны из тумана, и караван исчез, как рассеянный ветром дым. «Хвала Аллаху! – воскликнул я. – Не знаю, что это было, но хорошо, что это миновало нас!»
А потом мы перешли в другое море, и жара спала, и наши души ободрились. И мы плыли из моря в море, от острова к острову, побывали в Индии – и везде хорошо торговали. И я выгодно продал свои товары и купил другие, среди которых были сандаловое дерево, китайский шёлк, благовония и драгоценные камни. Со мною были два сундука: один полон жемчугом, яхонтами, рубинами, сапфирами, топазами и тому подобным, а другой набит золотыми и серебряными монетами. Мои товарищи тоже имели пользу и почин, и все развеселились от путешествия. А я – ещё оттого, что увидел много разных диковин и услышал удивительные истории. Однако пёстрая смена стран, городов и народностей утомила наши очи, и я как-то, пируя с друзьями, вслух вспомнил строку поэта: «Давно не бывал я в Багдаде». (А мы уж год как покинули его.) И мои товарищи согласились со мной. И мы отплыли путём возвращения.
А на третью ночь пути мне приснился странный сон: будто я с верными мне людьми поднимаюсь на высокую башню. Винтовая мраморная лестница длинна, кажется бесконечной, и мы сильно устали, но продолжаем идти, поскольку знаем, что ещё немного – и мы у вершины. Слева от нас – сердцевина башни, скрытая стеной (получается, башня в башне), справа – внешняя стена с редкими круглыми оконцами, сквозь которые светит день. Так как окна редки, они чередуются с горящими светильниками. И кажется, что идёшь сквозь ночь и день, которые ускорили свой бег и понеслись как сумасшедшие. Мы не знаем, что это будет и как это будет выглядеть, но уверены, что на вершине есть всё, о чём только может мечтать человек. И вот перед нами появилась крупная дверь, сделанная из железного дерева и украшенная золотыми пластинами, а те пестрят от драгоценных камней. Возможно, их узор что-то обозначал, на что-то намекал, но мы не поняли. И мы входим (дверь оказалась незапертой) и видим круглый зал, на удивление пустой и сияющий. Сияние исходит от стен (вернее, стена одна – кольцеобразная) и от купола-потолка. Они разрисованы, и я вижу, что это БОЖЕСТВЕННЫЕ письмена, и тут не обошлось без Аллаха (да не сведут нас с ума непостижимые творения его!). И я вижу, что ищущий богатства и власти затоскует в этом зале и покроется плесенью уныния, но ищущий мудрости и покоя останется здесь навсегда. И вдруг оказывается, что зал не имеет пола, и нам не на чем стоять, и мы падаем, стремительно летим в трубу вдоль полой сердцевины башни. И я превращаюсь в ожидание страшной боли, в переживание мига, когда мои кости смешаются с мясом. И вопль, переполнивший мою грудь, не находит выхода…
Но тут ужасный сон кончился, и я восстал из мёртвых. Однако мне было дурно, и мне хотелось знать, что это значит. Я позвал одного из своих слуг, который умел пускать кровь, разговаривать со звёздами и разгадывать сны. Выслушав меня, он побледнел, глаза его увеличились, и он схватился за голову и сказал:
– О, господин, это плохой сон! И я теперь не знаю, останемся ли мы живы.
– Твои слова непонятны! – воскликнул я. – Растолкуй их.
А слуга неожиданно приложил палец к губам и промолвил: «Тс-с-с! Слышите?» Я прислушался и уловил отдалённый гул. Но когда мы вышли на палубу, гул стал резче, мощнее, как будто тысяча львов зарычала одновременно. Но это не было похоже на льва, и никогда прежде я не слышал подобного звука. А мой слуга вытянул руку и крикнул: «Вот что означает твой сон, о, господин!» И мы увидели огромный столб воды, спешащий прямо к нам и пугающий нас своей величиной и подвижностью. И не успели мы взмолиться Аллаху, как наш корабль завертело и понесло в небо. И от головокружительной быстроты, рёва (а он заглушал треск корабля и падающих мачт) и от стеснённого водой дыхания я впал в беспамятство. Не знаю, сколько оно продлилось – 5 минут или 5 часов, – но только мой ум вернулся ко мне, и я заметил, что круги, которыми мы ввинчивались в небо, увеличились, полёт корабля замедлился, вода уже не так заливала нас, и можно было дышать. Сила, схватившая и поднявшая нас (не джинн ли это был из ифритов?), явно слабела. Мы приближались к вершине столба, краю вихревой воронки, и я понял, что если до сих пор не умер, то сейчас это произойдёт. И мы перевалились за край воронки и выпали из неё, как птенец выпадает из гнезда. И наш корабль полетел вниз подобно сорвавшемуся в пропасть камню. Сердце моё оборвалось, и я снова потерял сознание.
А когда я очнулся, меня удивило, что я всё ещё лежу на палубе, а корабль держится на плаву и качается на волнах. Неужели при переходе в мир теней ничего не меняется, и нас не оставляют ни окружающие предметы, ни пейзаж? И мои товарищи, слуги и матросы, к великой моей радости, оказались рядом, хотя некоторых мы недосчитались. Не встречал я больше и спутников, плывших на двух других кораблях и исчезнувших вместе с ними. Израненные и ушибленные, мы радовались тому, что живы, и только страшный холод беспокоил нас своей неслыханностью, и в нас закрадывалось сомнение: а на Земле ли мы?
Хорошо, что ифрит, перебравший в пляске и кружении и смахнувший с корабля постройки и мачты, не коснулся наших трюмов и кладовых. Мы поспешили туда, насколько этому позволяло наше здоровье, и стали заворачиваться в материи и пить вино, чтобы согреться. Но ткани, созданные для климата царей, были тонки и бесполезны в климате могил. То же случилось и с вином. Каждый из нас выпил тройную порцию, но не ощутил ни тепла, ни веселья. И мы удивились и испугались. И капитан стал рвать волосы из своей бороды, а потом заплакал и воскликнул: «Поистине, мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся! Одна беда нас отпускает лишь для того, чтобы передать другой, ещё более ужасной. Уж лучше бы я до смерти закружился с ифритом, чем дрожать и видеть агонию вина, и терять, подобно ему, свою температуру!»
Но тут кто-то вспомнил, что у нас есть бараны, у которых есть тёплые шерстяные халаты. А мы везли баранов как мясо, но вот пригодились и их шкуры. И каждый выбрал себе животное и зарезал его, вспоминая прекрасные строки поэта:
Каждый выбирает по себе
женщину, религию, барана.
И скользя в крови, мы развели на палубе большой огонь и закутались в не успевшие просохнуть шкуры, а мясо побросали в котлы. Близость огня, шерсти и обилие еды сделали своё дело, и мы почти перестали мерзнуть.
Наше состояние улучшилось, но наш корабль скрипел, как старик, далеко зашедший в своих годах, и уже местами дал течь, и каждая волна могла оказаться для него последней. И мы тревожно всматривались в незнакомое холодное море и не находили там ничего, что вселяло бы в нас надежду.