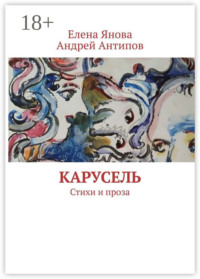Kitabı oxu: «Карусель. Стихи и проза»
Иллюстратор Г.А.В. Траугот
Редактор Татьяна Помысова
© Елена Янова, 2019
© Андрей Антипов, 2019
© Г.А.В. Траугот, иллюстрации, 2019
ISBN 978-5-0050-4433-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero


Небо дымкой подёрнулось, будто бы за ночь
Злой, огромный паук, паутиной
края небосвода стянул
И для светлого дня ни куска синевы не осталось
В непроглядном тумане рассвет утонул.
Острый запах травы, тишины недвижимость,
Щебет птиц и тепло ускользающих рук…
Отличить не могу от того, что приснилось,
Крик души и реальности замкнутый круг —
Карусель бытия, непрерывных чудес колесница
Пролетит, оставляя свой призрачный след
Я, конечно, умру, но и это мгновенье продлится
И придёт, может быть, вслед за мной,
Красоты и природы настоящий, прозревший,
И мудрый, как Вечность, ПОЭТ.
Елена Янова

Портрет Елены Яновой. Художник Г. А. В. Траугот.

Портрет Андрея Антипова. Художник Г. А. В. Траугот.
***
Луна над землёй кружится. Сердце опять не спит.
Строгая белая птица в сердце моём звенит
В каждом открытом взгляде, в твоём роковом заклятье
Во всём, что нельзя украсть, живёт наша сила и власть
Кружится звёздная карусель,
Боже мой, сколько же лет прошло
Чёрный Пьеро через метель
Снова стучится крылом в стекло,
Снова подлунный магнит вдаль за собой поманит.
Белое на красном в кружеве закружит.
Маски закрыли лица. Строгая белая птица
Не улетает на юг, так замыкается круг.
Андрей Антипов

«Особая благодарность Александру Георгиевичу Трауготу за портреты, рисунки, иллюстрации, как созданные конкретно для данного издания, так и предоставленные ранее».
Елена Янова, Андрей Антипов.
Елена Янова
Записки седеющей блондинки
Светлой памяти Валерия Георгиевича Траугота (23.06.1936 – 05.10.2009 гг.)
«Люди – это протоплазма, охотно устремляющаяся за теми, кто считает себя личностью».
Михаил Владимирович Войцеховский
Я часто думаю, вспоминаю, пытаюсь осмыслить и понять, что такое скука. Мне никогда не было скучно. Грустно, больно, страшно – да, конечно, да, если думать о негативе, скорби, безрадостных событиях и реакции на них. Но скучно?
Ведь это не апатия, когда не хочется ничего, когда перенапряжение, безысходность или иная форма физической или умственной усталости вызвали остановку, подобие полной душевной пустоты. Скука – томление по неумению себя занять, тоже пустота, но пустота поверхностная, надуманная. Своего рода поза, когда речь идет о личности пресыщенной. И, возможно, отсутствие внутренней гармонии, смутная тоска по неизведанному и неумение или незнание, как, в какую сторону направить свои влечения или поиски. Смутное брожение, незнание себя, в отсутствии потребности в познании и росте. Рост болезнен тогда, когда страх измениться превалирует над инстинктивной жаждой познания… Мне никогда не было скучно – быть может, потому (и, вероятно, именно потому), что довелось появиться на свет в семье, в которой каждый день и час был наполнен таким количеством и качеством жизни: физической, интеллектуальной, духовной…
Помню себя ещё до годовалого возраста. А около года помню почти каждый день, насыщенный невероятными приключениями и радостями. Разве не радость – самостоятельно вылезти из кроватки… А потрогать кошку? А дойти до стола, такого огромного и незыблемого? В год я уже умела рисовать и рисовала все и всех, что видела. Маму, папу, кошку, сестру Адю и, конечно, моих больших, очень надёжных, сильных, удивительных братьев – Александра и Валерия Трауготов.
Я ещё не знала, что они двоюродные братья, то есть кузены. Других, более интересных юных мужчин я не видела, и мне вполне хватало ежедневных, ежеминутных впечатлений в том мире, который ласково, нежно и так прочно меня окружал. Мой прекрасный, огромный, с небесно-голубыми глазами папа – идеал мужчины, и они, два весёлых, быстрых и всегда бесконечно для меня необходимых. Третьим и периодами самым любимым, был Миша. Я не знала, что Миша не является сыном Верочки, красавицы Веры Павловны, моей тёти, поэтому все трое были братьями. Два темноволосых, ироничных и вечно куда-то исчезающих красавца и, как мне тогда казалось, самый красивый потому, что всегда ласковый, улыбчивый, розовощёкий и золотоволосый, кудрявый, как амур на папиных репродукциях (репродукции – это огромное количество вырезок, открыток и собственно репродукций, которыми был полон папин старинный книжный шкаф со стеклянными витражами на дверцах и затейливой резьбой деревянных деталей), Миша, кудрявый ангел моего младенчества с загадочной, длинной фамилией – Войцеховский.
Я знала, что я – Лена Янова, все близкие называли меня Лялей, Лялечкой. Леной – это потом, в школе и других мрачных, тоскливых или неинтересных ситуациях. Всегда, до последних дней своей жизни, детским, родным, лёгким именем называл меня Лерик. Так и поныне, несмотря на мою зрелую грузность и пробивающуюся седину в светлых волосах, зовут меня Шурик и Миша. Мои остроумные, иногда подтрунивающие надо мной братья Трауготы. И все мы рисуем. Рисует мама, когда пытается меня, годовалую, зачем-то кормить, когда я есть уже не хочу. Но она рисует зайцев, медведей, кошек моих любимых. И, глядя на её рисунки, я даже не замечаю, как съедаю все, что находится на тарелке. Мама меня кормит с ложки, а я держу в кулачке карандаш. Мне удобно держать карандаш именно так, зажав четырьмя пальцами правой руки, и я рисую вместе с мамой. Папа на работе, он почти всегда на работе. «На студии» – так говорят дома. Папина студия далеко, и когда он приезжает на трамвае или пешком возвращается домой, на улице совсем темно. Но даже в темноте папа включает лампочку, висящую посреди потолка, выдвигает из-под кровати коробку с красками и рисует. Он рисует не так понятно и красиво, как мама. Накладывает краску одну на другую, отодвигается от досочки, к которой прикреплена бумага и которую папа называет «мольберт», о чем-то думает и шевелит губами, как будто неслышно говорит сам с собой, и на бумаге появляются чудовища, люди, звери, принцессы и совсем непонятные фигуры. Но все это сверкает, как драгоценные камни, как засохшая листва, как солнечные лучи за окном, и напоминает мне те сказки, которые папа иногда придумывает для меня. Мне и страшно и любопытно. Хочется уйти вглубь рисунка, жить, играть в нём, стать его частью. Но самое замечательное – когда мы с папой идем гулять. С мамой мы тоже гуляем, но это не так интересно, потому что я не люблю стоять в очереди. А гулять с мамой – это всегда разные, но очереди. Они длинные – предлинные и изгибаются, как поезд. Поезда я уже видела, но это отдельная история, не о том, как я рисую, и не о моих братьях. Так вот, я очень устаю, когда гуляю с мамой в очередях. Там, в очередях, есть дети, они тоже со своими мамами. Иногда я пытаюсь с ними играть. Но у этих детей какие-то свои игры, которых я не знаю. А я очень люблю придумывать. И игры я придумываю каждый раз разные. Это не в год уже, а немного позже, но игры интересные, в сказки. В те сказки о прекрасных рабынях и чудовищах, которые рассказывал мне отец, читала по книжкам мама или придумывала я сама, когда видела в очереди какого-нибудь ребёнка, и мне казалось, что ему будет легко и приятно изобразить того или иного человека или существо. Дети в основном почему-то не понимали и не принимали того, что я им предлагала, и отказывались играть в мои игры. Поэтому гулять с мамой в очередях было тяжело. Я знала, что НАДО, иначе мама обидится, или соскучится, или совсем надолго запрёт меня в нашей маленькой комнате одну, ведь папа был на работе, а сестра, у которой была совсем другая и очень красивая фамилия – Шишмарёва, – всегда была в школе. Поэтому я больше всего, больше даже, чем рисовать, любила гулять с папой.
Мы жили в доме №19 по Большому проспекту Петроградской стороны, а гулять шли через целых четыре дома от нас и один переход через Пушкарскую улицу, на Пушкарскую, в дом №3. Папа рассказывал, что раньше, «до войны», он тоже жил на Пушкарской, в доме №3, в одной огромной квартире со своими родственниками. Еще он говорил, что там же раньше, «до войны», жили мои дедушка и бабушка, умершие во время страшной ленинградской блокады. И что сам он едва не умер, перенеся цингу, пеллагру и дистрофию третьей стадии. Мне казалось, что всё происходившее до моего рождения было бесконечно давно, и удивляло, что папа все это помнит. Но я маленькая видела чёрно-коричневые пятна на отцовских ногах и знала, что это остатки той самой дистрофии и цинги. И было страшно оттого, что есть такая непонятная болезнь, которая оставила свой мрачный след на моем красивом, сильном отце навсегда. Итак, папа рассказывал мне о моих дедушке и бабушке, которых я очень хотела бы знать и любить, но которых знали и любили только Шурик и Лерик потому, что они были раньше меня и помнили все, что было до моего рождения. Мы с папой не торопились, идя с Большого проспекта до Большой Пушкарской улицы, и иногда, если мы шли гулять весной или летом, ещё светило солнце. И вот мы входили в большой, тёмный, всегда немного холодный двор для того, чтобы, неспешно поднявшись на третий этаж по «чёрной» лестнице, прийти в очередную сказку. Лестница и правда была «чёрной»: не нарядной петербургской лестницей с блестящими перилами и медными набалдашниками на стыках перил, мраморными ступенями и витражными окнами, а полутёмной, с вытертыми тысячами ног гранитными ступенями, простыми чугунными перилами, сначала вполне прочными, но с годами моего взросления терявшими чугунные перекладины, становившиеся всё более и более шаткими при прикосновении к ним. Как я узнала позднее, квартира, принадлежавшая Трауготам, являлась лишь частью роскошной квартиры в доме, построенном до революции родственником семьи Яновых – купцом Кирилловым. И лестница, по которой мы поднимались, действительно была чёрной, то есть лестницей для прислуги. Но мне, маленькой, эта лестница казалась сказочным лабиринтом, предварявшим вход в сказку истинную – в квартиру Трауготов, «Трауготиков», как называли их мои родители. Мы с родителями в то время жили ещё выше – на шестом этаже, в небольшой комнате коммунальной квартиры бывшего доходного дома, где папа поселился после возвращения из эвакуации и куда после окончания войны приехала со своей дочерью от первого брака моя мама, став женой отца, которого знала ещё до войны по совместной работе на студии «Леннаучфильм». Тогда, до моего рождения и до женитьбы на красивой блондинке – ингерманландской эстонке, моей маме, – отец («Костик», как его называли близкие) был женат на прекрасной художнице, любимой ученице Фешина, Наталье Петровне Пономарёвой, погибшей от голода во время блокады.
Помню рассказ отца о том, как они с Наташей (Пономарёвой) лежали в холодной комнате на Петроградской стороне, на Зверинской, 18. Оба уже не могли вставать, и жизнь покидала их. В какой-то момент, (а к тому времени папа уже несколько месяцев находился в голодном бреду) отцу показалось, что тепло и свет проникли в него, исходя от соседней кровати, той, на которой лежала, умирая, Наташа. Она умерла. Но верю, знаю, что именно своей любовью, желаньем, чтобы её любимый Костя продолжал жить, она – действительно чудесным образом – вдохнула в него силы и саму жизнь. И только благодаря этой волшебной женщине папа сумел дожить до эвакуации и не умереть по дороге в Новосибирск. Папа часто говорил и о Верочке, своей прекрасной, нежно любимой младшей (и единственной) сестре – как о человеке, также спасавшем и спасшем его во время голодной блокадной зимы и того торжества и апофеоза смерти, которым был пронизан Ленинград. Так что, будучи ещё совсем крохой, я понимала, что на свет появилась чудом и благодаря тем ангелам, которые помогли выжить моему отцу.
И вот к одному из этих ангелов – Верочке (которую и я, вслед за родителями, называла именно так, несмотря на сорокалетнюю разницу в возрасте) – мы и шли «гулять». Всё моё дошкольное детство по два-три раза в неделю мы проводили на Пушкарской, у «Трауготиков», почти жили вместе. Чудесный Георгий Николаевич – «Юрочка», как и я называла его вслед за взрослыми, – редко бывал дома. В пятидесятые годы он много работал в рекламе, и я почти не видела его именно за мольбертом. Его фантастически живые пейзажи, церкви, выплывающие из полотен сгустками воздуха, паутиной, сотканной из солнечных лучей после дождя, появлялись передо мной уже готовыми: привозил он свои полотна из многочисленных странствий, прогулок по Ленинграду и окрестностям. Уже много позднее, в моем одиннадцати-двенадцатилетнем возрасте, Георгий Николаевич (Юрочка), часто прогуливаясь со мной по старому Петербургу-Ленинграду, учил меня импрессионистическому видению и отражению реальности. Он говорил: «Видишь, как луч солнца, проходя сквозь листву, играет на серой и как будто мрачной стене? Смотри и запоминай, но не подробности каменной кладки, а то чувство, то впечатление, которое образы вызывают в тебе». Учил, сохранив, удержав впечатление в себе, торопиться унести капли образов, словно капли росы, способные вот-вот исчезнуть, испариться, будто их и не было, и – уже дома, на краешке единственного рабоче-учебно-обеденного стола уместив лист бумаги, – попытаться оживить переживание внутренним светом, принесенным с собой, используя любые имевшиеся в доме краски. Помню всегда доброжелательного, слегка лукавого, лукавством ребенка, замыслившего неожиданный подарок, Юрочку и то, как ненавязчиво и просто он растил во мне если не художника, то человека, умевшего воспринимать, видеть, трансформировать, творить. Творили все вокруг. Поэтому до определенной поры мне виделось, что мир (или, во всяком случае, его главная часть) – это творчество, воплощение в реальность того смешения света, цвета и радости, которые я ощущала в себе. Лерик, несколько более близкий мне по возрасту, чем Шурик (Александр Георгиевич), и, может быть, именно потому в младенческие мои годы весьма ко мне строго и саркастически настроенный, иногда обижал меня – скорее всего потому, что, и сам ещё подросток, просто не знал, как обращаться с маленькими девочками. Маленькой, в общепринятом значении этого слова, я, собственно, никогда и не была.
Теперь только мы с Шуриком и Мишей, а до 5-го октября 2009 года, унесшего из жизни дорогого моего Лерика, мы четверо прекрасно помнили, как двухлетней малявкой я говорила, что «молодость – до трёх лет». Я не повторяла чьих-либо слов и не привлекала к себе внимание, как часто делают дети, скучающие в окружении взрослых. Я искренне так считала. Мне было два года. Я осознанно и с интересом участвовала во взрослой жизни, так как окружающие (кто-то игнорируя моё присутствие, а кто-то просто потому, что не делил мир на взрослую и детскую половину) были при мне и со мной вполне естественны, не приветствуя ни сюсюканья, ни иносказаний, часто принятых в разговорах с детьми и при детях. Я была полноправным членом семьи, состоящей из людей, для которых критерием возможности общения был творческий потенциал и способность к развитию. И только я, уж не знаю почему, но и в те годы чувствовала, что вязкая материя времени подобна зыбучим пескам, быстротечна и неуловима, неопределенна и неопределима. И только моя семья может дать кратковременную, но всё же устойчивость бытия. Присутствия не только в сказке, но и на подобии почвы, поверхности; не только в папиных таинственных и иногда страшных рисунках; не только в маминых, как сейчас сказали бы, «комиксах» о кошачьей жизни; не только в моих собственных, как говорили папины сослуживцы, подражаниях Михаилу Врубелю (тогда, в два-три года, я ещё не увлеклась творчеством Врубеля и подражать ему не могла), – я была просто девочкой, принцессой (папа говорил, что все девочки – принцессы), уверенной в завтрашнем дне потому, что у меня есть три брата, три красивых, необычных человека, которые любят меня, быть может, так же сильно, как родители, но которые при этом гораздо лучше понимают, воспринимают, которые всегда помогут, найдут, куда бы я ни потерялась, спасут, что бы со мной ни случилось. И которых я люблю. Очень. Больше всех на свете.
Это была СЕМЬЯ. И хотя изначально я, конечно, и понимала это слово в общепринятом смысле – папа, мама, сестра, братья, другие близкие родственники (к которым в детстве невольно причисляла и некоторых друзей отца и Трауготов, особенно часто бывавших в доме на Пушкарской), – но с годами поняла, что наша семья – особый, как сейчас бы сказали, ЭГРЕГОР, монолит, форма, чуждое и неуместное прикосновение к которой способно её покалечить. Лерик пытался донести до меня эту формулу семьи много раз, но особенно ясно и непререкаемо его доводы прозвучали летом 1970-го года, когда я познакомила с Лериком своего жениха, которому начала публично и шутливо рассказывать что-то о семье, о своей дружбе с братьями, что-то еще… Лерик вывел меня в свободную комнату и сказал: «Ляля, женихов, поклонников и друзей у тебя может быть сколь угодно много. Ты можешь даже выходить замуж, но запомни: какими бы родными ни казались входящие в твою жизнь люди и сколь бы длительным ни было твое общение с ними, это чужие люди, они никогда не поймут, не примут, а главное – не заслужат права понять и принять то, что на уровне генов, клеток, мыслей сближает нас, семью. И только это истинно, а остальную житейскую мишуру дари кому хочешь. Но никогда не позволяй никому заходить дальше, чем я сказал и что, был уверен, ты понимаешь без слов».
И снова детство. Папа (так мне кажется) больше всех из следующего за своим поколения любил Лерика. Так казалось в детстве, и так, наверное, и было, судя по многочисленным, сохранившимся у меня письмам, которые еще до моего рождения отец писал моей маме. Я обязательно присоединю эти письма к тем записям и воспоминаниям самого отца и о нём, которые систематизирую и постараюсь издать. Отец много писал о своих племянниках, тогда еще совсем детях. Об их уникальных, невероятных художественных талантах. Об их памяти, эрудиции, остроумии. Не сомневаюсь, что мальчики, встретившие войну в совсем нежном возрасте и, тем не менее, помнившие и помнящие до сих пор не только всех близких и отдаленных родственников, их образы, слова, манеры, речи; сумевшие впитать не только мировую классическую литературу, прочитанную ещё в раннем довоенном детстве, но и дореволюционную культуру, знания, манеру поведения своих бабушек и дедушек, а скорее всего и еще более далекую эпоху; сумевшие через бабушек и дедушек почувствовать и принять, впитать то ценное и незыблемое, что шло из глубины веков и сохранилось разве что на старинных портретах, в жестах, взглядах давно ушедших людей, положении их рук, тел, манере одеваться и носить одежду; не позаимствовать, а принять и понять душевный строй своих далеких и прекрасных предков, – эти мальчики были истинно уникальны.
Папа никогда не называл племянников детьми. Дети его любимой прекрасной сестры были для него людьми. Людьми, одаренными разумом и талантами, пережившими войну, блокаду, а значит, столько горя, что не под силу было снести и многим более крепким, более закалённым жизнью. Я не могу помнить девятилетнего Лерика, вернувшегося из эвакуации: меня ещё не было на свете. Но помню рассказы – великое множество рассказов о приключениях этого маленького художника, который пленял всех явным противоречием между своим небольшим тогда (после голодного детства) ростом, лучистым наивным взглядом огромных синих глаз, лёгкой, изящной манерой поведения и невероятной памятью и эрудицией. Мне кажется, что несмотря на то, что я единственная дочь своего отца, рано проявившая разноплановые способности, вполне недурненькая, научившаяся осмысленно и с большой фантазией рисовать уже в год, а читать – в три, папа ценил Лерика больше, чем меня, и, возможно, больше любил. Особенно обидно было маме: на свою приёмную дочь, а мою старшую сестру Ариадну, красивую и неглупую девочку, двумя годами младше Лерика, папа и вовсе не обращал никакого внимания. Поэтому, отпуская нас с папой «гулять», мама надеялась, что хотя бы через раз, но мы и впрямь гуляем, то есть проводим время на свежем воздухе. Но не припоминаю таких случаев. Мы целеустремленно отправлялись на Пушкарскую, 3.
Вход в квартиру шёл через кухню, производившую волшебное впечатление, как и вся квартира в целом. В этой квартире царила обстановка, которую с полным правом можно было назвать «художественным беспорядком». Впоследствии я видела много квартир, домов, мастерских, обстановку которых хозяева и гости называли так. Но… либо это был просто беспорядок, либо, если что-то художественное, например картины, и присутствовали, был порядок, нарочито и искусственно имитирующий некую лёгкость и авангардность.
Здесь же, в квартире моей тёти и ее детей, царил хаос, но настолько естественный и антично прекрасный в величии каждой детали, что можно не сомневаться: художественный беспорядок, ставший впоследствии привычным стилем русского андеграунда, пошёл именно оттуда, из квартиры моих родственников на Пушкарской, три.
Бывало, что нас встречали только Верочка и сыновья. Иногда бывал дома и Георгий Николаевич, к моему четырёхлетнему возрасту называвший меня инфантой Маргаритой. Мне объяснили, что я должна быть польщена сходством с испанской принцессой с портрета Веласкеса, репродукцию которого мне тотчас же показали. Я сдержала свой ужас (мне совсем не понравилось длинное, бледное, одутловатое личико маленькой инфанты), но я знала, что возражать невежливо, и молча терпела обиду, втайне боясь, что я и впрямь такая же противная, как девочка на картине. Поэтому, когда примерно в тот же период красавица Верочка, подкрашивая губы, спросила меня, хочу ли я, когда вырасту, стать красивой или умной (только сейчас, во время написания этих строк, я подумала, что иногда эти два качества всё же совместимы), то не только из скромности и хитрости, а вполне искренне боясь, что красивой мне не бывать, я ответила, что хочу быть умной. Сейчас я понимаю, что Юрочка, Георгий Николаевич, действительно считал меня изысканной и утончённой, подобной портретам Веласкеса, и можно было только гордиться подобным сравнением…
А Лерик… Он всегда был для меня, да и для всех, кто его видел, красив безоговорочно. Мне нравилось, как он говорит, смотрит, смеётся. И, зная от папы, что Лерик рисует лучше всех на свете, я и сама видела, как одним взмахом кисти, карандаша, пера он оживлял и крадущегося тигра, и грациозного козлика, скачущего по горной тропе. А кошки были на его рисунках не просто живыми – они обладали разными, не объяснимыми словами многограннейшими характерами…
Братья часто рисовали меня. Я не нравилась себе на этих рисунках, но легкость линий, скорость, с которой схватывался любой характер, любой образ изумляли тем более, что вокруг рисовали все. Рисовала я сама, почти непрерывно, ежедневно, и если не стала ничем и никем в этой области, то, может быть, именно потому, что любой замысел осуществлялся легко и мгновенно. И всегда меня хвалили. Хвалили за мои рисунки отец, братья, Георгий Николаевич. Я не понимала, куда и зачем расти, казавшись себе вполне законченным художником лет в шесть, хотя не обладала ни папиной бесконечной фантазией, ни безупречной отточенностью линии рисунка моих братьев, ни, тем более, даже азами школьной, академической грамоты. Самое же главное – не обладала тем трудолюбием и вдохновением, которое позволило моим братьям бесконечно совершенствовать своё мастерство, а моему отцу до конца дней оставаться ребёнком, удивляющемуся каждой травинке, каждому проснувшемуся по весне мотыльку, любому ежедневному чуду – чуду жизни.
Помню, как Лерик, уже поступивший в Московское художественное училище, лепил мой портрет в мастерской на Гулярной улице. Портрет, к сожалению, не сохранился: его не удалось отлить ни в бронзе, ни даже в гипсе, – но я помню себя позирующей и тот образ, который оживал под виртуозными пальцами юноши, сложенного как античный бог, с ярким, проницательным взором из-под длинных мохнатых ресниц.
Мне было восемь или девять лет. Я давно уже любила и воспринимала всё красивое. Так, самым красивым в часы утомительного сидения на модельном круге была не я, не скульптура, приобретавшая все более и более индивидуальные, неповторимые очертания, а мастер – молодой бог, мой кузен, полный вдохновения и той радости, которую может дать только чудо слияния художника и произведения. Только творчество.
Но вернусь к лестнице с шаткими чугунными перилами, по которой столь часто мы поднимались с папой в квартиру моих, как тогда казалось, самых и навсегда близких людей. Я не могу судить об истинной глубине взаимных чувств брата и сестры (папы и Верочки), но знаю, что до конца его дней имя сестры было у отца на устах и произносилось с трепетом почти священным. Знаю, что к ней он стремился в любую минуту, свободную от службы, иных житейских обязанностей, предпочитая общение с сестрой даже рисункам, даже репродукциям, которые досконально знал и часто перебирал, придавая своему архиву все новый, иногда исторически планомерный, иногда искусствоведчески обоснованный порядок.
Общение с Верочкой было единением с семьей потому, что семья, судя по отцовской модели поведения, – это не мама, папа, Ада, я, а Верочка, ее дети, Миша Войцеховский, Георгий Николаевич Траугот (папин друг и сокурсник по Академии художеств, ставший Верочкиным мужем в 1930 году), потом уже я и совсем иногда – мама и Ада. Не сомневаюсь в том, что физически отец всегда был верен маме, но, работая в кино и до глубокой старости сохраняя импозантность, простоту и изящество гранда, царственную посадку седой уже головы, сочетаемую с отсутствием даже намёка на снобизм и высокомерие, папа пользовался большим успехом у женщин.
В его же жизни их, женщин-муз, было всего четыре. Живопись, день без которой был пустым и ненужным; сестра Вера, день без которой казался незаживающей раной, звучал болью; мама, жизнь без которой лишалась фундамента и превращалась в сплошной, возможно прекрасный, но полностью оторванный от реальности сон; и… Наташа (Н. П. Пономарёва), которая, уйдя из жизни, осталась не «в сердце и памяти», как говорят в газетных некрологах и в бульварных романах, а в самом отце, слившись с ним воедино. Я помню, как мама в раннем моем детстве ревновала к Наташе, к её фотографиям, живописи, самой памяти. Ей казалось, что папа любил Наташу больше, чем её, такую красивую, такую земную, такую самоотверженную, в тяжелейшем быту подарившую ему меня – его единственную дочь. Напрасно ревновала. Каждую из своих муз отец любил разною любовью, совсем по-разному был к ним привязан. И если прекрасная муза живописи, олицетворением которой была натурщица-аристократка Лёля (в честь которой и я – Елена), – это стихия воздуха, без которого нельзя дышать, жить, то сестра Вера была как вода, без глотка которой тоже долго не просуществуешь, благодетельная влага, дававшая силы, чтобы дальше исполнять долг: тянуть лямку не всегда благодарной работы, не всегда терпимого быта. Мама – земля, почва, без которой и оттолкнуться не от чего и прилечь отдохнуть негде. А Наташа… возможно, вечный огонь, огонь, который она зажгла возле юного талантливого мальчика, будучи уже признанным мастером живописи, членом Союза художников (и на десять лет старше его). Она полюбила гениального, как многие считали, Костю и положила на алтарь этой любви своё возможное благополучие, известность, когда отказалась в 1925-м году уехать в Америку со своим учителем Фешиным и потом, даже смертью своей, этот огонь в отце сохранила.
Пройдя через кухню в квартире на Пушкарской, 3, через длинный узкий коридор, минуя маленькую комнату справа по коридору (у этой комнаты была своя, отдельная, таинственная и лишь временами приоткрывавшаяся для меня жизнь), мы оказывались в гостиной. И гости, помимо нас с папой, а иногда и с мамой, были в гостиной почти всегда. Чаще всех бывал в гостях художник Стерлигов, со своей женой Татьяной и её сестрой, тоже художницей, Люсей Глебовой. Помню невысокого, неяркого, но с удивительно лучистым взглядом, тогда уже не юного, но никому неизвестного замечательного поэта Михаила Кошелева. Еще лучше помню родственника Михаила, инженера, имени которого сейчас не вспомню, создававшего невероятно прекрасные миры из самых простых материалов. Макеты – это простое слово никак не вязалось с той сказкой, фантасмагорией, которая блистала водной гладью из обыкновенных зеркал, выглядывала башенками из спичек, крепостными стенами из картона и папье-маше. Они уводили воображение в такие неземные и волнующие дали, что я могла часами любоваться чарующими мирами, прикасаться к которым мне строго воспрещалось. Запрещали мне и двигаться и о чём-либо спрашивать, когда Татьяна и Людмила Глебовы начинали петь. Вероятно, музыкальные вечера в доме Трауготов назначались заранее, но мы с папой не приноравливались к тем или иным светским мероприятиям и приходили в любой день и час, часто попадая именно на музыкальные встречи. Папа не был музыкальным. Прекрасно разбираясь в технике, чертежах, искусствоведении, сочиняя, как каждый культурный человек, родившийся до революции, и стихи, и рассказы, чувствуя стиль и ритм во всем, что его окружало, он сам говорил, что ему «медведь на ухо наступил». Однако все, что нравилось его сестре, нравилось и ему, тем более что Верочка пела. Не так профессионально, как Глебовы – Стерлиговы, исполнявшие совсем позабытую в те советские времена церковную музыку, старинные романсы, Рахманинова. Но, обладая удивительно чистым и нежным голосом и сохранив его на всю жизнь, Верочка была той флейтой, которая оживляла профессиональное пение, пронзала душу воистину соловьиной нежностью и звоном серебряного колокольчика. Капля росы среди многоголосья проснувшегося леса. Звук чистого ручья, не заглушаемый аккордом могучей реки.
Я, маленькая, часами сидела на красном бархатном пуфике в гостиной, полной того художественного беспорядка, сам воздух которого пронизан искусством. Мне не было скучно, только моментами хотелось размять затекшие ноги и руки, подвигаться. Поэтому, больше я любила, когда наш визит не совпадал с домашним концертом. Конечно, вечера не ограничивались только духовным пением, было много интересных, разноплановых бесед, часто обсуждалось творчество присутствующих и творческая жизнь вообще. И будь это новый мистический рисунок, принесенный отцом, полотно Стерлигова, пейзаж Георгия Николаевича или скульптурная композиция, созданная кузенами для музея города (а именно мелкой фарфоровой пластикой занимались Шурик и Миша в середине 1950-х годов), споры не прекращались до глубокой ночи. Кстати, период середины 50-х был невероятно продуктивным для всех Трауготов. Уже готовились и появлялись, под руководством и при деятельном участии Юрочки, иллюстрации. Миша на заводе резиновых изделий создавал первые в стране феерические резиновые игрушки. Когда я, пятилетняя, шла по Большому проспекту Петроградской стороны, гордо прижимая к себе золоторогого прекрасного оленя, созданного Мишей, за мной (естественно, меня вела за руку мама) шла толпа любопытных и страждущих, желавших если не прикоснуться, то хотя бы приглядеться к небывалой в то время игрушке. А Лерик…