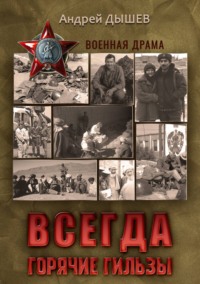Kitabı oxu: «Всегда горячие гильзы»
Андрей Дышев
* * *
Глава 1
Я, майор ВДВ Андрей Власов, стою у зеркала, смотрю на себя, то склоняя голову набок, то приподнимая лицо кверху: «Какая огромная разница между тем, что о человеке думают люди, и тем, что он думает о себе сам».
«Соседи предполагают, что я супермен…»
Я сгибаю руку в локте, напрягая бицепс, улыбаюсь, скалю зубы (половина – фарфор. Свои родные давно выбили).
«Подчиненные уверены, что я никогда не испытываю чувства страха…»
Я нахмуриваю брови и негромко, чтобы за дверью не услышала жена, рычу.
«Начальство считает, что я способен выполнить любое задание, разровнять Гималаи, утопить Японию и без единого выстрела захватить Соединенные Штаты…»
Я сказал «гык» и нанес резкий удар кулаком по полотенцу, висящему на перегородке. Полотенце словно крыльями взмахнуло, скомкалось и упало на мокрое дно ванны.
– Андрей! – донесся из-за двери голос жены. – Ты там живой? Что ты кряхтишь?
«А на самом деле… на самом деле никто не знает, как мне иногда бывает страшно, как иногда трудно сделать так, чтобы зубы не стучали и не дрожали руки. И смотрю я на бойцов, которым надо через минуту подняться под пули, и думаю: молодость – это наивность. Им не страшно, потому что они еще не знают, чем все это может закончиться… Я им немного завидую, мне кажется, что они не испытывают такого липкого, тошнотворного, поносного страха, какой испытываю я. У меня нет никого, кто был бы опытнее и мудрее меня, мне не на кого положиться, кроме как на себя самого. А у бойцов есть я – храбрый, всесильный супермен, рядом с которым можно расслабиться в полной уверенности, что все закончится хорошо… Слава богу, они не догадываются, как я на самом деле боюсь, как я проклинаю судьбу и лелею в душе только надежду на чудо».
– Тебе звонил Кондратьев, – сказала жена, когда я с полотенцем на шее вышел из ванной.
Мужчины смеются, дразнят женщин, когда они выходят из ванной с намотанным на голову, как тюрбан, полотенцем. А сами-то! Вот спрашивается, зачем мужикам надо выносить из ванной мокрое полотенце на плече? Почему из ванной надо выходить именно так? А просто в руке его нести нельзя? Оно что – тяжелое? От воды или грязи? Или это демонстрация того, что я чист, помылся наконец-то, первый раз за минувший квартал, и теперь со мной можно и безопасно иметь дело…
Жена (ее зовут Мила), маленькая, милая, уютная, полная противоположность мне, стояла передо мной и сжимала в руке трубку телефона, как если бы это была граната с вырванным кольцом. Заглядывала в глаза. Она – не боец. В том смысле, что она знает про меня все, и разыгрывать перед ней супермена со стальными нервами нет смысла. А уж особенно, если звонил Кондратьев.
Кондратьев – начальник регионального отдела специального назначения, в недавнем прошлом работал в контрразведке и в группе «Вымпел». Я понятия не имею, почему я, российский офицер-десантник, работаю на ФСБ. Как-то незаметно и плавно так получилось. Сначала меня наградили, потом назначили командиром отдельного батальона, потом вывели в прямое подчинение главкому ВДВ, а потом я случайно узнал, что все мои недавние спецоперации в Венесуэле, Иране и Норвегии были спланированы в центре специального назначения ФСБ. В подробности я не вникаю. Во-первых, потому что все равно от Кондратьева правды не добьешься. А во-вторых, я вряд ли что-то пойму. У меня мозг устроен своеобразно. Он различает только белое и черное, врага и друга, жизнь и смерть, любовь и ненависть. Полутонов и переходов не видит напрочь. А в ФСБ – одни сплошные полутона и переходы.
– Он сказал: ровно в десять тридцать на том же месте… Только не волнуйся, умоляю тебя. Может быть, это просто…
– Сто пудов просто! – согласился я.
Я вру жене всегда. Почти всегда. Во всяком случае, в той части жизни, которую занимает служба. Если мне предстоит лететь на спецзадание, я говорю, что еду на рыбалку. Мои незадействованные в мероприятии бойцы носят ей рыбу из ближайшего супермаркета. Мороженую, так как другой у нас нет. Говорят, это вам Андрей с рыбалки передал. Если с операции меня привозят на носилках, я говорю, что перебрал маленько, сам дойти не смог. Если на моем бренном теле Мила находит свежие раны и царапины, я говорю, что рыболовные крючки, зараза такая, очень острые. Мила внимательно смотрит мне в глаза, кивает и говорит неизменное: «Ну да. Конечно. Я так и поняла». И больше никогда не пытает меня, не возвращается к этой теме. Только глаза у нее в эти дни красные, она по целому флакону визина заливает.
И еще она очень увлекается иконами. Как мне ехать на очередную рыбалку, так в доме появляется несколько образков с какими-то тоскливыми физиономиями. Мила расставляет их по углам, перед книжками, между посудой. Я рассматриваю иконы, стараюсь понять смысл безжизненного взгляда многочисленных рыбьих глаз. «Этот похож на моего бывшего начсклада, прапорщика Балайко, – говорю я. – Проворовался, собака такая… А этот смахивает на капитана Фурсенко, начальника строевой части…» – «Не богохульствуй», – вяло ругает меня жена.
Я в Иисуса не верю. То есть, его существование в далеком прошлом, конечно, не исключаю, но в то, что он – наш бог, ни-ни. С Милой на фабрике до недавнего времени работала молодая женщина. Был у нее ребенок, 7 месяцев, девочка. На пешеходном переходе коляску сбил пьяный сержант милиции. Несчастная женщина чуть умом не тронулась. Соседки к ней священника приводили, чтобы успокоил. И тот говорил: бог дал тебе испытание, чтобы ты преодолела его и тем самым очистилась на пути к царствию божьему. Я вот что по этому поводу думаю: на хрен мне такой бог, который дает и без того несчастным женщинам такие скотские испытания! Нихера себе защитник! Угробил малютку, чтобы молодая мать корчилась в невыносимых муках! И ради чего? Ради нравственного очищения? Да эта несчастная уже стала святой в этой поганой жизни! Она уже как в аду: восьмилетка в каком-то Задрищенске, потом техникум, фабрика, по холодным и грязным общагам с маленьким ребенком – одна, без мужа, полуголодная, холодная; она никогда не гуляла, не пила, не курила, горбатилась ради скудной зарплаты и койки в общаге, собирала копейки ребенку на будущее. Мало этих страданий было богу? Он решил уж совсем до конца ее испытать? Раздавить дитя, им же данное? Эх, люди, люди…
Вы спросите, а во что же я верю? Я скажу: я верю в великого Творца, создавшего Солнце и Землю. Не сомнительной тряпке, именуемой плащаницей, надо молиться, а бесспорным плодам деятельности Творца: чистому голубому небу, белым облакам, теплому дождю, плодородной земле, лесу, ветру, пресным рекам, зеленым лугам, хлебу, рыбе, которую я так и не выловил… Бывает, припрет так, что впору с жизнью прощаться. Как тогда, в Сибири, в районе Айхала, когда я с тремя новобранцами был окружен бандой беглых зеков. Им нечего было терять, а нам неоткуда было ждать помощи, и всего горсть патронов на всех. А их двенадцать, и у каждого ствол. И они приближаются, ножи сверкают, сейчас кишки будут нам выпускать. Вот тогда я ткнулся лбом в землю и прошептал: Земля родная, кормилица и мать моя! Не дай умереть от рук злодеев, дай мне, сыну твоему, силы и веры; и ты, Солнце ясное, согрей мои окоченевшие руки, наполни их живительным огнем, помоги выдержать испытание… И как же я потом шинковал этих поганых урок! И я цел остался, и парни мои, хотя домой мы вернулись на носилках. А зеки так и остались в тех болотах гнить.
А еще я верю в мужскую дружбу, в преданность и честь. Верю в своих бойцов. Верю в волю и упорство – они делают чудеса. Верю своей жене, моему самому лучшему другу на свете. Вот, собственно, и все.
Наверное, я язычник.
Однако, отвлекаюсь. В десять тридцать на том же месте. Полковник никогда ничего не говорил мне по телефону. Только время. И упоминал «то же место». Не думаю, что это требования конспирации. Кому надо – вычислят нас и найдут «то же место» запросто. Скорее, это давняя привычка Кондратьева не договаривать, вслух произносить минимум информации. Я привык. Я давно привык, что меня используют «втемную». Мне никогда не объясняют, зачем и кому это надо. Зачем, к примеру, срываться и лететь грузовым бортом в Венесуэлу, Камбоджу или в Австралию, а там через связного получать фотографию человека, который руководит неким сложным многоступенчатым процессом, который мне надлежит остановить. Я делаю свою работу без эмоций, без вопросов, без позиции и политических убеждений. Но я твердо убежден, что каким-то образом этот процесс приносил вред России, и теперь ей стало немного легче дышать. Без твердой, стопроцентной уверенности в том, что моя работа приносит пользу стране, я на задание не отправляюсь. Никогда. Принцип.
Когда я иду на встречу с Кондратьевым, у меня ноги подкашиваются от страха. Я ведь говорил, что на самом деле я трус. Я всего лишь тщательно скрываю это от окружающих. Когда получается трудно, я прибегаю к давно апробированным приемам. Если я с бойцами, то начинаю отдавать команды криком, ору, как на футболе: А ну, парни!! Ощетинились!! Мы их сейчас на кусочки порвем!! Мы их в порошок разотрем!!… Бойцы – я вижу – сразу плечи распрямляют, лица их розовеют, подбородки уже не так дрожат. Начинают верить в то, во что я сам не верю: что порвем на кусочки, разотрем в порошок, на омлет взобьем… А врагов-то раза в три больше, чем нас, и наша «щетина» им похер, они обкуренные, одурманенные религией. Но мои парни верят! Раз я сказал, что порвем, значит, порвем, пусть их будет даже в сто раз больше!
До сих пор удивляюсь, какие же мои бойцы доверчивые. Я ляпну какую-нибудь глупость, что, типа, мы запросто перевал-шеститысячник за ночь пешком преодолеем по скользкому фирновому снегу и при морозе минус тридцать пять. Парни смотрят на обледеневшие скалы, глазами понимают, что я несу бред, но сердцем верят: раз командир сказал, что запросто, значит – запросто. И только я один знаю наверняка, что задача эта невыполнима, потому что преодолеть перевал мы должны до рассвета, иначе вертолет ждать не будет, и мы останемся в горах подыхать, и к тому же еще у нас раненный, да почти у всех обморожения, да не жрали трое суток, да сил уж почти не осталось, еле ноги передвигаем. Но уверенным голосом вру ребятам. И происходит чудо: с матом, со слезами, с болью и стоном мы переползаем через этот проклятый перевал и успеваем к вертолету в последнюю минуту.
Кто мне скажет, почему так?
Глава 2
– Давай, как всегда: я говорю, а потом ты докладываешь: к вылету готов. И расходимся. Времени нет совсем. Принять решение надо очень быстро.
Полковник Кондратьев шел чуть впереди меня и говорил, не поворачивая головы. Он был чуть ниже меня ростом, к тому же еще смотрел себе под ноги. В общем, мне надо было сильно напрягаться, чтобы не пропустить ни одного его слова.
– С тобой трое человек. Вылет сегодня вечером. С собой ничего не брать. Ничего вообще. Десантируетесь на севере Афганистана. Недалеко от места приземления будет находиться тайник с экипировкой, оружием и средствами связи. Там же вы найдете карту с заданием. Всё.
Так коротко Кондратьев мне еще никогда не ставил задачу.
– Вопросы можно?
Кондратьев чуть повернул голову и посмотрел на меня снизу-вверх.
– Обычно ты не задавал мне вопросов.
– Обычно ты доводил до меня исчерпывающую информацию.
– Ну ладно. Я попробую ответить, если смогу.
Кажется, я чего-то не понимал. Кондратьев был не таким, как всегда. Он говорил как-то странно… Мне трудно подобрать точное слово, но полковник как будто хотел передать мне совсем иную информацию, заострить мое внимание на чем-то другом…
– Как мы найдем тайник? – спросил я.
– На месте узнаешь.
– Нас будет кто-то встречать?
– Нет… – тут Кондратьев повысил голос: – Андрей! Мы заплатим тебе сто тысяч долларов, и по тридцать – твоим бойцам за выполнение задачи без лишних вопросов.
– Валера, ты же знаешь, я работаю не столько за деньги. Со мной торговаться бесполезно.
– Знаю.
Мы остановились посреди парка. Начал накрапывать мелкий дождь. Кондратьев понял воротник плаща. Нынешний июнь выдался просто паршивым.
– Вы должны взорвать склад с готовым героином.
– Всего-то? – улыбнулся я. – Это уже какой будет по счету взорванный мною склад с наркотой?
– Взорвать так, чтобы от него осталась воронка, как от Тунгусского метеорита, – не ответив на мой вопрос, добавил Кондратьев.
Мимо пробежал сухой, как щепка, старик. Кроссовки на его коротких и тонких ногах казались огромными и неподъемными. Мы молча ждали, когда он удалится. Я успел поймать взгляд полковника. В его глазах прятался страх.
– И охота ему бегать в такую погоду… – пробормотал он, глядя в спину убегающего старика.
– Если надо только взорвать склад, – сказал я, – то не проще ли десантировать нас уже экипированными и с оружием прямо на этот ваш склад, как мы уже делали в Венесуэле или на пароме в Аденском заливе?
Кондратьев некоторое время молчал, покусывая кончики седых усов. Я убеждал себя в том, что они у полковника ненастоящие, наклеенные. Мой униженный интеллект требовал компенсации, вот я и придумывал всякую хренотень про полковника: то усы у него ненастоящие, то глаза стеклянные, то он вообще не человек, а биоробот. Это я морально готовился к предстоящей едкой иронии. Если я пытался умничать и предлагал Кондратьеву свой план действий, он всегда издевался надо мной, как злой учитель над двоечником. Но на этот раз полковник ответил без издевки:
– Мы бы десантировали вас с оружием и взрывчаткой, если бы это было возможно.
Никогда еще я не слышал из уст Кондратьева столь неубедительной интонации. Вяло, лениво, заученно, словно непутевый ученик в сотый раз выдавал учителю одну и ту же придуманную причину невыученных уроков: я болел, у нас вырубили свет, я потерял дневник…
И смотрит, смотрит на меня, прожигает взглядом, слово хочет крикнуть: ну же, Андрей! ты понял, что я хочу тебе сказать? ты внимательно следишь за тем, что я тебе говорю?
Хрен поймешь этих фээсбэшников!! Говорят одно, другое на уме, третье в кармане, четвертое в рефлексах. Вот почему я никогда не отношусь к ним с доверием, хотя и работаю на них последние два года. Мне ближе по душе простые армейские командиры. У этих парней все четко и ясно, без недомолвок и намеков. Бить – значит бить, а не целовать.
Я всматривался в глаза Кондратьева до боли, но ничего в них не видел. Подмывало спросить открытым текстом, типа, Валера, я что-то не догоняю, говори прямо! Но, предупреждая меня, Кондратьев быстрым движением прижал палец к губам.
– Ну что? – со свежей интонацией громко спросил он. – Ты готов?
«Он боится прослушки», – понял я и, не думая больше о последствиях, не мучаясь вопросом, правильно ли я понял его мутные намеки, на одном дыхании произнес:
– Конечно, готов! А когда я отказывался послужить родине?
По лицу полковника пробежала едва уловимая тень.
Кажется, я сказал что-то не то.
– Ну и замечательно, – пробормотал Кондратьев и ускоренной походкой двинулся к выходу из парка. – Замечательно…
Я поспешил за ним. Дождь усиливался. Теперь мои мысли были заняты вопросом, как я расскажу Миле о предстоящей «рыбалке». Дело в том, что завтра мы собирались на банкет в честь пятидесятилетия ее старшего брата Сергея. Уже подарок купили – какую-то нереальную космическую электрогитару, сверкающую лаком и неоновыми огнями. Миле придется идти одной.
Я заметил, что Кондратьев, идущий впереди меня, что-то нервно ищет в карманах, как будто сигареты. Но он никогда не курил.
– Замечательно, – бормотал он. – В шесть вечера за тобой заедет машина. «Хёндэ Таксан», номер – две шестерки девять. Твои бойцы уже ждут тебя в Чкаловском…
Он на ходу расстегивал верхние пуговицы плаща. Сунул руку в нагрудный карман… Я шел чуть сзади и не видел, что он оттуда достал. Ссутулил плечи, опустил голову… Казалось, что он, не останавливаясь, пытается собрать кубик-рубика.
На выходе из парка он резко остановился, повернулся ко мне. Я едва сдержал эмоции. Кондратьев смотрел на меня жестко и решительно.
– До встречи! – произнес он, протягивая мне руку. – Желаю удачи!
Пожимая его сухую, широкую ладонь, я почувствовал в ней скомканный обрывок бумаги. Принял его и сжал в кулаке. Что за конспирация?! Первый раз полковник так странно себя ведет!
Я не стал провожать его взглядом – так меня учил расставаться Кондратьев – сразу повернулся и пошел в обратную сторону. Свернул с главной аллеи в сторону и зашел в парковый туалет. Там, в одиночестве, в тишине, у писсуара, я развернул листок, вырванный из записной книжки:
«Ни в коем случае не вылетай».
О-па! Все круто меняется!
Глава 3
Мне надо было некоторое время, чтобы прийти в себя и сообразить, что же мне теперь делать.
Я брел по улицам, не слишком заботясь о том, в какую сторону направляюсь. Первый раз я видел Кондратьева, над которым довлела некая более могущественная, чем он сам, сила. Он ее боялся, он не мог говорить со мной открытым текстом, предполагая, что в его одежде спрятано подслушивающее устройство. Он очень не хотел, чтобы я согласился на командировку в Афган, но не мог произнести это вслух. Он пытался подать мне знаки, но при этом опасался, что те, кто его прослушивают, догадаются о его двойной игре. И ничего не нашел лучшего, как написать мне записку.
Для опытного разведчика это был явный и непростительный ляп. Увидеть, что человек пишет на ходу записку, можно с километра при помощи обыкновенного бинокля. Но Кондратьев пошел на этот ляп сознательно, так как не видел другой возможности предупредить меня. Я бы сказал, это был шаг отчаянья. Это случилось почти спонтанно. Кондратьев внезапно заподозрил слежку за собой. Почему? Ему показался подозрительным бегущий по аллее старик?
Мила не звонила. ФСБ невольно выдрессировало и ее через меня. Когда я уходил на встречу с Кондратьевым, она не смела звонить мне и терпеливо ждала моего возвращения столько, сколько было нужно. Впрочем, я никогда подолгу не общался с полковником. А в этот раз наша встреча заняла всего-то минут пять-семь.
– Извините!
Молодой человек с раскрытым зонтиком задел меня плечом, извинился и тотчас затерялся в людской толпе. Я брел по бульвару, где в этот час всегда было многолюдно. Я стоял посреди тротуара, пытаясь высмотреть того, кто меня толкнул. Ну, Андрюха, ты уж совсем стал подозрительным, хуже Кондратьева!
Меня толкали, я всем мешал. Нормальная жизнь, нормальные люди. Я с перепугу начал строить мрачные догадки. Да кто его знает, какие интриги плетутся в недрах Конторы! Может быть, теперь прослушивается каждый эфэсбэшник, когда он общается с партнерами. Так сказать, для контроля и для предупреждения развития коррупции в светлых рядах самой могущественной организации. И Кондратьев, зная об этом, вроде как убеждал меня согласиться, а на самом деле искренне советовал отказаться от этой авантюры. Скорее всего, операция слишком опасна, а сумму обещанного гонорара следует разделить на десять… Значит, никуда я не лечу, а иду завтра на юбилей Сереги!
Теперь я осознанно осмотрелся вокруг, чтобы точнее сориентироваться – куда это я забрел? Я стоял посреди бульвара, одним торцом примыкающего к парку. Недалеко пестрел всеми цветами радуги стеклянный киоск, торгующий цветами. Что ж, заодно можно купить букет, чтобы завтра с утра не париться. Я только сделал шаг в сторону киоска, как вдруг увидел Кондратьева. Полковник двигался по тротуару метрах в пятидесяти от меня; шел он медленно, сунув обе руки в карманы плаща и не обходя луж. На бульваре парковка автомобилей была запрещена, и Кондратьев, скорее всего, шел на перпендикулярную улицу, к супермаркету, рядом с которым наверняка была припаркована его машина. Он вряд ли знал, что я здесь, а я, конечно, вовсе не собирался снова попадаться ему на глаза.
Я сбавил темп, чтобы не приближаться к полковнику, и с деланной озабоченностью смотрел в сторону, где группа подростков прыгала по ступеням на скейтбордах.
И вдруг я услышал пронзительный свист тормозов, и почти одновременно – два выразительных щелчка.
Эти щелчки я безошибочно отличу от тысячи других похожих звуков: от удара хлыста, от падения кирпича, от пощечины, от автомобильных столкновений. Это были выстрелы из пистолета – резкие, чуть протяжные, чуть оглушающие, с коротким дворовым эхом.
Обернувшись, я увидел, что Кондратьев лежит на мокром тротуаре лицом вниз. Одну руку он откинул в сторону, вторую придавил телом, будто в последнее мгновение пытался сунуть ее в наплечную кобуру и вытащить пистолет.
Темная машина выехала на перекресток и, не снижая темпа, свернула на боковую дорогу.
Где-то недалеко истошно закричала женщина. Подростки замерли, глядя на лежащего в луже человека. Кто-то громко, быстро говорил и махал рукой в ту сторону, где скрылась темная машина.
Я почувствовал, мои ноги охватило жаром. Так всегда у меня бывает перед боем.
Рядом с Кондратьевым стали скапливаться люди. Пожилой мужчина присел перед ним на корточки. Движения его были точные и осмысленные. Наверное, врач. Перевернул тело на спину. Прижал ладонь к сонной артерии. Приподнял веко. Выпрямился, покачал головой.
Я сжимал кулаки. Тупые рефлексы вынуждали меня готовить к бою оружие, но оружия не было. Благоразумие удерживало от того, чтобы кинуться к лежащему на асфальте полковнику. Я медленно пятился, скрываясь за спинами людей, которых повсюду становилось все больше.
По закону жанра и просто по моему богатому опыту, следующий выстрел должен быть адресован мне.
Тихо пятясь, я дошел до козырька поликлиники, затем повернулся и побежал по дворам. Перепрыгивая через скамейки и раскрашенные ядовитыми красками снаряды, пересек детскую площадку. Ломая цветы и кусты, прорвался сквозь заросли палисадника. Оттуда нырнул в арку, с чугунной решеткой и калиткой. Еще один двор… Пешеходная зона… Еще детская площадка… Я бежал по маршруту, который был непреодолим для автомобилей. Быстрей, быстрей! Меня гнал вперед выработанный за долгие годы военной жизни рефлекс. Я не раздумывал над тем, что произошло, за что стреляли в полковника, и кому было нужно его убить. Для размышлений на эту тему еще будет время. А сейчас я должен отреагировать на убийство полковника и на возможную угрозу в свой адрес.
Три километра за шесть минут – мой стандартный результат. Я постучал в окно дежурного трехэтажного гаражного комплекса.
– Привет! Пропуск и ключи забыл дома. Дай мне дубликат из сейфа.
– Привет. Андрей. Нет проблем!
Охранник протянул мне ключи от машины. Я взбежал на третий этаж, сел за руль своей «БМВ-Туринг» и, заводя мотор, позвонил Миле.
– Собирайся, вечером едем в Гагарин, – сказал я.
Пауза. Мила услышала кодовое слово. Я чувствовал, как учащается ее сердечный ритм.
– Ясно, – произнесла она после небольшой паузы. – Хорошо.
Это было кодовое слово – «Гагарин». Такой город на самом деле есть в Московской области, но ни я, ни Мила никогда в нем не были. Просто мы с ней давно договорились: если я говорю ей, что вечером (завтра утром, послезавтра вечером – это все варианты) мы едем в Гагарин, то ей следует немедленно, бросив все дела, хватать тревожную сумку с запасными трусиками и набором косметики-гигиены, оба паспорта, банковские карточки и деньги, и ждать меня у дверей, чтобы выехать к черту на Кулички. Почему именно Гагарин стал кодовым словом? Да потому что ассоциации с этим светлым именем самые скоростные, стремительные и предполагающие улет на очень большое расстояние.
Мне не пришлось даже подъезжать к подъезду – моя милая Мила перехватила меня на остановке автобуса. Запрыгнула в машину и раздраженно швырнула сумку с вещами в обширный багажник.
Мы ехали молча, пока я не вырулил на Симферопольское шоссе и не разогнался до двухсот кэмэ.
– Кондратьева убили, – сказал я.
– Странно, что и не тебя вместе с ним! – ответила Мила.
Кодовое слово «Гагарин» – это вестник крупного ЧП в нашей семье. Я произношу его редко, но когда это случается, Мила настраивается на самый худший вариант развития событий. По тому, как быстро она отреагировала на сообщение о полковнике, можно было сделать вывод, что собирая тревожную сумку, Мила предположила несколько причин столь стремительного бегства из квартиры. Наверняка, убийство Кондратьева она считала самой вероятной причиной. Она у меня умница. Помню, она как-то сказала: «Боюсь я этого Кондратьева. Точнее, боюсь за тебя, когда ты с ним рядом. Он мне напоминает тротиловую шашку».
Через час мы были на даче. Дача – это крепкий пятистенок из шлифованного финского бруса с итальянской черепицей, небольшими квадратными окнами, похожими на бойницы, окруженный мощным сосновым частоколом высотой три метра. Дом стоит на самом отшибе дачного поселка, и соседи между собой называют наше гнездышко не иначе как «Бастион». Записаны участок и дом на девичью фамилию тещи – Бахметьева, меня вокруг все знают как «Коля Бахметьев», директора частного предприятия по сборке немецких насосов. В общем, жутчайшая конспирация. Это все Кондратьев меня научил. Эх, Валера, Валера.
Мы сидели в нижней гостиной, я разжигал камин, чтобы просушить и прогреть комнату. Громко тикали ходики с кукушкой. Сосновые щепки трещали, пламя накручивалось на березовые чушки.
Хорошо я спрятался. Хрен меня кто достанет! В сейфе на втором этаже хранится целый арсенал оружия. Молодец, храбрый майор Власов по прозвищу Командир. Эка быстро дал стрекача! Только пятки сверкали. Прыг-скок – и нет меня! А найдите теперь… Если, конечно, я на хер кому-нибудь нужен, чтобы меня искать…
Стыд сжигал меня изнутри, сердце и легкие разогревались, как овальная стена камина.
По напряжению Милы я понимал, что она ждет продолжения, что ничего еще не кончилось, а только все начинается. Она слишком хорошо меня знала. Она видела, что я унижен и раздавлен своим поступком, но даже не пыталась меня успокоить и переубедить. Она просто ждала, когда я уйду.
Конечно, можно было бы пересидеть здесь несколько дней, а потом связаться с замом главкома ВДВ, который до недавнего времени распоряжался мною и моими бойцами. Рассказать, что произошло, показать ему записку Кондратьева, объяснить свои действия заботой о безопасности семьи. По большому счету, я не совершил ничего противозаконного. Год назад зам главкома сказал мне: «Отныне ты подчиняешься лично Кондратьеву. Любой его приказ – это для тебя закон». Последняя записка Кондратьева со словами «Ни в коем случае не вылетай» – это тоже приказ. И я его выполнил.
Но почему же так тяжко на душе? Почему я не просто страдаю от потери командира и хорошего товарища, а мучаюсь угрызениями совести?
А потому что я струсил. А ведь мог бы кинуться к первой попавшейся машине, выкинуть оттуда водителя и погнаться за черной иномаркой? Мог бы. Конечно, дров бы я наломал немеряно. Потом бы все ФСБ плевалось, как уже не раз бывало, а директор, сжав зубы, нервно бы цедил: «Когда вы угомоните этого выскочку Власова? Он своей стрельбой (дракой) опять спутал нам все карты и ликвидировал важных свидетелей». Но зато совесть моя была бы чиста.
Совесть. А что такое совесть? А это я и есть – майора спецназа ВДВ Андрей Власов по прозвищу Командир.
Я – единственный, кто видел последние минуты жизни Кондратьева, кто обладает важнейшей информацией. У меня не было никакого сомнения: его убили за то, что он неправильно повел себя со мной. Он не должен был отговаривать меня от полета в Афган. Он должен был сказать мне совсем другие слова. Не смог. Попытался спасти мне жизнь, но расплатился за это своей.
Я протянул Миле ключи от сейфа с оружием. Она все поняла. Встала, прижалась лбом к моей груди.
– Где будешь рыбачить на этот раз?
– В Афгане. Там сейчас клёв – ой-ой-ой!
Не знаю, всегда ли справедливы те награды, которыми обвешана моя грудь. Но знаю точно, что нет на свете таких орденов и медалей, которыми можно было бы оценить великое терпение и мужество моей любимой. Она терпела эти пытки уже пять лет. До этого я был женат трижды. Первая сбежала от меня через месяц, вторая – через неделю. Третья жена продержалась полгода, из которых три месяца я провел в госпитале, и месяц – в Анапе на реабилитации.
Словно читая мои мысли и опровергая мои сомнения, Мила произнесла:
– Я очень счастлива с тобой…
– С чего это вдруг? – искренне удивился я.
– Ты всякий раз даришь мне мечту… Мечту увидеть тебя живым и здоровым. С этой мечтой я буду засыпать и вставать. Буду встречать солнце и провожать его. Буду считать дни и представлять, как открывается дверь, и ты входишь в комнату, залитую солнечным светом…
Она у меня немного поэт. И хотя в поэзии я почти что не рублю, от слов жены у меня мучительно заныло в горле и на глаза навернулись слезы.