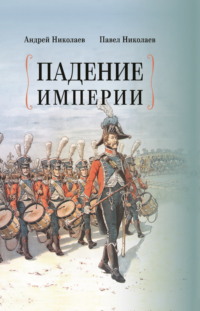Kitabı oxu: «Падение империи»

© Николаев А.П., Николаев П.Ф., 2025
© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2025
Книга первая
От Немана до Парижа
Считается, что империя Наполеона развалилась в результате освободительной войны 1813–1814 годов. Её вела Россия в союзе с Австрией и Пруссией. Зарубежный поход русской армии был, по существу, продолжением Отечественной войны, итоги которой завоеватель подвёл так:
– От великого до смешного только шаг.
Академик В.Е. Тарле удивлялся:
– Что он нашёл смешного в гибели сотен тысяч солдат и офицеров? В провале своих честолюбивых планов покорения России?
В том-то и дело, что не было у великого завоевателя таких планов. Россия была нужна Наполеону как надёжный и достаточно сильный союзник в борьбе против Англии. Она была нужна как транзитный пункт на пути в Индию. Выбив эту жемчужину из британской короны, Наполеон рассчитывал поставить Англию на колени. Поход в Россию был для завоевателя, выражаясь фигурально, местом для перекуса при дороге, ведущей в Дели. И это было достаточно хорошо известно.
Перед вторжением в Россию, беседуя с генералом Нарбоном, Наполеон обронил: «Хотите знать, куда мы идём? Мы покончим с Европой, затем по-разбойничьи набросимся на менее храбрых разбойников, чем мы, и завладеем Индией, хозяевами которой они стали.
Ещё в Акре я сказал себе, что путь Александра до Ганга был не более длительным. Ныне я должен, двигаясь от края Европы, захватить Индию с тыла, дабы поразить в самое сердце Англию.
Представьте себе, что Москва взята, царь умирает или же убит своими в результате дворцового заговора. Тогда можно будет основать новый, зависимый от нас трон, и скажите мне, не сможет ли французская армия, усиленная вспомогательными отрядами из Тифлиса, дойти до Ганга, чтобы там одним своим появлением разрушить всю пирамиду английского меркантилизма! Одним ударом Франция сломала бы независимость Альбиона и добилась свободы мореплавания!
Я ещё не готов к столь дальнему театру военных действий! Мне нужно ещё три года!»
То есть Индия была в поле зрения Наполеона с 1798 года, но в 1812-м он ещё считал себя не готовым к этому: нужен был серьёзный союзник, и с Россией он полагал возможным договориться после первого же генерального сражения.
В лице и в жизни арлекин
Наполеон или я, он или я»
В ноябре и декабре 1812 года перед армией и высшим кругом российского общества вплотную встал вопрос: продолжать военные действия или заключить мир с Францией, если Наполеон пойдёт на это?
За мирное разрешение конфликта были мать и жена Александра I, его брат Константин Павлович, министр иностранных дел Н.П. Румянцев, государственный секретарь А.С. Шишков, главнокомандующий Москвы граф Ф.В. Ростопчин и будущий «временщик» А.А. Аракчеев. Этот круг указывал на то, что центральная Россия разорена, страна понесла большие людские и материальные потери, и вообще, нам нет никакого смысла вмешиваться в дела Запада, пусть сами немцы и прочие разбираются.
Между тем Кутузов придерживался противоположного взгляда, считая, что война должна завершиться там же, где и началась, – на Немане. Помимо убеждения, что дальнейшее продолжение войны может быть выгодно только англичанам и немцам, к прекращению боевых действий его вынуждало катастрофическое сокращение численности армии: из 100 тысяч солдат, имевшихся у него под рукой в Тарутино, в Вильну вступили только 27 тысяч человек. Всё это вынудило Михаила Илларионовича просить Александра дать войскам отдых, иначе, предупреждал он, расстройство войск дойдёт до такой степени, что придётся создавать новую армию, и писал царю:
«Главную армию располагаю на время в тёплых квартирах, дабы иметь время присоединить к ней выздоровевших и отставших людей. Между тем признаться должно, что, ежели бы не приостановясь, а продолжить действия ещё верст на полтораста, тогда бы, может быть, расстройка дошла до такой степени, что должны бы, так сказать, снова составлять армию».
Ответом царя на эту просьбу было требование новых жертв: «Поверхность наша над неприятелем расстроенным и утомлённым, приобретённая помощью Всевышнего и искусными распоряжениями вашими, и вообще положение дел требуют всех усилий к достижению главной цели, несмотря ни на какие препятствия. Никогда не было столь дорого время для нас, как при нынешних обстоятельствах. И потому ничто не позволяет останавливаться войскам нашим».
18 января 1812 года указом Сената было поставлено призвать под знамёна 100 тысяч человек из списков этого года. Кроме того, повелевалось немедленно созвать конскриптов 1812 года, чтобы 150 тысяч подростков этого призыва могли в течение года окрепнуть в лагерной жизни.
Да, для царя было самоочевидно, что войну с Наполеоном необходимо продолжить. Это совершенно ясно из его беседы с фрейлиной Стурдзой, состоявшейся перед его отъездом из Петербурга в армию.
– Нынешнее время напоминает мне всё, что я слышал от этого необыкновенного человека в Тильзите. Тогда мы подолгу беседовали, так как он любил выказывать мне своё превосходство, говорил с любезностью и расточал передо мною блёстки своего воображения. Война, сказал он мне однажды, вовсе не такое трудное искусство, как воображают, и, откровенно говоря, иной раз трудно выяснить, каким образом удалось выиграть то или другое сражение. В действительности оказывается, что побеждён тот, кто последним устрашился, и в этом заключается вся тайна. Нет полководца, который бы не опасался за исход сражения; всё дело в том, чтобы скрывать этот страх как можно дольше. Лишь этим средством можно настращать противника, а затем дальнейший успех уже не подлежит сомнению. Я выслушивал, – продолжал государь, – с глубоким вниманием всё, что ему угодно было сообщить мне по этому поводу, твёрдо решившись воспользоваться тем при случае, и в самом деле, я надеюсь, что с тех пор мною приобретена некоторая опытность для решения вопроса, что нам остаётся делать.
– Неужели, государь, – заметила фрейлина, – мы не обеспечены навсегда от подобного нашествия? Разве враг осмелится ещё раз перейти наши границы?
– Это возможно, – сказал царь, – но если хотеть мира прочного и надёжного, то надо подписать его в Париже. В этом я глубоко убеждён.
Ну почему укрощать Наполеона должны русские? Почему Россия, пережившая нашествие почти всех народов Европы, должна ещё и благодетельствовать им? Словом, российская элита была против продолжения войны, но Александр, которого считали слабым царём, полностью зависимым от своего окружения, пошёл наперекор ему Почему? Откуда такая решимость у правителя, который ещё полгода назад собирался отступать до Камчатки?
Ответ на этот вопрос, казалось бы, лежит на поверхности. Наполеон не просто потерпел поражение в России. Он потерял в ней 600 тысяч человек – утрата для начала XIX столетия немыслимая. По тому времени – это почти десяток полнокровных армий. Фактически враг был обезоружен, и не воспользоваться этим было просто глупо.
Что касается людских резервов России, то, по мнению царя, они были неограниченные. К тому же, полагал он, сегодняшние невольные союзники Наполеона (Австрия, Пруссия и германские государства) не замедлят переметнуться на сторону сильнейшего, то есть России. Значит, впереди несомненный успех и слава освободителей Европы. Всё это верно, но всё же, на наш взгляд, определяющую роль в решении Александра продолжить военные действия сыграла его личная ненависть к Наполеону, его эгоизм, его самовозвеличение.
Александр I мечтал о славе полководца и не мог простить военные успехи своему талантливому сопернику, тяжело перенёс позор Аустерлица. Но были и другие неприятные моменты в контактах царя и Наполеона, скрытые от широких масс, но хорошо известные в придворных кругах. Так, 21 марта 1804 года по приказу Наполеона был расстрелян герцог Энгиенский, выкраденный французской жандармерией с чужой территории.
Александр I заявил по этому поводу протест. Ответ был следующий: герцог Энгиенский арестован за участие в заговоре против Наполеона. А далее приводилось такое обоснование действий французских властей: если бы император Александр узнал, что убийца его отца находится хоть и на чужой территории, но вполне досягаемой, разве он воспротивился бы возможности отомстить ему? Это была оплеуха российскому самодержцу, лживому и подлому. Неслучайно А.С. Пушкин писал о его скульптурном портрете:
Напрасно видишь тут ошибку:
Рука искусства навела
На мрамор этих уст улыбку,
А гнев на хладный лоск чела.
Недаром лик сей двуязычен.
Таков и был сей властелин,
К противочувствиям привычен,
В лице и в жизни арлекин.
Эпиграмма «К бюсту завоевателя» при жизни А.С. Пушкина не печаталась, что, конечно, вполне объяснимо. Но нота Наполеона была документом официальным и быстро получила известность при всех дворах Европы.
Академик Е.В. Тарле писал по этому поводу: «Более ясно назвать публично Александра Павловича отцеубийцей было невозможно. Вся Европа знала, что Павла заговорщики задушили после сговора с Александром и что юный царь не посмел после своего воцарения и пальцем тронуть их: ни Палена, ни Беннигсена, ни Зубова, ни Талызина и вообще никого из них, хотя они преспокойно сидели не на „чужой территории“, а в городе Петербурге и бывали в Зимнем дворце».
Беспринципность и аморальность Александра коробили его блестящего соперника, человека, тоже далеко не идеального. В Тильзите императоры обменивались высшими орденами своих держав. Царь опрометчиво попросил орден Почётного легиона для генерала Л.Л. Беннигсена, не называя причины, Наполеон категорически отказал. Александр понял свой промах и промолчал. Это была ещё одна пощёчина, нанесённая самодержцу. Наполеон же позднее говорил:
– Было противно, что сын просит награду для убийцы своего отца.
То, что являлось тайной за семью печатями в России, на Западе знали хорошо. Интересна подробность убийства Павла I, о которой тогда же узнал Наполеон: генерал Беннигсен был тем, кто нанёс последний удар; он наступил на труп.
Конечно, прославленный полководец и дворцовый шаркун не могли ужиться в одном пространстве.
Неслучайно в разговоре с флигель-адъютантом А.Ф. Мишо у Александра как-то вырвалось:
– Наполеон или я, он или я, но вместе мы существовать не можем!
Страх перед талантливым соперником и ненависть к нему помогли царю не спасовать и до конца выдержать борьбу с завоевателем.
К тому же Мишо Александр говорил, указывая на свою грудь:
– Я отращу себе бороду, вот до сих пор, и буду есть картофель с последним из моих крестьян в глубине Сибири скорее, чем подпишу стыд моего Отечества.
И при таком настрое российского самодержца Наполеон продолжал бомбардировать его мирными предложениями. Всё было тщетно: 2 января 1813 года первые отряды армии П.В. Чичагова вступили в пределы Пруссии – Заграничный поход русской армии начался. В этот день М.И. Кутузов издал следующий приказ:
«Храбрые и победоносные войска! Наконец вы на границах империи! Каждый из вас есть спаситель отечества. Россия приветствует вас сим именем! Стремительное преследование неприятеля и необыкновенные труды, подъятые вами в сем быстром походе, изумляют все народы и приносят вам бессмертную славу. Не было ещё примера столь блистательных побед. Два месяца сряду рука ваша каждодневно карала злодеев. Путь их усеян трупами. Токмо в бегстве своём сам вождь их не искал иного, кроме личного спасения. Смерть носилась в рядах неприятельских. Тысячи падали разом и погибали. Тако всемогущий Бог изъявлял на них гнев свой и поборал своему народу.
Не останавливаясь среди геройских подвигов, мы идём теперь далее. Прейдём границы и потщимся довершить поражение неприятеля на собственных полях его. Но не последуем примеру врагов наших в их буйстве и неистовствах, унижающих солдат. Они жгли дома наши, ругались святынею, и вы видели, как десница Всевышнего праведно отмстила их нечестие.
Будем великодушны, положим различие между врагом и мирным жителем. Справедливость и кротость в обхождении с обывателями покажет им ясно, что не порабощения их и не суетной славы мы желаем, но ищем освободить от бедствия и угнетений даже самые те народы, которые вооружались против России».
4 января в Вильно прибыл Александр I. По свидетельству графини Шуазёль-Гуфье (Тизенгаузен), чтобы устранить от чувствительного государя вид бедствий, нанесённых войной, для проезда к городу подвели новую дорогу Весьма подробно графиня запечатлела внешность царя:
«В 1812 году Александру было тридцать пять лет. Несмотря на тонкие и правильные черты и нежный цвет лица, в нём прежде всего поражала не красота его, а выражение бесконечной доброты. Выражение это привлекало к нему сердца всех окружающих, сразу внушало полное к нему доверие. Он был очень хорошо сложён, но стан его, наклонённый немного вперёд на манер древних статуй начинал уже полнеть. Он был высокого роста, осанку имел благородную. Чисто голубые глаза его, несмотря на близорукость, смотрели быстро; в них просвечивал ум и какое-то неподражаемое выражение кроткости и мягкости. Глаза эти точно улыбались. Прямой нос был прекрасно очерчен, рот мал и приятен, весь профиль и оклад лица напоминали красоту его августейшей матери. Даже недостаток волос на лбу не портил этого лица, а придавал ему выражение открытое и весёлое. Золотисто-белокурые свои волосы он тщательно причёсывал на манер античный.
В его голосе и манере было бесчисленное множество оттенков; в разговоре со значительными особами Александр I принимал величественный вид, хотя был с ними весьма любезен; с приближёнными обходился весьма ласково; доброта его доходила иногда до фамильярности. С пожилыми дамами он был почтителен, с молодыми – грациозно любезен; тонкая улыбка мелькала на губах, глаза его принимали участие в разговоре.

Александр I
Слушая кого-нибудь, он подставлял слегка правое ухо, потому что, будучи ещё юношей, был оглушён залпом артиллерии и плохо слышал на левое ухо.
Ни одному живописцу не удалось передать вполне выражение лица государя. Правда, он и не любил снимать с себя портретов. Один только Жерар успел выпросить у него несколько сеансов; но и тут, несмотря на всё своё мастерство, не сумел передать характер лица государя. Он ему придал вид завоевателя, который вовсе не гармонировал с добрым выражением физиономии.
Скульптуре более посчастливилось, и я увидела бюст Александра, превосходно сделанный одним берлинским художником. Говорят, что Торвальдсену тоже удалось верно передать черты и выражения его лица».
К 6 января в России не оставалось уже ни одного вооружённого неприятеля, и в первый день Рождества Христова народу был объявлен манифест об окончании Отечественной войны.
«С сердечной радостью и горячею к Богу благодарностью, – гласил манифест, – объявляем Мы любезным Нашим верноподданным, что событие превзошло даже и самую надежду Нашу и что объявленное Нами, при открытии войны сей, выше меры исполнилось: уже нет ни единого врага на лице земли Нашей; или лучше сказать, все они здесь остались, но как? Мёртвые, раненые и пленные. Сам гордый повелитель и предводитель их едва с главнейшими чиновниками своими отселе ускакать мог, растеряв всё своё воинство и все привезённые с собою пушки, которые более тысячи, не считая зарытых и потопленных им, отбиты у него и находятся в руках Наших.
Зрелище погибели войск его невероятно! Едва можно собственным глазам своим поверить.
Не отнимая достойной славы ни у Главнокомандующего над войсками Нашими знаменитого полководца, принёсшего бессмертные Отечеству заслуги, ни у других искусных и мужественных вождей и военачальников, ознаменовавших себя рвением и усердием, ни вообще у сего храброго Нашего воинства, можем сказать, что содеянное ими есть превыше сил человеческих.
Итак, да познаем в великом деле сем Промысел Божий. Повергнемся пред святым Его Престолом и, видя ясно руку Его, покаравшую гордость и злочестие, вместо тщеславия и кичения о победах наших, научимся из сего великого и страшного примера быть кроткими и смиренными законов и воли Его исполнителями, не похожими на сих отпадших от веры осквернителей храмов Божиих, врагов наших, которых тела в несметном количестве валяются пищею псам и воронам! Велик Господь наш Бог в милостях и во гневе своём! Пюйдём благостью дел и чистотою чувств и помышлений наших, единственным ведущим к нему путём, в храм святости Его и там, увенчанные от руки Его славою, возблагодарим за излитые на нас щедроты да припадём к Нему с тёплыми молитвами, да продлит милость свою над нами и прекратит брани и битвы, ниспошлёт к нам побед победу, желанный мир и тишину».
Итак, из царского манифеста следовало, что победа в Отечественной войне была одержана благодаря промыслу Господню. Эта мысль подчёркивалась и наградными медалями, на которых было выбито: «Не нам, не нам, а имени Твоему», то есть Богу.
Александр в самом начале войны был вынужден оставить армию, в боевых действиях не участвовал. Но ему очень не хотелось отдавать должное за победу над Наполеоном тем, кто действительно выиграл войну: командному составу армии, рядовым солдатам, народу.
И он нашёл удовлетворявшее его объяснение свершившемуся – Божий промысел1.
– До 6 ноября я был властителем над Европой, – убеждал Наполеон Прадта, добравшись 10 декабря до Варшавы. Но пасовать император не собирался и заявил своему представителю в Польше: – Вы, кажется, обо мне беспокоились? Вздор, пустяки, у меня ещё 120 тысяч под ружьём. Скоро я опять приведу сюда 300 тысяч, а теперь мне надобно быть на троне, а не на коне. Я везде бил русских. Все беды наши от суровости климата их.
В Варшаве Наполеон не задержался: спешил в Париж. Немецкий историк Людвиг писал о размышлениях императора в пути: «Днём и ночью сани несут на запад. Днём и ночью в его мозгу теснятся вопросы, приказы, проекты. Действительно ли Англия непобедима? Теперь её торговле с балтийскими государствами, а также с Кадиксом и Левантом нет препон. Индию придётся пока отложить, но больше никаких шагов, никаких планов!
Будет ли Рейнский союз подчиняться, как всегда? Как объяснить провал кампании, поскольку долго отрицать его будет невозможно? Поставит ли Франция ещё 120 тысяч новобранцев? Придётся ли заранее мобилизовать резервистов следующего призыва? С папой нужно будет быстро помириться, так же как и с испанцами, – тыл должен быть обеспечен».
В Париже побеждённого господина встречают сорок согнувшихся в поклоне спин, и вид этих фраков, расшитых его прозрением, возвращает ему веру в глупость и слабоволие людей, желающих одного – подчиняться чужой воле. Император выступает перед своими склонёнными сановниками словно Цезарь и грозно валит всё на бога погоды, в то время как ещё позавчера сам мнил себя богом погоды для Европы.
«Армия понесла большие потери лишь в результате рано начавшийся зимы… Оказалось, что король Неаполя не способен командовать войском, после моего отъезда он совсем потерял голову… Несмотря на это, у меня ещё есть достаточно батальонов, причём я не отзову ни одного человека из Испании».

Наполеон
11 декабря Наполеон принял депутацию Сената, которой прямо заявил, что при существующих условиях все малодушные должностные лица должны быть уволены в отставку, так как присутствие их на службе только подрывает авторитет закона.
Отвечая на адрес Государственного совета, он беспощадно громил всех приписывавших народу державные права, которыми народные массы не в состоянии пользоваться на самом деле. Вместе с тем император высказал строжайшее порицание всем мечтавшим основать авторитет власти не на принципе справедливости естественной природы вещей.
Готовясь остановить армию, Наполеон говорил:
– В Париж я упаду как бомба. В Париже и в иной Франции ни о чём не будут больше говорить, как только о моём возвращении, и забудут всё, что случилось.
Конечно, трудно поверить, что сотни тысяч отцов и матерей могли забыть гибель своих сынов, но в целом Париж позитивно воспринял возвращение императора из пугающей французов загадочной и страшной России. Что касается прессы, то она изощрялась в дифирамбах великому императору. Любецкий писал по этому поводу:
«В Париже между журналистами происходило междоусобие, образовались два враждебных лагеря: одни превозносили Наполеона, называли его „необыкновенный человек“ и написали в честь него акростих „Бонапарте“. В первом стихе сравнивали его с Брутом, во втором с Октавием; в третьем с Нумою, основавшим религию на политике; в четвёртом с Аннибалом, перешедшим через Альпы; в пятом с Периклом, в шестом с Александром Македонским, завоевавшим весь свет; в седьмом с Ромулом, основавшим Рим; в восьмом с Питом, прославившим царство своё милосердием.
Девятая строчка содержала в себе слова: „Это всё соединено в одном герое“. Льстецы называли его L’image ole dieu vivant – образ живого Бога. В катехизисе, изданном по повелению Наполеона, говорилось, что „не любящие Наполеона подвергаются вечному осуждению“.
Тогда же была составлена эпиграмма: „Возьми кровь Робеспьера, кости Тиберия, череп Нерона – и выйдет Наполеон“.
По свидетельству А. К. Ленкура, присутствие Наполеона в Париже успокаивало всех, вызывало изумительную активность.
Всё организовывалось, всё создавалось как бы по волшебству. Миллионы собственной казны императора и особого фонда были извлечены из погребов Тюильри и взаимообразно предоставлены государственному казначейству». Успокоив встревоженное население и сановников, Наполеон направил всю свою энергию на создание новой армии. 11 января сенат предоставил в распоряжение императора 350 тысяч человек, а когда Пруссия объявила войну Франции – ещё 180 тысяч.
С союзниками (Австрия, германские государства) было плохо: они не хотели больше давать сюзерену свои войска. Баварский король на очередное требование солдат и офицеров разразился гневной тирадой:
– Я должен отправить ещё людей этому ненасытному человеку, который приносит их в жертву своему честолюбию! Нет, я больше никогда не буду посылать ему подкрепления!»
Австрия всё увереннее заявляла о своём желании освободиться от тягостного ей союза с Францией (точнее, подчинения ей) и сыграть роль посредника в предстоящем мирном урегулировании между Россией и Францией. Император Франц не скрывал своей радости по поводу поражения Наполеона:
– Пришло время, когда я смогу показать императору французов, что я такое!
Но открытое неудовольствие австрийского монарха гегемонией Франции ещё прикрывалось внешним раболепием. «Депутации стали прибывать из всех концов страны, но также из ближайших городов империи: из Рима и Милана, Гамбурга и Амстердама.
Высказывавшиеся ими уверения в верноподданнической преданности сдерживались единственно рамками, возможными для человеческого языка» (В.М. Слоон).
Конечно, Наполеон понимал, что в отношениях с союзниками наступил кризис и удержать их в покорности будет трудно. Ещё на заснеженных полях России он изрёк:
– До 6 ноября я был властителем над Европою, им я быть перестал.