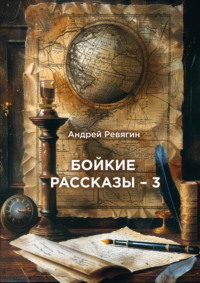Kitabı oxu: «Бойкие рассказы – 3»

© А. Ревягин, текст, 2025
© Издательство «Четыре», 2025

Ревягин Андрей Иванович
В 1973 году окончил Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова (УПИ, в настоящее время – УрФУ им. Б. Н. Ельцина).
Впервые опубликовался в журнале «Юность» (1980), затем в «Литературной России», «Студенческом меридиане» и различных СМИ.
Является автором книг «Разводим поллитру на глазок» (2018), «Стихи о прекрасной Анжеле» (2019), «Бойкие рассказы» (2024), «Бойкие рассказы – 2» (2024). Печатался в сборниках «Зимняя сказка» (2018), «Сокровенные души» (2020), «Миры внутри нас» (2020), «Самому себе не лгите» (2021), «За стеной сна» (2021), «Человек слова» (2021), «100 писателей – 2021», «Писатель года – 2021», «Национальная книга» (2021), «Неформат» (2022), «Назад в СССР» (2022), «День победы» (2022), «Антология русской прозы» (2022), Dovlatoff (2022), «Современные записки» (2022), «Наследие» (2022), «Родина» (2022), «Заветное желание» (№ 2, 2023)» и других.
Награждён медалями «Александр Пушкин: 225 лет», Михаил Лермонтов: 210 лет», «Фёдор Достоевский: 200 лет», «Максим Горький: 155 лет», «Марина Цветаева: 130 лет», «Святая Русь», «В ознаменование 100-летия образования СССР», «Просветители Кирилл и Мефодий», «За сохранение русских литературных традиций» им. Великой княгини Ольги, орденом «Литературное единство», звездой «Наследие» ІІ степени (2023), звездой «Наследие» ІІІ степени (2022), почётными знаками «Золотое перо», «Литературный Феникс», «Искусство слова».
Монолог доцента
(почти по М. Жванецкому)
У нас в институте есть один студент.
Как-то я подхожу к нему и спрашиваю:
– Как вас зовут?
Он говорит:
– Я вам с удовольствием отвечу, но не могли бы вы сами мне представиться, поскольку я первокурсник и не всех ещё знаю? А я – Тадеуш.
Я ему говорю (не расстроился, конечно, всерьёз, но всё же):
– Ну что вы, молодой человек! Я спросил первый, и сначала вы мне должны сказать, как вас зовут, а таде уж и я представлюсь!
Он глазами похлопал и опять слово в слово повторяет то, что только что мне сказал. И снова бодро так добавляет:
– А я – Тадеуш!
Я, естественно, возражаю (как такое вообще возможно с его стороны?):
– Молодой человек! Я ведь всё-таки постарше вас. И доцент! Надо ведь хоть какое-то приличие соблюдать… Скажите, пожалуйста, как зовут вас, а таде уж и я назову себя.
Он – опять!.. Да так это твёрдо говорит, с гонором:
– Я – Тадеуш!
Я уж тут рассердился. Надо же, какая наглость! Студент, к тому же первокурсник, – и ставит условия доценту! Вот доцент, видите ли, должен сначала представиться ему, а он – цаца какая! – таде уж…
Я снова его спрашиваю: «Как вас зовут?!» – и снова терпеливо ему объясняю, что сначала по всем канонам этики он должен назвать своё имя, а таде уж я как старший – и по возрасту, и по званию – ему назовусь. Он мне знай своё перечит: «Я – Тадеуш!»
Сорок пять минут (я засекал!) я потратил, убеждая его, что он не прав, что идти на принцип с его стороны как-то неуместно, мягко говоря…
А потом пришлось вызывать скорую.
– Я – не Тадеуш! – осознал он, будучи уже на носилках.
Но имени своего этот упрямец так и не назвал! Хотя я шёл за носилками до самой машины.
Это – как я раньше по телевизору видел… Да вы, наверное, помните?
Там, правда, доцент первый представился. А потом уже у студента спрашивает:
– А вас как зовут?
А тот студент смотрит на доцента и отвечает:
– Авас…
Пришлось тому доценту повторять ему своё имя и отчество. И довольно долго повторять и спрашивать опять у студента: «А вас как зовут?» А тот снова сам доцента спрашивает (прямо уставился!): «Авас…»
Студенты потом его так и прозвали – Авас.
Вот и этого назовут Тадеуш, когда из больницы выпишется, – будет таде знать!
Русский ниндзя
(рассказ «зелёного берета»)
Острое профессиональное чутьё подсказывало мне: этот чёртов парнище – не из мелкой рыбёшки!.. И поэтому его предельно важно было обезвредить.
Да, знали мы – и на весь окей знали! – о лютом коварстве западноевропейских спецслужб. Об изворотливости и поистине лисьей хитрости спецслужб Востока. О взрывном темпераменте представителей спецслужб южного и юго-восточного регионов… Но этот «бесподобно вёрткий бэби» практически был просто сущим дьяволом во плоти!
Конкретную принадлежность его к какой-либо из разведок установить, к сожалению, не удалось. Но, похоже, это был русский! Больше некому…
Этот «подвижный малыш», видно, не подрассчитал. И, выбрасываясь с парашютом из самолёта без опознавательных знаков где-то далеко от нашего района, зацепился стропами за хвостовое оперение следующего в нижнем коридоре «Конкорда», совершающего чартерный рейс Балабама-1 – Титикака-2 (до предела напичканного «челноками»), – и его потащило…
Но при заходе борта на посадку на наш промежуточный аэродром этот ловкий парень сумел-таки перерезать стропы и аккуратнейшим образом на запасном парашюте спланировал на зелёную лужайку перед полицейским участком… Где мы, в количестве двух сотрудников личного состава бригады «Супер-джи-ай»: я, Гарри Бэк – новоиспечённый «литер», недавний выпускник академии имени Группы Захвата, и мой непосредственный начальник – инспектор Сиси Карауллинз, головорез из рейнджеров, неспешно несли боевое дежурство (попивая баночное пиво и с наслаждением куря приличные, но недорогие сигары).
И вот теперь честью и одновременно решающим фактором профпригодности нашего наряда было взять нарушителя в наручники. Что гарантировало его посадку, во-первых, на простой стул – перед электронным «детектором лжи», а, во-вторых, – и на обыкновенный «электрический стул» (с некоторыми представителями внешних разведок, исключая, правда, русскую агентуру, между этими двумя «стульями» случался и «жидкий стул», и, к слову сказать, поговорка «Сесть между двух стульев», возможно, пошла как раз отсюда).
…Но мы преследовали этого «долговязого стайера» уже четыре часа кряду, а супершпион (не иначе Козерог, родившийся в год Тигра) всё никак не давался нам, мягко и неутомимо пружиня впереди в кроссовках фирмы «Ить атас тормоз».
– Хоп, Гарри! – с отеческой теплотой в голосе подбадривал меня в беге инспектор Сиси Карауллинз, ведя по агенту прицельную массированную стрельбу на поражение из двух кольтов калибра 0,38. Что, однако же, со стороны напоминало гангстерскую стрельбу «пиф-паф» – лишь бы пошуметь и напугать. А ведь совсем недавно, когда мы расслаблялись перед нарядом в китайском ресторанчике «У папаши ПО-БРЕ-ШИ», болтая о том о сём, этот брехун от души похвалялся, что с пятидесяти шагов «мухе в полёте пулей перманентную завивку произведёт».
– Хоп, Гарри, хоп! – скоро перешёл на командный тон инспектор Сиси Карауллинз, поскольку серьёзность обстановки уже обязывала.
Сам он, туго затянутый ремнями, бесподобно впечатляющий в новой долгополой шинели, отутюженной, как фибровый чемодан, бегущий на максимальной скорости – на полноздри впереди меня, мощный, как йеменский верблюд, – высекал калёными подковками своих высоких сорок восьмого размера комсоставовских ботинищ из придорожных угрюмых камней не столько «божественную росу», сколько не менее «божественный синий туман».
Шеф командовал… А я, лихо-молодой, где-то ещё «зелёный», подчиняясь приказу, смело бросался и в чащу, оказавшуюся вдруг на моём пути (да, в самую её гущу!), и, вырвавшись на оперативный простор, не забывал, как учили, оперативно маневрировать по косогорам и буграм…
Однако уже скоро я услышал от своего вконец запыхавшегося наставника нечленораздельное «бу-бу-бу». Что красноречиво говорило о том, что у него всё-таки открылось второе дыхание – ему теперь пришлось в два раза больше сопеть, и от этого, понятно, он стал в два раза быстрее уставать.
По отдельным всё же возгласам я разобрал, что инспектор принял твёрдое решение брать нарушителя живым. Ну чтобы не тащить обратно в участок труп… Поскольку и в живом виде этот малый был очень даже здоровым «пестерем». А прочапали мы за ним, я повторяю, часа уже четыре.
– Есть, сэр! – зычным голосом отозвался я. – Будем брать живым, сэр!
И с этого момента дальнейшее преследование этого опаснейшего суперагента приобрело для нас запредельную напряжённость и поистине двойной настоящий драматизм (ведь нас было двое)…
Да, конечно, если б я знал, что этот парень такой… «оборотень» – это ещё слабо сказано. Точнее – этот «отборный молодчик» сумел вобрать в себя весь арсенал изворотливости, хитрости и коварства всех действующих ныне спецслужб сразу. Да, если б я знал, что он такой, то, не задумываясь, нарушил бы приказ инспектора Сиси Карауллинза и пристрелил бы верзилу на месте. И чёрт с ней – с головокружительной карьерой!..
Но я был «зелен» и неопытен…
А между тем мы с мэтром Сиси Карауллинзом крепко сидели у супершпиона на хвосте. И вот расстояние, разделявшее нас, понемногу начало сокращаться.
…С каждым дюймом приближения мы с инспектором Сиси Карауллинзом чувствовали, как стремительно растёт трагизм высочайшего накала погони (без сомнения, она вошла бы в историю всемирной контрразведки как «Большая погоня-1», ну, если б, конечно, завершилась благополучно). Наши с инспектором опасения, что преступник, выбросив напоследок какой-нибудь картинный душещипательный фортель, пойдёт на самоликвидацию, могли разрешиться в любую минуту. И тут уж, как говорится, труп – наш! Поэтому, методично и споро работая полусогнутыми (как учили) худенькими, ещё по сути дела юношескими коленками, я цепко вглядывался из-под лакового козырька форменной фуражки в тревожную и загадочную даль, пристально следя за всей совокупностью факторов внешнего поведения быстро перемещающегося врага.
– Бу!.. Бу!.. – неожиданно пробубнил сбоку взъерошенный и мокрый как банный веник, инспектор Сиси Карауллинз.
И тут до рези в глазах отчётливо я увидел, как неотступно преследуемый нами агент потянулся крепкими зубами к воротнику своей свежей сорочки.
– Так точно, сэр! Будем брать живым, сэр! – гаркнул я, а сам уныло и обречённо подумал: «Ведь отравится же сейчас, чертяка! Насмерть! Или, может, они новинку какую-нибудь приняли на вооружение?! – обозлился я. – Вот вытянет, скажем, он сейчас из воротника складную нейлоновую верёвку и задавится на ходу, гад!..»
Но накачанный малютка вырвал из воротника элементарную стеклянную ампулу. И сразу же громко захрумкал ею…
– Бу!.. – истерично, как бы переживая последнюю в жизни истерику, вскинулся в беге инспектор Сиси Карауллинз; запутавшись в длиннополой парадного образца шинели (которая, видимо, была пошита с дефектом и поэтому несинхронно подворачивалась при интенсивном беге, да и наверняка не была тщательно испытана на супербольших скоростях; куда, спрашивается, смотрят военпреды?), он с маху наступил своими бутсами на одну полу, крепко запнулся и, перелетев через канаву, упал в яму.
И у меня, признаться, от мысли, что уже через пару минут мне придётся волочить труп этого разгорячённого «пестеря» в участок, ещё сильней подкосились ноги…
Но между тем этот поросёнок деловито выплюнул все стекляшки да как припустит! Как припустит!
Он летел, как пилот в невидимой машине «Формулы-1». И скоро скрылся из виду…
– Я его поймаю – порву, как грелку! – заорал из ямы крайне разгневанный инспектор Сиси Карауллинз.
…Потом, когда началось долгое и нудное служебное разбирательство, я и инспектор Сиси Карауллинз, чтобы как-то реабилитироваться, проползли на брюхе (в основном, на моём), буквально каждую кочку того рокового для нашего наряда болота… И, используя большую лупу и пинцет, всё-таки отыскали остатки ампулы…
Экспертиза показала, что в ампуле перед применением находился не яд, а «секретнейший военный тонизирующий состав», крутое действие которого и позволило неустановленному нарушителю уйти от нашей плотной погони.
Но оргвыводы последовали!..
Короче говоря, по результатам работы комиссии инспектора Сиси Карауллинза отправили на заслуженный отдых. Без сохранения, как водится в таком случае, содержания. А меня – снова «грызть науки» в академию имени Группы Захвата. Ура!
Инспектор Карауллинз расследует
(рассказ «зелёного берета»)
– Что за кислый у тебя вид, парнишка Гарри Бэк? – воскликнул инспектор Сиси Карауллинз, когда я вошёл в его фешенебельную трёхуровневую «халупу» на Пятой авеню, где старикан коротал свои пенсионные деньки, окружённый нехилой аудио- и видеотехникой. – Выше нос, Гарри! Или у тебя опять нелады в академии имени Группы Захвата, где ты грызёшь науки, «зелёный берет»?
– Сэр!.. Опять двойка, сэр! За коллоквиум… И я в трансе, сэр! – отчеканил я, буквально пожирая легендарного рейнджера восхищённым взором.
– Я тебя слушаю, Гарри!.. – закуривая великолепную коллекционную сигару, отвалился на мягкую кожу дивана – как был, в новой долгополой шинели, отутюженной, как рулон классного русского линолеума, – инспектор Сиси Карауллинз, подбадривая меня отеческим взором.
Я нерешительно потупился.
– Валяй, Гарри Бэк! Для нормального размышления, как ты знаешь, по уставам и наставлениям внутренней службы, нужна чётко излагаемая информация.
– Сэр! Сержант Макензи, этот мешок с физиономией цвета мороженого кальмара, засыпал меня, сэр! – взволнованно начал я. – Он достал меня на понятии «зрелость»… Сэр, он поставил задачу предельно коротко: «Вы преследуете зрелого агента. Бегло опишите его для передачи приме́т по рации в полицейский участок».
– Ну и?.. – крепко затянулся престижной сигарой мэтр сыска, искусник преследования и виртуоз задержания Сиси Карауллинз.
– Сэр! Я, видимо, отсутствовал на занятиях, когда нам давали «понятия о зрелом агенте», и… сэр! – стушевался я.
– Агент – женщина? – деловито справился инспектор Сиси Карауллинз, без слов понимая меня и моё состояние.
– Мужчина! – поспешно отрапортовал я, разъясняя тем самым условие задачи полностью.
– Ну, это проще! – крякнув от изрядной порции виски, исчезнувшей в его полости рта как бенгальский огонь, заверил меня инспектор Сиси Карауллинз. – Записывай, бой-бэби Гарри Бэк… Зрелость – это когда волосы перестают расти над ушами и начинают расти из ушей! Понял?
– Так точно, сэр! – радостно гаркнул я, залезая рукой в холодильник и ухватывая там эскимо побольше.
– Но я подозреваю, что ты пришёл не только за этим, Гарри Бэк? – озабоченно спросил инспектор Сиси Карауллинз. – Не так ли?..
– Да, сэр! Конечно! – облизывая высококачественное русское мороженое, начал я излагать глубинное содержание сущности моего визита. – Сэр, в конце этой недели в академии имени Группы Захвата, в моей альма-матер, будет проводиться творческая конференция, сэр! И я вызвался сделать доклад о ваших классных, подёрнутых романтической дымкой пороха расследованиях прошлых лет, сэр!
– Что ж, мне есть что вспомнить, мой мальчик, Гарри Бэк… – прочувственно произнёс инспектор Сиси Карауллинз, набуровливая в фужер «целый небоскрёб» виски с содовой. – Да вот, помнишь ли ты небезызвестного Лёнью Голубкова? Того плоскостопого кента, которого в России не взяли даже в стройбат – за рычаги бульдозера, но который, между тем, неплохо чапал с песней по жизни… Я много занимался расследованиями его различных афер в далёкой и заснеженной России, следя за этим пареньком через спутник-шпион и сам порой холодея от страшного ужаса…
– Да, сэр! – подтвердил я. – В академии имени Группы Захвата нам давали по «новейшей экономической истории России» эволюцию Лёньи Голубкова, сэр! Но вы, я полагаю, знаете предмет ближе и глубже, сэр!
– Так вот, Гарри! – раскурил инспектор Сиси Карауллинз новую роскошную сигару. – Лёнья Голубков, этот загнивший экзотический фрукт оголтелого российского рынка, не только испортил функцию желудка демократам, о чём ты как раз и знаешь, но этот хитрый Лёнья проявил себя и ранее, ещё до «перестройки», основательно испортив «идеологический суп» самим коммунистам…
– Я полон внимания, сэр! – гаркнул я, жадно обсасывая палочку от эскимо.
– И знаешь, что сделал этот парнюга в то время, когда вся Россия «сидела на карточках»? – недобро прищурился инспектор Сиси Карауллинз.
– Ноу, сэр! – выдохнул я, чувствуя, что у меня мурашки побежали по бронежилету.
– Этот Лёнья, – вошёл в раж инспектор Сиси Карауллинз, – вступая в преступные сговоры с завмагами, претворил в жизнь свой дикий план! Он скупал колоссальными партиями варёную колбасу по цене 2-20, коптил её в загородной самодельной коптильне и продавал уже по цене 3-62, но в долларах, и сказочно наживался при этом!..
– Так вот почему не хватало колбасы на всех! – воскликнул я. – Но, сэр, копчёной колбасы ведь тоже не было, сэр?
– Правильно, – поощрил меня тёплым взглядом инспектор Сиси Карауллинз. – Её не было! Поскольку в процессе копчения у Лёньи Голубкова получался изумительный по качеству каучук, не хуже природного бразильского, и он угонял его эшелонами на Запад. А много мороженого есть вредно, – упредив моё поползновение к холодильнику, заметил инспектор Сиси Карауллинз. – Пингвином будешь! А они в наших краях не выживают.
Запрягайте, хлопцы, коней правильно…
(о поэтическом творчестве)
Приходится констатировать, что поэзию люди не любят…
И вот тут – удивительный парадокс! Стихи, даже самые примитивные, «положенные на музыку» и распеваемые – лихо или с грустью, – все слушают с удовольствием (во всяком случае, не стремятся тут же выключить источник), а вот такие же (или даже лучше!) стихи, но просто «положенные на бумагу», игнорируют.
Одни не любят поэзию вообще, другие относятся к ней холодно, третьим всё равно…
Ну, поэты – «мастера», «классики» – тут не виноваты!
А вот когда читаешь очередную «нескладушку» (а даже дети знают, что это такое) в какой-нибудь газете, а то и в журнале, то понимаешь, что к «любви народной» эта «вещь» не приведёт, не приблизит к ней. Скорее, наоборот!
Ну какому нормальному читателю (а он и в школе хорошо учился, и классиков даже и сейчас почитывает) интересно читать стихотворение, в котором восемь строк и пять из них – неправильные (то ударение попадает «не так», то одна строка – ямб, вторая – хорей, то рифмы нет…).
Сразу скажу: мне – интересно. У меня даже редкое хобби появилось: я беру и исправляю стихотворения опубликованной подборки (допустим, в районной газетке) одно за другим (быстро-быстро). И потом выбрасываю всё «наработанное» в мусор… Рифмы не исправляю, только размер: ямб – так ямбом выписываю весь текст, хорей – так всё исправляю на хорей… А ведь ещё мы знаем (или отдельные из нас знают), что есть и другие стихотворные размеры – дактиль, амфибрахий, анапест (и это только наиболее распространённые размеры)…
Я как-то (давно уже) с одним редактором вёл разговор о том, что реже надо печатать «нескладушки». Они – местные поэты – так быстрее научатся писать правильно, складно. И им потом будет стыдно за эти их «ранние произведения» (но локоток-то ведь не укусишь – они уже опубликованы)… Или – не научатся?.. Или – не будет стыдно?.. Но тогда возникает вопрос: а читателю-то зачем это всё читать (он и классиков-то не всегда читает!)?
Для сравнения: вот, скажем, изготовлением деревянных изделий занимаются плотник, столяр, краснодеревщик. Ну, будем считать, что краснодеревщик – это поэт (он такое «выделывает»!.. такие вензеля, завитушки вырезает – просто ух!). Столяр изготавливает мебель (ну какой вроде бы он поэт? но всё же…). Плотник из неструганых досок и горбыля колотит опалубку на стройке, разные трапы, ограждения, заборы (тут ясно, что он – не поэт). Но даже этот самый плотник сможет (и должен!) сделать табуретку, лавку или «ко́злы» для распилки дров, которые будут твёрдо стоять на четырёх ножках, а не только на трёх. И не «телепаться» туда-сюда!
Или возьмём первоклассника музыкальной школы: он вдруг – да при всех… да ещё и зрителей ползала собралось – взял да и «дал петуха» (нажал не на ту кнопку на баяне, что неправильно). Ему же будет стыдно. Он же покраснеет… Я думаю, да!
Так вот, печатать стихи, господа стихотворцы, тоже нужно правильные. Это же так просто… (В данном случае я говорю не о Поэзии, а, просто о правильном написании стихотворного текста.) Писать стихи – просто (кто понимает). Прозаические произведения – труднее (это кто понимает). Посмотрите: все писатели начинали со стихотворений…
В любом деле нужно овладеть сначала Ремеслом. (Забивать гвозди – так, чтобы они не гнулись после двух ударов. Писать стихи – так… я уже сказал выше.) Это уже потом можно будет начать говорить о каком-то «поэтическом творчестве» и «мастерстве».
С ужасом читаю стихотворные поздравления внучков (а иногда и целых коллективов магазинов и т. д.) в местных СМИ. Но… поздравление внучка своей любимой бабушке интересно только ему самому, маме, папе и бабушке. А остальные даже и не читают (поэтому на них «нескладная» поэзия не сказывается). Правда, один раз поздравили «нескладно» десантников… Мне стало за них обидно.
Раздумывал я над всем вышесказанным, и попал мне на глаза (вот ведь, а!) текст «Интернационала». По инерции решил «посмотреть» (а я с детства помню, что его мало кто мог петь без бумажки, – благо, их предусмотрительно раздавали заранее). Вот текст:
ИНТЕРНАЦИОНАЛ
Вставай, проклятьем заклеймённый,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущённый
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем —
Мы наш, мы новый мир построим:
Кто был ничем, тот станет всем!
П р и п е в: Это есть наш последний
И решительный бой,
С Интернационалом
Воспрянет род людской.
Никто не даст нам избавленья —
Ни бог, ни царь и не герой,
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Чтоб свергнуть гнёт рукой умелой,
Отвоевать своё добро,
Вздувайте горн и куйте смело,
Пока железо горячо!
Припев.
Лишь мы, работники всемирной
Великой армии труда,
Владеть землёй имеем право,
Но паразиты – никогда!
И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей —
Для нас всё так же солнце станет
Сиять огнём своих лучей.
Припев.
(Текст принадлежит французскому поэту, анархисту, члену Первого интернационала Эжену Потье. Был написан в дни разгрома Парижской Коммуны (1871 год), опубликован в 1887 г. Впервые исполнен 23 июня 1888 г. На русский язык перевёл в 1902 г. Аркадий Яковлевич Коц (1872–1943).
Сразу скажу: к размеру претензий нет (четырёхстопный ямб). Но вот тут (то, что подчёркнуто – неправильное) любой школьник спросит: а что же это за рифмы такие нескладные: «разрУшим – пострОим» (предлагаю: «разрУшим – лУчший»; говорят же: критикуешь – предлагай; далее в скобках мои предложения), «послЕдний – интернационАлом» («Алый – интернационАлом»), «добрО – горячО» («плечО – горячО»), «всемИрной – прАво» («слАвной – по прАву»)?
Припев мне совсем не нравится. «Это есть наш последний…» Почему последний? Не последний это бой, и умирать нам ещё рано! Товарищ Сталин, помню, говорил (а я изучал научный коммунизм в УПИ), что по мере продвижения к коммунизму классовая борьба будет возрастать. И кто же будет бороться? Если все погибли… Понурые и обречённые пошли на «последний бой» – и погибли… А вот у нас, русских, есть пословица – «Смелого пуля боится!» И вот так – смело, отчаянно, отважно – и нужно воевать (и жить останешься, и победишь!). Смело идти в бой! С вызовом… И – враг уже бежит (как там в «Бородино», вспомните!). Или как другой наш великий поэт сказал: «И прочь бежит презренный сарацин!..» И поэтому припев предлагаю такой:
Цвет знамён наших алый,
Мы идём смело в бой!
С Интернационалом
Воспрянет род людской!
Вот ещё некоторые соображения. «Отвоевать своё добро…» – звучит меркантильно, мы же свергаем, прежде всего, «гнёт» (о «добре» будем думать уже потом, как говорится, «на гражданке»). «Вздувайте горн…» – звучит нединамично (звучит как просьба). Предлагаю: «И вздуйте горн…» (это уже призыв; но не тот призыв, за который сейчас сажают; я же просто песню подправляю). «Имеем право…» Мы что – просители?! Мы должны иметь по праву! Есть и ещё более мелкие недочёты.
И исправленный текст будет такой:
ИНТЕРНАЦИОНАЛ (исправленный)
Вставай, проклятьем заклеймённый,
Весь мир голодных и рабов.
Кипит наш разум возмущённый
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем –
Мы новый мир построим, лучший:
Кто был ничем, тот станет всем!
П р и п е в: Цвет знамён наших алый,
Мы идём смело в бой!
С Интернационалом
Воспрянет род людской!
Никто не даст нам избавленья –
Ни бог, ни царь и ни герой,
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Чтоб свергнуть гнёт рукой умелой,
Сомкнитесь в твердь – плечо в плечо,
И вздуйте горн, и куйте смело,
Пока железо горячо!
Припев.
Лишь мы, работники той славной
Всемирной армии труда,
Владеть землёй должны по праву,
Но паразиты – никогда!
И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей –
Для нас всё так же солнце станет
Сиять огнём своих лучей.
Припев.
В заключение хочется отметить, что, возможно, найдутся такие (или – нет?), кто возопят: «Руки прочь от святыни!..» И т. д., и т. п… Ну, тут дело ваше. Пойте (исполняйте), как хотите! Я не навязываю… Одно ясно всему Человечеству: прогресс не остановить! И всё неправильное рано или поздно будет исправлено и будет правильным. Ну а пока известно одно: «Как запряжёшь – так и поедешь!» Тоже старая русская пословица…
Pulsuz fraqment bitdi.