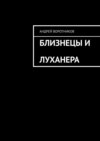Kitabı oxu: «Близнецы и Луханера»
© Андрей Воротников, 2021
ISBN 978-5-0050-4616-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Эта книга начала складываться очень давно, а была закончена в начале 2014-го. Работа двигалась с огромными паузами, иногда в год или в два-три года, когда я забрасывал текст и не собирался возвращаться к нему снова. Первая часть была написана в феврале и в марте в спальном районе, в квартире на седьмом этаже панельного дома, и последние поправки я вносил тоже в марте, время от времени отрываясь от компа, чтобы полюбоваться штормовой пеной у мыса Сарыч. Я писал эту историю в столицах трёх государств, в избе на краю деревни, во всяких трудноописуемых местах. Понадобилось выстроить события в правильной последовательности. Законченный текст показался излишне растянутым, поэтому сократил его примерно на две трети, пожертвовав некоторыми эпизодами. После сокращения текст стал более цельным и понятным. В самом начале пользовался пишущей машинкой, уцелевшей от деда, после сменил несколько компьютеров. Чтобы не потерять сделанное – всё мерещилось, что компьютер сломается и написанное безвозвратно пропадёт, – скачивал получившиеся куски в первые годы на дискеты, потом на диски, а ещё потом на флешку. За время работы над книгой жизнь вокруг постепенно менялась, и понадобилось вернуться к началу текста, чтобы добавить некоторые реалии, обычные теперь и редкие некоторое время назад. Сотовым телефоном, к примеру, владел не каждый, Интернет был не настолько распространён, как теперь. Некоторые выводы и мысли оказались неверными, но их я менять не стал, несмотря на происходящие в различных странах события – пусть так и останется, в память о моей политической и неполитической наивности. Умер Азамат – замечательный товарищ, сталкер и художник. Таньша, благодаря усилиям которой во многом получилась эта книга, открыла агентство по организации праздников и приключений. Как только книга была закончена, события из неё стали происходить в масштабе целых народов.
Андрей Воротников
БЛИЗНЕЦЫ И ЛУХАНЕРА
Посвящается Сьюзи
А что, в самом деле есть такой
писатель, которого тоже зовут Эрнест Хемингуэй?
Эд Макбейн
Ах ты, бесамэ, ах, Че Гевара!..
Тимур Кибиров
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
Говорят, там лето пахнет порохом и морем. Здесь по-другому – сухой травой и пылью. В тени акаций толчётся на привязи лошадь, неизвестно чья. В летний полдень развалиться с холодным пивом на центральной аллее и мечтать про путешествия на далёкие тропические острова. Чтобы красивая мулатка участвовала. Ну, и вообще, события там всякие с драками и погонями…
Визг рикошета, щепки из спинки парковой скамейки веером в стороны, прыжок назад поверх спинки и плашмя на заплёванную истоптанную землю – залечь, прижаться, слиться с ландшафтом. В этом спасение, шанс выжить, уцелеть, прожить ещё один день. Ещё день любить, дышать, мыслить, ещё день не умирать…
Гербер оценил бы прыжок назад через спинку скамейки из положения сидя в час сиесты, но Гербер мёртв, мертвее не бывает, десять кубиков метанола внутривенно ночью в душном номере районной гостиницы, шестнадцать комнат по коридору, сортир на всех постояльцев в дальнем конце, наследие самого прогрессивного социального строя; десять кубиков метанола внутривенно – это вам не буй собачий. Гербер мёртв и уже никогда ничего не оценит, не хмыкнет одобрительно, зачерпнув трубкой из кисета, такие вот пироги с котятами. Ну, ещё старинный дружок Билли Крюгер заценил бы. Билли расплылся бы в ухмылке на широкой роже и похлопал бы по плечу в знак одобрения: молоток, мол, парень, так держать, но Билли тоже мёртв, схлопотал Билли шальную пулю в песках пустыни, так и не успев, видимо, понять, откуда стреляли, может, и свои случайно приложились, поди проверь, в берберийских едренях дело происходило. Оба мертвы, отвеселились, в общем, и оценить быстроту реакции некому. Некому, и всё тут, и ничего поделать с этим уже нельзя, разве что самому постараться прожить по возможности подольше.
За себя, и за Гербера, и за Билли, а заодно уж и за этого засранца Скотти. Да уж, никуда не денешься – и за Скотти тоже, за друга-соперника Скотти.
Чередуя по обстоятельствам и по настроению виски и героин, Скотти долго не протянул, лечился во всяких клиниках, но после всё-таки загнулся в аккурат накануне собственной славы, ерунды не дотянул. Мечтал разбогатеть, завидовал богачам – яхты всякие, шикарные шмотки, кабаки, «роллс-ройсы» с «хаммерами», собственный дворец на Лонг-Айленде. Надуется, бывало, портером на лавочке в Центральном парке под самые гланды и давай разглагольствовать перед случайными собутыльниками, перед окрестной алкашнёй: «Вот когда разбогате-е-ею…»
Сам Скотти именовал своё всегдашнее состояние «душевной драмой творческой личности» и никак не иначе. И всё ждал богатства, вполне успешно спиваясь в этом своём ожидании грядущего запредельного бабла. Но – увы! – не судьба оказалась подняться на бабки, не успел друган Скотти разбогатеть, совсем пустяк не успел, так и помер бедным и непризнанны.
Скотти был лучше меня, тоньше и честнее, то есть талантливее. Скотти был наделён воображением, которого мне вечно не хватало. Сознание превосходства Скотти дико бесило, и я не без умысла подливал ему на вечеринках и потворствовал тому, чтобы подливали другие, удовлетворённо наблюдая, как друг-соперник постепенно спивается и сходит с дистанции, открывая для меня путь к небывалому успеху.
Перекатиться по окуркам и обёрткам от презервативов, одновременно хватая под мышкой рукоятку автоматического «кольта» и, не глядя и не целясь, в ответ серией – бум-бум-бум!
Дёргается, дёргается назад-вперёд кожух-затвор, выплёвывая стреляные гильзы. Мечется, мечется перед глазами нечёткий, расплывающийся в солнечных потоках силуэт в полупрозрачном батистовом платье, мотается из стороны в сторону копна золотисто-оранжевых волос, мотается на линии огня, и пляшет, пляшет в точёных пальцах с маникюром смертоносный ствол.
Ба-бах!!
Ба-бах!!
Половины, да нет, какое половины, десятой доли секунды ему не хватило, должно было хватить, а вот не хватило, метнулся ещё раз тонкий силуэт в полуденном мареве, грохнул ещё раз воронёный пистолет в точёных пальцах с кровавым маникюром, и в самую середину лба, ровненько в то место выше бровей, где у индусов принято носить красное пятнышко, знак касты, а иные утверждают, что никакой это не знак касты, а просто так для красоты красное пятнышко на лбу краской рисуется, в это вот место посередине лба, где третий глаз по идее намечался, да так намеченным и остался, разве что у некоторых открывается, точно в середину лба твёрдым и молниеносным больно – хрясь!
Дзин-н-нь…
Это в ушах от удара. Глупо помер, неожиданно и глупо. В сияющий полдень, в мирный выходной день, посреди запахов бензина и умирающих трав, в городском парке на краю водохранилища в самую середину лба засадили пулю с пятого выстрела, в щепки измочалив первыми четырьмя спинку парковой скамейки, и вот настал последний предел жизни, финита, точка в конце строки, и солнце теперь прямо в глаза, и ничего больше нет, кроме небытия, и оттуда, из-под золотого светящегося марева обрадованно и звонко закричали:
– Я попала!.. Попала!..
Воронёный солнечный диск притух, загороженный стройным силуэтом, и на просвет стало видно, что под тонким батистом нет никакого белья, даже трусиков нет, и темнеет сквозь ткань полоска шёрстки, а также два кружочка темнеют, и он потёр лоб – больно же, блин! – и поднялся на ноги.
– Предупреждать надо…
– Всё равно я попала… – Хэдли засунула пистолет в сумочку и добавила: – А ты промазал! Промазал, Эрни, промазал! Супермен, а промазал…
– Попала, попала… – проворчал он и зло подумал: «Ну и дура!»
Собственный «кольт» он запихал назад под мышку в скользкую от пота кобуру, надетую прямо на голое тело под рубашкой. А вокруг хмелем кружило голову лето, девичья улыбка – в тёплом ветре, в ласковом касании солнечных лучей, в бликах на воде, в предчувствии дорог и приключений…
Доски оказались пригнанными неплотно, и положение пытались исправить, напихав в щели лесного мха, который теперь свисал неряшливыми лохмами, намекая на заброшенный чертог из готического фильма. Однако для заброшенного чертога здесь было чрезмерно светло: мох не особенно помогал, и, минуя его, из щелей спускались к полу солнечные плоские лучи. В солнечных лучах плавали пылинки. Поверх досок и торчащего лохмами мха на половину стены растянута побитая молью козья шкура – якобы вовсе не козья, а какой-то редкой винторогой антилопы, и якобы антилопу эту он самолично подстрелил во время одного из своих африканских сафари. На самом краю видимого пространства беззвучно метнулось прочь что-то низкорослое, тёмное, но едва взглянул в упор, тут же замерло, притворившись низенькой скамейкой.
– …Душ подключат, так что не извольте беспокоиться. С комфортом как обещано. Уговор дороже денег… – Мануэль бухнул об пол чемодан, вытащенный из багажника такси, и удовлетворённо хмыкнул. – С кошками неувязочка получилась. – В единственном осмысленном глазу Мануэля полыхнул огонь самокритики. Глаза у Мануэля разные, левый глаз карий, влажный, чувственный, а правый мёртвый, с белым кружком вместо радужной оболочки, а лицо овальное, мучнисто-белое, вроде как напудренное, неподвижное, без мимики, и пряди волос по бокам этого белого лица блестящие, в цвет вороньего крыла. И губы угольные… – Короче, кошек достали всего двух. – Мануэль забросил чемодан на покрытую солдатским одеялом раскладушку, раскладушка скрипнула, после чего удовлетворённо вытер ладони о рубашку и обернулся. – Начало через двадцать минут…
– Кошек? Специально притащили кошек?
Он поперхнулся сигарой, и Мануэлю пришлось постучать его по спине.
– Разумеется, Папа! Это ведь твои любимые животные… – В голосе Мануэля не промелькнуло и тени издёвки. – Только полагается не две кошки, а двенадцать. А достать удалось двух, не успели. Серьёзный просчёт…
Мануэль поднял к потолку палец и повторил ещё раз с чувством, словно бродячий проповедник, разглагольствующий о грехах перед затюканными арканзасскими фермерами:
– Серьёзный просчёт!..
Мануэль присел на корточки, в коленях у Мануэля металлически лязгнуло, и позвал неожиданно ласково: «Кис-кис-кис!..»
И точно, появилась кошка.
Пока одна.
Чёрная, с белой грудкой.
Кошка вышла из сумрака, откуда-то из угла – откуда взялся сумрак в ясное утро? – глянула наглыми жёлтыми глазами вопросительно, потом потянулась и подставила спину – чесать.
– Это Катя, – Мануэль запустил в антрацитовую шёрстку отполированные ногти, и лицо Мануэля словно бы опало, с лица слетела судорога напряжённой неподвижности, и оно стало спокойным и строгим. – Знаете, от нервов помогает. Помню, в сорок третьем, в Палермо… Папа, вы бывали в Палермо?
Палермо, Палермо, Палермо… Бывал ли в Палермо? Сицилия, раскалённый пуп Средиземноморья – камни под блеклым небом, запах нагретой пыли, кипарисы на заброшенных кладбищах, заколоченные лачуги вдоль дорог, встречные крестьяне с лицами, словно дубовая кора, со взглядами, опрокинутыми внутрь черепов, кованые решётки на окнах, странное, не южное и не итальянское безлюдье улиц, витрина магазинчика, до верха заложенная мешками с песком и остов сгоревшего грузовика у кромки тротуара, беспорядочно пробитый автоматными очередями – бывал ли он в Палермо? Чёрт, бывал ли он в Палермо? Фотография в газете: восторженные горожане приветствуют вступающие в город войска. Лавочники, дантисты, спекулянты, чичероне, полицейские шпики и мелкие жулики. Суетливые смуглые мужчины в широкополых шляпах, в костюмах в талию. Мафия, разумеется, в первых рядах, – сливки общества! Прилизанные проборы, цепочки блещут поверх жилетов. Самодельные флажки со звёздами и полосами – дружба, жвачка, долой Муссолини! Дамы в восторге – ах! Возможно, всё выглядело именно так. Только не с ним.
– Нет, Мануэль, я не бывал в Палермо. Тем более в сорок третьем.
– А, ну да, конечно… В сорок третьем вы были здесь. Охотились в море за подводными лодками. Из головы вылетело…
Продолжая почёсывать загривок чёрной Кати, Мануэль огляделся по сторонам с видом человека, что-то разыскивающего. Одновременно мучнистое лицо Мануэля снова приняло непробиваемое выражение.
Катя урчала и жмурилась, а Мануэль, не поднимаясь с корточек, ощупал взглядом пространство под письменным столом – стол подтянулся и стал по стойке «смирно», под шкафом – шкаф выдохнул и втянул дверцы – и перешёл на книжные полки. Насколько можно было понять, когда Мануэль встретил его, открыв дверцу такси – ржавый «додж» с примотанной проволокой дверцей, со словом «particular» на номерном знаке – насколько можно было понять, пока Мануэль тащил чемодан и рассыпался в приветствиях, Мануэль этот при доме на всех должностях, и дворник, и привратник, и сторож.
– А где вторая-то… Здесь ведь где-то, она у нас домоседка, никуда не ходит… Знаете ли, боится… Выросла в квартире, а теперь уж перевоспитывать поздно, так что здесь где-то, никуда не делась…
– В чьей квартире?
– А, там у одних… – Мануэль ткнул за плечо большим пальцем. – У врагов народа… Маня, ау-у, Манечка…
Мебель по дому самостоятельно бегает…
– Что от меня конкретно требуется? Где инструкции, какая линия поведения, кто за кого? Я ведь не успел ознакомиться толком…
Соврал: представление о положении на Острове Свободы у него имелось. И сам интересовался, и Гербер подкинул закрытого материала для ознакомления.
– Инструкции? – Мануэль пожал плечами. – Инструкции… Да не поступало никаких инструкций. Привет велели передать, вот и все инструкции… О-о! Вон же она!
Кошка Маня отыскалась на верхотуре книжной полки, под потолком. Маня оказалась светлой, кремовой, что ли правильно сказать, и в тёмных пятнах. К тому же без хвоста – вместо обычного кошачьего хвоста Маня имела куцый обрубок, пушистый, впрочем. Засела Маня на полке прочно, слезать не собиралась и только таращила оттуда в панике голубые зенки.
В комнате едва уловимо тянуло пороховой гарью. Как будто некоторое время назад здесь стреляли. После стрельбы – в кого? – проветрили помещение, может быть даже выждали несколько дней, чтобы наверняка выветрилось, и оно в самом деле выветрилось, но чуть-чуть различимый пороховой фон остался.
Другой бы и не заметил.
Но – никаких следов перестрелки. Ни дырок по стенкам, ни замытых пятен, ни, тем более, закатившихся стреляных гильз. Пристойно и относительно чисто.
Здесь лето пахнет морем. И порохом тоже.
Толик сел в сугроб и заплакал. Вполне натуральными слезами. Честно говоря, напровожались с местными изрядно, в дорогу прямо из-за стола. «Никуда отсюда не поеду!» А три дня тому вертел носом: в какое захолустье завезли, мол. Отец – полковник, начальник полигона. Привык к порядку, а тут – какое там!.. Теперь вот в сугробе – никуда не поеду! Волынщик играл в пустом ущелье. На одну из вершин указал охранник гостиницы, но я немедленно забыл название. Задние Толика обходили, не останавливались. Автобус уже ждал, урчал мотором. Роланд, Кастен со штандартом, Ричи, Танкред, Азюка… Леди Женевьева и Фири держали подолы, тщетно пытались беречь драгоценный бархат. Поздно спохватились, раньше надо было. Следы на снегу, а в них – зелёная трава. Это в январе-то! Я нагнулся над Толиком, подал руку. Мешали рюкзак, гитара и алебарда. Сперва не желал, потом поднялся. Назад дороги двое суток. Я тоже плакал, только про себя. Выдрали с корнем лавровый куст на остановке, увезли на память. Гора Ахун и пальмы промелькнули и исчезли. Больше я туда ни разу не приехал.
– Так что мне делать?
– Что хотите, Папа, что хотите… Вы гость, вы в конце концов знаменитость, у вас заграничный паспорт. Для Острова Свободы большая честь принимать на своей территории такого человека. Делайте, что сочтёте нужным… У нас ведь демократия, не то, что у некоторых…
Вот блин, и не ухмыльнулся. Демократия у них, скажите пожалуйста!
– Для начала я бы выпил.
Фразу заготовил заранее, понимая, чего ждут от него именно в этом роде.
– Отличное решение! – обрадовался Мануэль. – Алкоголь и прочее в баре, – он кивнул в сторону прихожей, – лёд в холодильнике. С радостью смешал бы «дайкири» для вас самолично, Папа, такая честь, такая честь… Однако дела! Увы, увы… Персонала не хватает, а проблем, сами понимаете… Не обессудьте, сеньор Папа, вынужден откланяться. Кстати… – Мануэль отогнул манжету застиранной рубашки, и оказалось, что на запястье у Мануэля швейцарские часы «омега» в золотом корпусе. Если не подделка. Какая может быть подделка! – Кстати, до начала четыре минуты сорок пять секунд. Спешу!.. Удачного времяпрепровождения!
И ведь бегло же выговорил, не запнулся! Ай да домоуправитель!
– Что, прямо сейчас и пойдёте?..
– Не извольте беспокоиться. Вернусь, обязательно вернусь! Прежде всего – люди, как метко выражается наш великий национальный поэт Николас Гильен, ныне вынужденно пребывающий за пределами Отчизны. – Эк Мануэль «Отчизну» пафосно выделил, сразу понятно, что с заглавной буквы! Патриот! – Временно, разумеется, исключительно временно… Анте тодо лос омбрес, так сказать. Вы согласны, мой полковник? Не так ли?..
– Безусловно…
И улыбнуться как можно дружелюбнее, вложить чувство. Открытость и призыв к сотрудничеству, истинно по-американски. Мы, мол, на равной ноге. Дождаться ответной улыбки…
Так, есть. Зафиксировано. Формальности соблюдены.
Теперь этот тип свалит – интересно, уместно ли будет дать ему на чай? – и начнутся события. Во всяком случае, события были обещаны.
– Аста пронто, сеньор Папа!
– Аста пронто, Мануэль…
Дать Мануэлю на чай он не решился.
За стеной пробежали. Потом ещё раз, другие – с пыхтением и позвякиванием. Проехал грузовик.
– Та нэ журыся ты, Кончита! – донёсся густой юношеский баритон. – Ходыв я по кукурузу! Так у той кукурузе партизан, что блох у нашего собаки! Так и шастают, злыдни, с ружьями. А бородатые уси, а злющие, чисто ваххабиты. Или эти, як их… Гоблины! Ну, что у запрошлом годе были. Гоблинов-то помнишь, а, Кончита?
– Ить чего приплёл! – прозвучало в ответ. – Ему вже партизаны виноватые! Як робить, то зараз не понос, тай золотуха… С потаскушкой в лопухах валяться, небось, партизаны не займали! Видали вас в лопухах-то!.. Хоть бы сомбрерой от сраму прикрылись… Гультай ты бессовестный, вот ты хто, Хуан! Отыди от меня, тунеядец черномазый! К Луханере ступай, хай яна с тобою милуется! У той-то ни кола, ни двора, у побирушки бесстыжей! И ни отца, ни матери! А тут тебе квартиры отныне нету! Тут теперича ты посторонний гражданин, Хуан!
Потом стихло. Увы, безвестному брату моему…
В прихожей выбрал стакан почище остальных, порылся в бутылках на полке, отыскал среди прочего початую бутылку «Белой лошади», плеснул в стакан и добавил на две трети апельсинового сока из картонного пакета. Приспособленная под хранилище выпивки этажерка, поименованная домоправителем Мануэлем баром, оказалась забитой образцами разнообразного происхождения. Текила, ром четырёх марок на выбор, уже упомянутая бутылка вискаря плюс почти пустая бутылка «Столичной», а также иное. В холодильнике – лампочка внутри пристыженно тлеет, освещая толстый слой инея на морозильной камере – пакеты с соками и пластиковые бутылки с оранжевой фантой, надколотое блюдечко со стопкой плавленых сырков и немного докторской колбасы на одноразовой пластмассовой тарелочке. Имелась также вскрытая упаковка банок «балтики», синей «девятки», несколько банок уже кем-то изъято, а в морозилке лёд в формочках, кубиками.
Лёд из формочки долго не желал выколупываться, пришлось постучать формочкой о край письменного стола, для чего вернуться в единственную комнату домика, а после собрать вывалившиеся кубики льда в ладонь. А из ладони аккуратно пересыпать в стакан. Кубики льда в ладони тут же начали таять, и несколько капель воды упало на разбросанные по столу бумаги – на какие-то рукописные черновики с множеством зачёркнутых слов, с приписками на полях. Упав, капли расплылись среди букв, перемешались с чернилами и стали пятнами Роршаха.
…Снял на лавочке на Пушке или в саду «Эрмитаж», допустим, это где ещё театр и опера, чтобы больше-меньше не страшная была, минут тридцать побазарили, по банке пива высосали и свалили искать местечко поуединённее. Во всяком случае, чтобы менты за задницу не схватили – свой-то народ пускай присутствует. А случается, что участвует. А фигля? И вот когда подходящая точка нашлась – подъезд, допустим, с известным заранее или с подобранным кодом – камеру жвачкой залепить или пускай завидуют… Парковая скамейка из не особо приметных… Что, не найти на Страстном подъезда с известным кодом? Да сколько угодно! Вот тогда заодно с прочими чувствами приходит любопытство. Горячее, азартное, игровое… А иная – боится без резинки, говорит. Ну и дура!
Начинается с случайных декораций, когда главная проблема – чтобы не застукали, всё равно кто: предки на флейте на семейной тахте или менты в подъезде на подоконнике; и голова забита не столько этим, сколько проблемой возможного застукивания. Хорошо девчонкам: они вообще ни о чём не парятся, а уж о предках или ментах подавно. «Миленький, миленький!..» и всё такое прочее… Но ты-то не девчонка, а раз так, то за всё отвечаешь, вот и приходится держать в уме, в частности, и возможность застукивания, быть настороже и краем сознания контролировать. Нервотрёпка из-за этого контроля получается изрядная. Но это только сначала, это только пока по лавочкам и подъездам да по случайным флейтам, пока ещё не знаешь, что у вас вместе потом из этого самого фри секса выйдет. Дальше начинается самое интересное: дружба, разговоры, прогулки вечерние, за руки взявшись, кинотеатрики полупустые с последними рядами в них, где стенка позади и в затылок никто не сопит, приколы разнообразные… Конечно, не всегда. Бывает, не в кайф тёлка, и тогда адью. Но если повезёт, пробегают невидимые токи, замыкаются контакты, выбрасываются в кровь самые важные в мире гормоны, среди которых царствует тестостерон, происходят процессы. И ещё что-то начинается таинственное и самое важное… И снятая скуки ради в саду «Эрмитаж», на Страстном или на Гоголевском, а то на Трубе случайная кадра обретает имя, и имя это не забудешь; и ты произносишь про себя имя с замиранием, с дрожью, с надеждой, с нежностью…
Имя может оказаться каким угодно.
К примеру, Стрелка, бывшая Светка!.. Сразу очевидно, что за барышня Стрелка – заводная, неунывающая и уж от чего, а от одиночества не страдающая ни в самой малой степени. С чем другим, может, и проблемы у Стрелки, зато уж с общением полный ажур, с забиванием стрелок.
А то ещё Анафема есть, Настя по-официальному. Так эта Анафема, она вообще чёрт-те что и сбоку бантик! Восторг унд праздник Анафема в чистейшем неразбавленном виде! Вслушаться только: Ана-а-афема-а-а! «Графу Льву Николаевичу Толстому – ана-а-афема-а-а!..» И колокола гулко над площадью рыночной воскресной: тили-бом-м-м-м!.. тили-бом-м-м!.. А после один большой, с раскатом так, с протяжным гудящим рокотом: бом-м-м! И ещё раз: бом-м-м!.. Бом-м-м-м!.. «Ана-а-афема-а!..» Архимандрит зычно под расписной сусальной вязью купол, под паруса: а-а-а!.. Старушки – свят-свят-свят! – давай креститься мелко поверх шалей стеклярусных, молью во многих местах проеденных, на соборные главы, на засиженные галками кресты под сизым небом, нечистую силу движением этим, торопливо умноженным, отгоняя. Свят-свят-свят!.. Тут и шабаш на Лысой горе с полётами, и чернокнижные всякие страсти, и сатанистская жуть, от которой кровь стынет в жилах, а зубы стук-стук-стук о край стакана мелкой дробью рассыпчатой, и богоискательство русское горячечное, острожное, раскольничье, еретическая воспалённая мысль в имени этом бьётся, истины ищет, выхода, универсума всеединого алкает, тут тебе такой букет…
Анафема, тушью угольной накрашенная, глазищи на палец чёрным обведены, лицо белилами замазано, а губы кровавым обрисованы, с потёками по подбородку. К плите могильной кладбищенской телом сладострастно прильнула, к старинной плите, каменной, с «ятями», подол задравши намеренно срамным образом, вроде как в соитие с мертвецом древним вступить желая, ласки мертвецу этому, в прах давно обратившемуся, расточать готовая. Это на одних фотках. А на других среди оградок ржавых, давно некрашенных, среди памятников запущенных и лебеды, спустив трусики кружевные, чёрные, само собой, посреди венков искусственных и оградок ржавых на крест могильный взгромоздясь, привозного лабрадора крест и хорошей, тоже старой работы, на перекладину каменную верхом пристроилась, ляжки бесстыдно демонстрируя. А сбоку бутылка винная пустая валяется. Улика как бы по неосмотрительности в кадре забытая.
А мелкая безумная Носферату с Белорусского вокзала, в которую до потери пульса влюбился побочный сын замминистра внутренних дел?.. Юноша – по уши запал, а той по приколу! – с помощью папашиных связей регулярно вытаскивал Носферату из детприёмников, куда Носферату гремела за дебоши по обкурке в общественных местах и за кражи вещей из квартир случайных знакомых…
Ночные беседы по телефону, ожидания в условленных местах – на станциях метро, возле памятников Гоголю или Пушкину… Молодцеватый Гоголь, что на Гоголевском, похож ни на какого не писателя, а на офицера, что ли… По сторонам от Гоголя чугунные фонари с забавными львами на основаниях, по три льва на каждом.
Львы возле молодцеватого Гоголя смахивают на помесь собаки с обезьяной, няня Ириша на полном с виду серьёзе утверждала: никакие это не львы возле Гоголя, а собакообезьяны – звери такие, в Африке водятся, только очень редкие или даже совсем вымершие, как птица дронт и динозавры.
А зелёный эфиоп Пушкин хмурится сверху, пребывая в нехарактерном себе дурном расположении: ужо я вас, блудодеи!..
Если холодно, стрелки забиваются в подземных переходах, возле витрин. Пока ждёшь, можно порассматривать через стекло всякие штуки: складные зонтики, флаконы, журнальные обложки, складные ножи, карманные фонарики, янтарные украшения; можно потиху курить в кулак и разглядывать прохожих, переброситься парой слов со знакомыми. Редко какая девчонка не опоздает, хотя бы ненамного, и вот ждёшь, притворяешься, что просто так стоишь, и вовсе тебе по барабану – придёт или не придёт… А сам изводишься: вдруг вправду не придёт? Но нет, пришла, пришла, прилетела, запыхавшись, и сразу отлегло, сразу ушла тревога, и вот уже пошли, пошли смешки, приколы, касания кончиками пальцев и языков, шёпот, глупости…
Любовь, наверно.
Разболтав в стакане получившееся содержимое, но пока не отхлебнув, опять миновал прихожую и толкнул дверь, ведущую на улицу. Короткая аллейка, сформированная растениями в кадках, фикусами и пальмами, упиралась в незаасфальтированную улицу. Кадки с фикусами и пальмами стояли прямо на земле, по четыре штуки в ряд с каждой стороны, вперемежку.
На улице не виднелось ни души.
На противоположной стороне белела хата под соломенной крышей, вида этнографического, с палисадником перед ней. По сторонам улицы тянулись одноэтажные хибары вроде той, из которой он только что вышел, либо же фальшивые передние стены. В смысле, что в некоторых случаях вместо настоящего строения имел место фанерный фасад-декорация с нарисованными окнами, колоннами, портиком и другими изысками, подпёртый сзади, чтобы не падал, палками-упорами. Позади фальшивых фасадов скучали пустыри. В отдалении стояло одноэтажное – вроде настоящее – здание покрепче с застеклённой вывеской над входом. Под вывеской несколько парней в солдатском белье маялись, изображая общественность. Ага, местный культурный центр. Направился было в сторону строения с вывеской, однако от этнографической хаты окликнули:
– Э-у!..
Девушка оказалась светлокожей, субтильной, обвешенной фенечками и вся в веснушках. Внешностью смахивала на студентку. Вопреки ожиданию, одета Кончита была не в вышитый крестиком сарафан, как того можно было ожидать, а напротив даже – в микроскопическую синюю майку-топик и в очень короткие шорты с бахромой по нижнему краю. На майке помещалась эмблема – перекрещивающиеся серп и молот. Ниже серпа и молота надпись: «R.A.F». Анемичное послевоенное поколение, дети поражения, пороху не нюхали, а так хотелось поучаствовать, нереализованный запас героики, перепутавшие всё со всем в воспалённых никотином и князем Кропоткиным мозгах; так хотелось борьбы, самоотверженности, так хотелось страстей, конспираций, славы, так пресно показалось просто жить в чисто прибранном, бедноватом ещё по послеоккупационным временам фатерлянде, где скучный арбайтн унд арбайтн в конторе каждый день по часам, кроме выходных, и попробуй проспать с утра на работу – мигом вышибут и пособия лишат, так потянуло на беззаветность, на риск, на большое дело, на взлёт, «это сладкое слово…», такая яркая фиеста с автоматом в руках пригрезилась затурканным орднунгом немецким девочкам и мальчикам из тоскливых бухгалтерских контор…
Ноги Кончита имела изрядно длинные, но не сказать, чтобы особо тонкие, гладкие и совсем не загорелые, и ноги эти теперь переплетались одна с другой совершенно анатомически невозможным образом.
– Э-у, Папа! – повторила Кончита и улыбнулась вполне благожелательно. – С приездом! Как дела?
Выдержал паузу и глотнул из стакана… И сразу поперхнулся. Какая, к дьяволу, «Белая лошадь»! Нацедили в импортную бутылку паршивейшего картофельного самогона и так это пойло в импортной бутылке на этажерку и поставили. Кое-как проглотив смесь нитратного самогона с пастеризованным апельсиновым соком и проморгав выступившие слёзы, он попытался сохранить на лице выражение спокойного достоинства. Так о чём это мы?.. Ах, ну да – амур, жуир, тужур…
– От… – вместо зазывно-эротических хрипловатых вибраций из горла вырвался придушенный фальцет. Прокашлялся и начал снова: – Дела отлично! Просто лучше не придумаешь!
Ничего умнее в голову не лезло. Ну и ладно: ни к чему не обязывающая болтовня.
Взмахнув ресницами, Кончита видом изобразила удовлетворение от услышанного. И даже, не расплетая ног, приподнялась на ступеньке и честно попыталась изобразить нечто, похожее на книксен.
– Смотрю: кто это идёт мимо незнакомый? А это не незнакомый, это Папа приехал!..
Девушка лучилась радостью, словно повстречала друга или, во всяком случае, доброго знакомого. Но он-то однозначно видел барышню впервые.
– В этой стране все девушки столь же воинственны и прекрасны?
– Да полно тебе, Папа, насмехаться-то! Это же я, Кончита!..
– Вовсе даже я не насмехаюсь, прекрасная Кончита. Совсем наоборот…
– Ой, не могу, Папа! Всё такой же приколист… Надолго к нам? Или как обычно, – Кончита вздохнула с деланной грустью, – оттянуться по-быстренькому и обратно в Штаты?