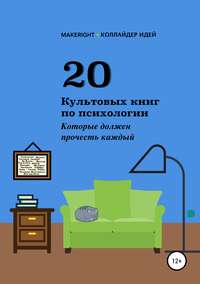Kitabı oxu: «20 культовых книг по психологии», səhifə 3
Исцеление травмы, считает ван дер Колк, состоит в том, чтобы воздействовать комплексно на все тело, чего невозможно добиться одними лишь психотропными препаратами или психоанализом, заставляющим вспоминать травмирующие события. Кроме того, многие жертвы травмирующих событий даже не в состоянии о них рассказывать. Мозг одних заблокировал ужасные воспоминания, и они проявляются только в кошмарах или при срабатывании какого-нибудь триггера. Другие стыдятся о них говорить, уверенные, что их не поймут или осудят. Но молчание о травме лишь усиливает ее. Человек должен найти в себе силы сказать вслух другому человеку: «Меня бил муж», или «меня изнасиловали». Это признак того, что исцеление возможно.
Травму действительно нужно вспомнить, осознать, определить, но это далеко не все. Иногда сеанс психотерапии еще сильнее заставляет страдать людей с посттравматическим синдромом. Куда эффективнее занятия йогой, дыхательные упражнения и другие специальные техники, направленные на весь организм.
Выработайте план действий, основанный на взаимодействии тела и разума. Обратите внимание на телесные ощущения, на то, как они связаны с вашими эмоциями. Например, горе вызывает стеснение в груди и боль в желудке – а что помогает убрать или ослабить эту боль?
Начните с простой фиксации своего физического состояния, когда вы относительно спокойны. Что вы чувствуете, когда меняете положение тела? Как изменение ритма дыхания влияет на ваше настроение? А какие самые неприятные физические ощущения вы испытываете вместе с травматическим переживанием, когда волнуетесь?
Зафиксируйте эти ощущения (боль в груди, например). Попробуйте сделать глубокий вдох – что-нибудь изменилось? Боль ушла, ослабла, переместилась в другое место? Грудная клетка расширилась от глубокого вдоха – стало ли от этого легче? Автор уверяет, что даже после такого простого упражнения человек становится спокойнее, сосредоточившись на физических ощущениях и научившись их менять.
Проверьте связь между мыслями и физическими ощущениями. Что вы ощущаете, когда думаете «Моя девушка/парень мне изменяет»? А когда «Мои друзья и родители меня любят»? После нескольких упражнений такого рода вы научитесь видеть связь между разумом и телом. Воздействуя на тело, мы меняем разум.
Идея №4. Учитесь управлять своим дыханием
Людям с посттравматическим синдромом прекрасно помогают дыхательные упражнения. При очередном приступе болезненных воспоминаний нужно сделать несколько медленных и глубоких вдохов-выдохов, полностью сосредоточившись на этом процессе. Между вдохами и выдохами нужно делать паузы. Представляйте, как воздух перемещается в ваших легких, наполняя их кислородом, питая энергией каждую клеточку вашего тела. Контроль дыхания – один из шагов к контролю над телом, а значит, и над разумом.
Йога, тай чи и цигун основаны прежде всего на управлении дыханием, во вторую очередь – на управлении телом. В западной традиции этими техниками пренебрегают, уповая на лекарства и словесную терапию, а зря, считает автор. Он рассказывает об одной своей пациентке по имени Энни, которую в детстве изнасиловал отец. В произошедшем она винила себя, постоянно переживала стресс и ненависть к себе, боялась людей и не доверяла им.
Первым делом ван дер Колк решил успокоить ее. Он попросил ее сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, поднимая и опуская руки – этому упражнению цигун его научил китайский студент. Сам он тоже выполнял это упражнение вместе с ней, стараясь дышать в унисон. Сначала она смотрела в пол, потом, по мере того как ее дыхание успокаивалось, она немного подняла глаза, а под конец занятия слегка улыбнулась. Через неделю она согласилась продолжить.
Энни работала с детьми-инвалидами и охотно, с любовью рассказывала о своих подопечных, но сразу отказывалась общаться, как только речь заходила о ее отношениях со взрослыми. В состоянии стресса она резала себя лезвием, принимала без особого успеха множество антидепрессантов и нейролептиков, но ей они почти не помогали. Ван дер Колк учил ее разным дыхательным упражнениям и самомассажу акупунктурных точек.
Постоянный страх или злость травмированных людей вызывают мигрени, боли в спине, конечностях, сосудах. Они пытаются избавиться от боли с помощью таблеток, но это приносит лишь временное облегчение. Но дыхание воздействует на вегетативную нервную систему, проводящую в возбуждение тело и мозг. Изменение дыхания должно менять ритм сердца, а когда этого не происходит, это оказывает негативное воздействие на весь организм, провоцируя не только депрессию и стресс, но даже болезни сердца и онкологические заболевания. Дыхательные упражнения помогают контролировать вегетативную нервную систему, позволяя трезво оценить, что происходит в момент тяжелого переживания. Таким образом можно постепенно вернуть контроль над телом и разумом.
Так произошло и с Энни. Она перестала винить себя, оставалась спокойной, и постепенно вернулась к нормальной жизни, выйдя из онемения.
Билл, ветеран вьетнамской войны, которого мучили кошмары с умирающими детьми, а затем в отдельных частях тела возникли необъяснимые параличи, начал практиковать йогу, где большое внимание уделено контролю дыхания. Занятия были настолько успешными для его психического состояния, что он не только избавился от кошмаров, но и организовал группу поддержки для своих коллег-священников, переживающих стресс. Параллельно он начал преподавать йогу в госпитале для солдат с посттравматическим синдромом, вернувшихся из Афганистана и Ирака. И хотя он периодически испытывает физические недомогания и иногда вспоминает травмирующий военный опыт, но это уже не оказывает никакого влияния на его повседневную жизнь.
Идея №5. Не переживайте травму в одиночестве, учитесь взаимодействовать с другими
Поддержка друзей и родных дарит нам чувство безопасности. Человек – существо социальное, и только в обществе себе подобных он может полностью реализовать себя. Это особенно важно во время потрясений, катастроф или перенесенной травмы. Исследования во время Второй мировой войны, проведенные в Великобритании, показали, что дети, разлученные с родными и отосланные подальше от лондонских бомбардировок в сельскую местность, были травмированы гораздо сильнее, чем дети, оставшиеся со своими родителями и друзьями и прятавшиеся вместе с ними в бомбоубежище.
Ван дер Колк во время работы в Южной Африке убедился в силе коллективной поддержки, выраженной в ритмичном хоровом пении. В стране шла война. Однажды он посетил группу для жертв изнасилований. Вдали еще раздавалась артиллерийская канонада, пахло дымом от снарядов, женщины сидели в застывших позах, оцепенев, «онемев». Внезапно одна из них стала тихо напевать какую-то мелодию, раскачиваясь в такт. Постепенно проявился ритм песни, ей начали подпевать другие, их лица и тела оживали, они начали кружиться в танце, к ним возвращалась жизнь. Автор понял, что ритм, пение и движение служат прекрасным средством исцеления.
Впоследствии он применил свои знания для организации театра для малолетних преступников и приемных детей из группы риска, играющих пьесы Шекспира. Во время игры постепенно они учились взаимодействовать и зависеть друг от друга, ощущая поддержку. Поначалу дети никак не могли сыграться. Чтобы помочь им синхронизироваться, было использовано «зеркальное упражнение», когда двое подростков повторяли движения друг друга, как бы зеркально отражая их. Как правило, в конце этого упражнения участники хохочут, чувствуя себя в безопасности. Во время другого упражнения один ведет за руку другого, у которого завязаны глаза. Так дети учатся доверию.
Многим травмированным пациентам ван дер Колка помогали занятия хоровым пением, танцами, боевыми искусствами.
Помимо прочего, он использовал особый театр, где все роли исполняют пациенты с посттравматическим синдромом. По очереди они играют роль родителей, или мужа, или какого-то другого человека, ставшего вольным или невольным виновником травмы пациента. Сначала пациент высказывает «обидчику» все, что у него накипело, а затем другой участник группы, которого выбирает сам пациент, исполняет роль идеального отца (матери, жены, мужа и т. д.). Он просит прощения у пациента и обнимает его. Так застрявшее в памяти травмирующее событие наконец символически заканчивается, что было бы невозможно без помощи других людей.
Идея №6. Укрепляйте уверенность в себе – учитесь давать отпор
Ван дер Колк называет это умение еще одной телесно ориентированной практикой. Некоторые его пациенты, пережившие насилие, учились по особой программе не просто приемам боевых искусств (хотя в основу обучения легли именно они), но и тому, чтобы быть готовыми к внезапному нападению. Не оцепенеть, а действовать решительно. Это прекрасно помогает избавиться от последствий травмы и даже предотвратить её.
Программа была начата после того, как известную чемпионку по карате изнасиловали. Она знала, как драться на татами, но была совершенно не готова к уличной драке. Как выяснилось, ее парализовал страх.
Программа была построена на типичной модели ограбления и учила женщин преобразовывать страх не в оцепенение, а в борьбу, отрабатывая приемы снова и снова, доводя их до полного автоматизма.
Одна из пациенток ван дер Колка, жертва жестоких родителей, депрессивная, тревожная и слишком уступчивая, закончила эту программу. На выпуске она повалила «злоумышленника», одетого в специальный защитный костюм. А через несколько месяцев, когда трое мужчин попытались ее ограбить, встала в стойку и заорала «Кто первый?». Грабители убежали. Это помогло ей не только стать уверенной в себе, но и избавиться от посттравматического синдрома.
Идея №7. Попробуйте технику десенсибилизации и переработки движениями глаз (ДПДГ)
Ван дер Колк рекомендует эту необычную технику, набирающую в последнее время популярность. Можно практиковать ее и без помощи психотерапевта, есть достаточно подробные ее описания. Суть ее заключается в том, что пациент совершает определенные движения глазами, следуя за направляющими их пальцами врача. Глаза описывают круги, восьмерки, двигаются слева направо и сверху вниз.
Во время фазы быстрого сна человек тоже совершает быстрые и непроизвольные движения глазами. Чем дольше мы находимся в этой фазе, тем лучше наше настроение и ниже склонность к депрессии. Посттравматический синдром тесно связан с нарушениями сна, а ДПДГ как бы имитирует быстрый сон – тело так и воспринимает движения глаз. Впрочем, как признает сам ван дер Колк, механизм ДВДГ еще не изучен основательно, но его воздействие он проверял на самых разных пациентах.
Один из них, Дэвид, обратился к нему из-за постоянных вспышек ярости, в особенности направленной на сына-подростка, на которого он обрушивался за малейшую провинность. Когда-то в молодости с Дэвидом случилось несчастье: пьяные подростки во время драки выбили ему глаз разбитой бутылкой. Эта драка часто снилась ему в кошмарах, хотя это случилось много лет назад.
Травма сильно озлобила его, он с трудом сдерживал ярость по любому поводу и жил из-за этого в постоянном напряжении. Ван дер Колк попросил Дэвида рассказать подробности драки и в этот момент двигать единственным глазом вслед за движениями пальцев. Сначала Дэвид, рассказывая, испытывал ярость, боль и ужас, но ван дер Колк не прекращал двигать пальцами, лишь изредка просил Дэвида сделать медленный глубокий вдох. После нескольких сеансов Дэвид понял, что давняя драка давно закончилась, но почему-то продолжает влиять на его жизнь, а в сыне-подростке он видит своих обидчиков. С каждым сеансом он все больше успокаивался, и закончилось все тем, что он попросил ван дер Колка встретиться с его семьей, чтобы он рассказал сыну, что случилось с его отцом, и помог бы ему попросить прощения. Отношения в семье восстановились.
По мнению ван дер Колка, ДПДГ способствует открытости пациентов, дает им быстрый доступ к образам прошлого, при этом не травмируя их дополнительно. Во время ДПДГ они в состоянии спокойно говорить о своих переживаниях, даже если не особенно доверяют врачу.
Заключительные комментарии
Книга написана неравнодушным к страданиям человеком, который находится в постоянном поиске. Он использует самые разные методики, чтобы помочь людям с посттравматическим синдромом, в том числе такие, о которых у нас мало что известно. Ван дер Колк приводит многочисленные примеры из собственной практики, описывает боль и страдания жертв насилия и способы, которыми он пытался им помочь.
Эта книга дарит надежду тем, кому не помогли лекарственные препараты и традиционные методики. Она учит бороться с последствиями травмы и избавляться от них. Да, невозможно вылечить от войны, изнасилования или растления: что было, то было, и прошлое изменить невозможно. Зато можно вернуть контроль над собственной жизнью, утраченный из-за травмы, а заодно научиться управлять своим духом, разумом и телом.
Глава 3. «Семь грехов памяти», Дэниел Шактер
Почему стоит прочесть:
Чтобы узнать, почему мы не можем доверять собственным воспоминаниям, как нас подводит память и можно ли это исправить.
Для кого:
– для тех, кто хочет разобраться в том, как работает наша память и почему она нас подводит;
– для тех, кто хотел бы улучшить свою память;
– для всех, кто интересуется психологией и саморазвитием.
Кто автор книги:
Дэниел Шактер – руководитель отделения психологии Гарвардского университета, обладатель множества наград за исследования памяти и работы мозга.
О чем эта книга?
Если кратко – о том, почему мы не можем доверять собственным воспоминаниям, как нас подводит память и можно ли это исправить.
Каждый человек уверен, что в точности помнит события прошлого. Что-то стирается из памяти, но то, что остается, мы считаем абсолютно достоверным фактом. Но так ли это на самом деле?
Мы зависим от памяти, формируем свой опыт на ее основе, приобретаем необходимые знания. Мы не задумываемся, может ли она искажать прошлое, воспринимая ее как должное, и только случайно можем обнаружить, что она не очень-то надежна.
В своей книге Дэниел Шактер рассказывает о несовершенстве памяти и его причинах. Память нас подводит, но мы можем обнаружить ее ошибки и нейтрализовать их. Сегодня проблемы с памятью очень распространены даже среди молодых людей. Мы забываем о назначенных встречах, не можем вспомнить имя при виде знакомого лица, место, куда положили ключи или бумажник, не говоря уже о названии фильма или книги. А ведь нужно помнить ПИН-коды, пароли к личным кабинетам и социальным сетям и тому подобное. Помимо обычной рассеянности все шире распространяется болезнь Альцгеймера, так что понимание механизма памяти весьма актуально.
Автор вспоминает загадочную историю Бенджамина Вилькомирского, который в 1996 году написал книгу «Фрагменты: мемуары детства 1939—1945». Это были страшные воспоминания, яркие и отчетливые. Эти воспоминания вернулись к Вилькомирскому после психотерапии, как он считал, они были подавлены и забыты. Книга принесла автору славу и сочувствие, но в 1998 году обнаружились странные факты.
Он обнаружил, что на самом деле его зовут Бруно Досеккер, родился он в 1941 году и был отдан матерью-одиночкой на усыновление в благополучную швейцарскую семью Досеккеров. Его детство прошло в Швейцарии, ужасов нацизма он знать не мог, поскольку никогда не был в немецком концлагере. Тем не менее Досеккер-Вилькомирский был абсолютно уверен, что действительно все это пережил.
И таков не только Вилькомирский: мы все искажаем свое прошлое. Помните ли вы, что с вами было в первом классе? Как звали учителей? Занимались ли вы в спортивной секции? Наказывали ли вас родители шлепками или поркой во время учебы? Примерно такие вопросы задавали во время исследования студентам-первокурсникам и мужчинам в возрасте от 40 до 50 лет. Если примерно 90% первокурсников еще помнили события начальной школы, включая неприятные, то у трети взрослых наказания совершенно стерлись из памяти.
Некоторые переживания бесследно исчезают из нашего сознания, в особенности болезненные. Стоит ли хранить их в памяти? Почему это происходит? Многие ученые работают над изучением особенностей запоминания, но все еще нет конкретного ответа на вопрос, каким образом память вводит нас в заблуждение.
Автор смотрит на несовершенство памяти под новым углом.
Идея №1. Семь грехов памяти помогают нам лучше понять себя
Автор предлагает разделить погрешности памяти на 7 так называемых грехов:
– скоротечность,
– рассеянность,
– блокировка,
– приписывание,
– внушаемость,
– предвзятость и
– навязчивость.
Грехи бездействия – рассеянность, скоротечность и блокировка. До нашего ума не доходит какой-то факт или идея. Скоротечность проявляется с возрастом, когда память постепенно ослабевает. Сегодня мы можем сказать, чем занимались вчера или последние несколько часов, но вряд ли вспомним, что делали полтора месяца или полгода назад. Скоротечность памяти – одна из главных ее характеристик и первый из ее грехов.
Второй грех – рассеянность – затрагивает как память, так и внимание. В этом состоянии мы забываем о важных вещах, потому что нас отвлекает множество мелочей и мы не фокусируемся на главном. Мозг не воспринимает важную информацию, когда занят обработкой этих мелочей.
Блокировка (третий грех) происходит при настойчивых попытках что-то припомнить. Что-то будто исчезает из нашего сознания, хотя мы точно знаем, что помнили это – например, имя человека, лицо которого вам знакомо.
Грехи приписывания, предвзятости, внушаемости и навязчивости связаны с искажением воспоминаний. Мы что-то помним, но в сильно искаженном виде.
Приписывание воспоминаний означает, что мы не можем отличить фантазию от реальности. Мы уверены, что услышали о чем-то от друга, а на самом деле прочитали в газете. Связанная с приписыванием внушаемость может заставить нас «вспомнить» то, чего никогда не было, когда воспоминания внушаются наводящими вопросами и тому подобными ухищрениями, иногда намеренно.
Память страдает предвзятостью: мы редактируем наши воспоминания, придаем им привлекательный вид, который нам нравится. Это происходит потому, что нас гораздо больше волнует, как мы себя чувствуем, чем то, что произошло на самом деле.
Навязчивость памяти – тоже грех. Мы прекрасно помним какое-то событие, но оно, к сожалению, неприятное или травмирующее и при этом не дает себя забыть. Мы вспоминаем жестокий разнос на работе, провал на экзамене, чью-то насмешку или болезненную потерю. Этот грех может стать причиной тяжелой депрессии.
Понимание семи грехов поможет им противостоять. Ведь каждый из них – всего лишь одно из адаптивных свойств. Если взять семь смертных библейских грехов – гнев, зависть, гордость, похоть, жадность, лень, чревоугодие – они окажутся лишь преувеличенными признаками естественных человеческих порывов. Гнев, проявленный вовремя, помогает нам защищаться от врагов, похоть нужна для продолжения рода, чревоугодие опасно, но здоровый аппетит необходим для приема пищи. Так и семь грехов памяти помогают нам понять, почему память устроена так, а не иначе.
Идея №2. Чем дальше от нас событие, тем хуже мы его помним
В этом вся суть скоротечности. Когда-то Америка напряженно следила за процессом О. Джея Симпсона, обвиненного в убийстве бывшей жены и ее друга. После оправдательного приговора люди еще долго обсуждали его. Казалось, любой может вспомнить, при каких обстоятельствах он впервые услышал вердикт.
По горячим следам было проведено исследование. Ученые опросили группу калифорнийских студентов, которые подробно рассказали, где и как они узнали об оправдательном приговоре. Через 15 месяцев их опросили повторно о том же самом. И только половина точно вспомнила, где это было. А через три года после вердикта только треть смогла точно воспроизвести события.
Именно так работает скоротечность памяти, когда со временем большинство деталей предается забвению. Если вы можете узнать человека спустя день или неделю после того, как познакомились с ним, то через год это может стать проблемой: если он не напомнит вам, как вы познакомились, вы вряд ли поймете, кто это.
Автор рассказывает про свою знакомую, которая присутствовала на свадьбе подруги с человеком, который был ей раньше незнаком. Через несколько месяцев она пришла к подруге на день рождения, увидела там незнакомого мужчину и спросила, кто он такой. Узнав, что это муж подруги, она была готова провалиться сквозь землю.
Скоротечность и мимолетность запоминания вызваны тем, что одни впечатления постоянно вытесняются другими. Мы помним о событии минуты, часы, дни, но чем оно дальше, тем более смутными становятся воспоминания. Исчезают детали, происходят похожие события, еще сильнее размывающие картину прошлого. Мы пытаемся восстанавливать одно, опираясь на другое, более позднее впечатление, и додумываем то, чего вспомнить не можем.
На скоротечность влияет старение организма. В 40—50 лет этот процесс запускается, в 60—70 усиливается, и скоротечность становится более заметной. Однако ученые отмечают, что у людей с высшим образованием, занятых интеллектуальным трудом, скоротечность менее выражена, даже если им перевалило за 60 или 70 лет – они иногда показывают лучшие результаты, чем молодые люди без образования.
При запоминании происходит переход от временной или кратковременной памяти к долговременной памяти, более постоянной, к которой относятся эпизодическая и семантическая память. Эпизодическая отвечает за личный опыт, полученный в определенной время в определенном месте: посещение футбольного матча на прошлой неделе или одного из дней рождения в детстве. Семантическая память отвечает за удержание знаний и фактов: значимые исторические события, великие имена, формулы. Существует и рабочая память, влияющая на остальные типы. В ней удерживается небольшое количество информации в короткие отрезки времени, когда люди читают, слушают, решают проблемы или просто размышляют. Если бы не было рабочей памяти, мы бы не могли запомнить начало предложения к моменту, когда дошли до его конца. Объем рабочей памяти невелик, ее ресурсы выделяются на временное хранение информации. Это доказал эксперимент 1950-х годов, когда людей сначала попросили выучить бессмысленные слоги, а сразу вслед за этим – сосчитать в обратном порядке от ста до трех. После обратного отсчета никто уже не мог вспомнить заученных слогов.
Чтобы ослабить скоротечность памяти, нужно обдумывать или обговаривать свой повседневный опыт. Когда мы осмысливаем новый факт или переживаем какое-то событие, нейронные связи кодируют этот опыт, превращая его в воспоминания. Постепенно они слабеют и стираются, если их время от времени не пересматривать, то есть не обдумывать и не обсуждать.
Другой способ борьбы со скоротечностью – попытаться контролировать первый момент кодирования новой информации, например, с помощью визуализации. Шактер предлагает запомнить его имя – Дэниэл – при помощи образа пророка Даниила в обществе львов, от которых он хочет спрятаться. Существуют компьютерные программы и приложения, в которых тоже используются визуальные образы, но эффект они дадут, только если тренироваться постоянно.
Идея №3. При рассеянности входящая информация либо неправильно кодируется, либо ее сложно извлечь из памяти в нужный момент
Рассеянность и скоротечность – не одно и то же. Автор приводит три примера, помогающие понять разницу между ними.
Человек играет в гольф и делает удачный удар клюшкой по мячу. Через минуту он уже забыл, что сделал это. Так было с пациентом Шактера, страдающим болезнью Альцгеймера.
Другой пример: человек снимает очки, кладет их поблизости, а вскоре понимает, что не помнит, где они. Ему приходится обыскать весь дом, прежде чем очки находятся.
Третий пример: человек складывает вещи в багажник, в процессе кладет скрипку на крышу машины и забывает о ней. Машина трогается и едет со скрипкой на крыше.
Случай с забывчивым гольфистом – пример скоротечности, в данном случае усиленной болезнью Альцгеймера. Классический случай с очками – пример рассеянности. Так происходит, когда мы снимаем и кладем очки, думая о чем-то другом. Если у них всегда было определенное место, а на этот раз они оказались не там, то найти их будет нелегко. С самим Шактером такое происходило, когда он снял очки во время работы над научной статьей и не мог вспомнить, куда их дел. Он просто не успел закодировать информацию, что сделал с очками – это и есть рассеянность.
Случай со скрипкой, причем скрипкой Страдивари, произошел в 1967 году со скрипачом Дэвидом Маргеттом из струнного квартета в Лос-Анджелесе. После того как скрипка была оставлена на крыше его автомобиля, она исчезла на многие годы и появилась только в 1994 году. В 1998-м ее вернули в Калифорнийский университет. Маргетт так и не смог вспомнить, почему оставил скрипку на крыше и что его отвлекло в этот момент. Он не закодировал эту информацию.
Чтобы информация оказалась в памяти, она должна быть закодирована. Когда внимание разделено между несколькими задачами, кодирование нарушается. В серии исследований участникам давали список слов, рассказов или картинок. Параллельно им предлагали дополнительные задачи, отвлекающие внимание, например, слушать и определять звуки или называть нечетные числа. В таких условиях они почти ничего не запоминали из первого задания.