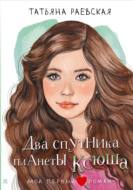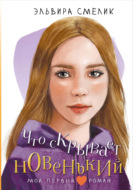Kitabı oxu: «Стучитесь в личку»
© Никольская Анна, 2024
© Лапшина Д. Ю., рис. на обл., 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
* * *
Глава 1
Ридикюль под мышкой
Когда мне было пять лет, мы еще не в деревне жили, а в городе. На море. С родителями и бабой Лизой. Но это было уже давно, поэтому я море почти не помню – какое оно на ощупь и вообще.
Вон оно – за окошком, проплывает мимо. Интересно – обычно люди в море плавают, а тут море само. Это потому, что мы едем на поезде «Новосибирск – Анапа». Уже четвертые сутки, между прочим. Скоро приедем.
– Валя, хватит в окно таращиться! Займись каким-нибудь делом, – кричит мама.
Интересно, это каким?
Мама постоянно так, но я уже привыкла. Просто у нее голос громкий из-за работы. А со стороны кажется, что она все время злится. Незнакомые люди так думают.
Их в нашем купе двое. Хотя они вообще-то уже не незнакомые. Мы с ними еще на вокзале в Новосибе познакомились. Петр Сергеевич помогал маме затаскивать чемоданы, а Карина угостила меня дамскими пальчиками.
Она очень красивая, Карина, в цветастом платье до пола. Не то, что я – с оладьей вместо лица. А у Карины глаза северного оленя. И волосы, когда она косу распускает, до самых пяток и еще чуть-чуть по полу! Карина даже снималась в одной рекламе шампуня, но там ее лица не видно – только волосы. Она королева эпизода.
А у Петра Сергеевича, наоборот, лысина – блестящая, как будто ее только что покрыли лаком. Я сразу заметила – еще когда он возился с нашими чемоданами. Хотя Петр Сергеевич тщательно ее камуфлирует – наискосок. Откашляется, поплюет на расческу и зачесывает, зачесывает – совсем как Жозефина, наш кот, когда умывается. Он тоже кашлял, особенно весной, если менялась погода.
А еще я заметила, что ему нравится мама. Не коту, конечно, а Петру Сергеевичу (Жозефина маму терпеть не мог – все время хватал ее зубами за щиколотки. Но он уже умер). Петр Сергеевич то и дело предлагает маме попробовать свою колбасу. Он, оказывается, мастер колбасных дел.
Но мама не любит колбасу. Она говорит, что порядочные люди ее не едят. И к мужчинам она тоже равнодушна.
Хотя у нас в деревне и мужчин-то почти нет. Даже в нашем с мамой классе – она у меня классная руководительница – всего один мальчик, Фрунзик Акопян. Да и тот меньше всех ростом. Зато девчонок целых девять. И так у нас в деревне везде. Демографический перекос, как мама выражается.
А кота нашего звали Жозефиной, потому что раньше мы думали, что он кошечка. Но нет, оказалось – наоборот. Прошлым летом Жозефина наелся каких-то жуков и умер.
Мы похоронили его в саду, под георгинами. Он же чисто сиамский, а не какой-нибудь.
* * *
Мама пьет кефир и морщится. Потому что Карина с Петром Сергеевичем купили у бабок на перроне пирожки с ливером и теперь их едят. А они же из собачатины! Но пахнут – здорово!
Пейзаж бежит наперегонки с поездом – ногами электрических столбов. От нечего делать я начинаю их считать, но потом бросаю.
Забираюсь на верхнюю полку, чтобы не нюхать пирожки, и рисую в альбоме бабу Лизу.У нее на голове маленькая шляпа с вуалью – называется таблетка. Еще у Лизы кружевные перчатки и такой же зонтик – от солнца. А под мышкой ридикюль. Баба Лиза стоит на высоком берегу и удит рыбу…
– Эй, ты, там наверху! Пирожка пожуй! – улыбается мне снизу Карина. Она в больших наушниках и с ноутбуком на коленках.
– Ей нельзя, у нее несварение, – сочиняет на ходу мама.
Она на все пойдет, лишь бы я правильно питалась.
…У бабы Лизы блестящая красная удочка и такие же туфли на каблуках.
– Лиза, а где у тебя крючок? – Я ем теплые вишни из газетного кулька, а косточки выплевываю вниз, в море.
– А зачем мне крючок? На крючок только рыба ловится, – у бабушки такой вид, как у памятника – капитальный.
– А ты что ловишь? – удивляюсь я.
– Я – мечту.
– Ничего себе! А какую?
– Заветную, понятное дело. Подержи, – баба Лиза отдает мне удочку, а сама достает из ридикюля помаду и красит губы. Они у нее, как мои вишни – красные-красные.
* * *
– Вы, Мария Викторовна, где останавливаетесь? У частников? – спрашивает Петр Сергеевич. – А то я в «Жемчужине» местечко организую. Там трехразовое питание и фитобар. Чего вам с дочкой у частников ютиться?
– Спасибо, мы не у частников, – говорит мама.
– А где же? – снова интересуется Петр Сергеевич.
В вагоне душно и лысина у него вся мокрая. Он вытирает ее влажной антибактериальной салфеткой «Малыш».
– А я дикарем с палаткой, – говорит Карина. – Смотрела «Три плюс два»?
– Не-а. Тебе одной не страшно? – спрашиваю.
Хотя по Карине и так видно, что не страшно. Она вон какая бедовая – два раза была замужем!
– Вы, Мария Викторовна, зря отказываетесь, – продолжает Петр Сергеевич. – На процедуры походите, отдохнете. А девочку вашу можно воспитателям пристроить.
– Она вам что, щенок? – Брови у мамы начинают ходить ходуном. – Пристроить, надо же!
– Что вы! Вы меня не так поняли… – волнуется Петр Сергеевич.
Бедный. Просто он к маме за четыре дня еще не привык.
– Вы не волнуйтесь, – говорю я с верхней полки. – Мы с мамой домой едем, на постоянное место жительства.
– Валентина! – цыкает на меня мама.
– То есть, как это? – не понимает Петр Сергеевич.
– У нас там дом есть, – говорю. – Да. И папа тоже у нас там есть.
– Я что-то не понимаю… – лысина у Петра Сергеевича становится бордовой, как солнце за окном. – Что же вы мне голову тогда морочили?
– Перестаньте, – одергивает его мама. – Никто вам ничего не морочил. Напридумывали себе!
– Пошли, чего покажу, – говорит Карина и уводит меня из купе.
* * *
Мы стоим в тамбуре. Карина курит электронную сигарету.
– А что я такого сказала? – говорю я.
Со взрослыми почему-то всегда так. Соврешь – куча недовольства, а скажешь правду – вообще из штанов выпрыгивают.
– Проза жизни! – Карина выпускает пар изо рта. – Забудь!
Красиво.
Но вообще-то, это не совсем проза жизни.
Вообще-то, дома у нас с мамой пока нет. Мы его будем снимать. Вернее, даже полдома.
И папы у нас тоже нет.
– Подъезжаем, – говорит Карина, убирая сигарету. – Ты писать мне будешь, Валентина Батьковна? Я тебе электронку оставлю.
Глава 2
Необычная черносливина
Город встречал меня теплым объятием – такое ощущение, что меня не было здесь не восемь лет, а целых восемь жизней… Солнце, море, кипарисы кругом, а на фонарном столбе висит объявление, и ветер его колышет:
«Сдам жилье русской женщине с ребенком. Дешево»
Нам это как раз подходило, и мы тоже как раз подходили. Просто на полдома нам чуть-чуть не хватало. Маму в школе сократили, поэтому.
Она бы никогда не согласилась вернуться в наш город, если бы не подвернулась работа. Ненужные воспоминания, как она объясняет. Маме позвонила подружка, тетя Вика Ботеева. Тетя Ботя, как я ее называю. Они раньше в одной школе с мамой работали. Тетя Ботя сказала, что маму там до сих пор любят и ждут.
Покажите! Покажите мне тех, кто до сих пор ее любит и ждет! Несчастные, несчастные люди.
А я не понимаю, как это – «ненужные воспоминания»? Особенно, если они про бабу Лизу. Папу я плохо помню – только его жесткую бороду с рыжинами. Потому что он все время ездил в командировки, и мы редко виделись. В этой бороде у него жил хомячок. Кажется, его звали Игнат и, кажется, он разговаривал папиным голосом – я его ужасно боялась. Так вот этого Игната я помню гораздо лучше, чем папу.
– Что ты все ездишь? – говорит ему мама. – Ездит, ездит, а толку с гулькин нос! У Вали зимнего комбинезона даже нет!
– Зачем ей зимний комбинезон? – удивляется папа. – Не в Сибири ведь живем.
– Ребенок болеет круглый год!
– Я болею клуглый год! – подтверждаю я.
– А ты ее кутай поменьше.
– А ти меня кутай поменьсе!
– А ты мне не советуй! Советчик нашелся.
Разговаривать с мамой – все равно, что со встречным ветром.
– Это все твоя мать. Вчера с моря пришли, у Валеньки губы синющие, трясется вся! А Елизавета Яковлевна: «Мы русалку ловили, чего вы от нас хотите?»
– Поймали?
– Что? – переспрашивает мама.
– Ну, русалку, поймали? – папа улыбается и достает из рюкзака круглый синий камешек с золотыми прожилками. Он у меня геолог. – Держи, котик Тарасик!
Я хватаю камешек и сую его за щеку – я решила, что это карамелька.
– Ты совсем спятил. Какой она тебе Тарасик? И не суй нам свои булыжники. Валентина, открой рот!
* * *
Валентина. Дурацкое, дурацкое имя! Ненавижу его.
Это меня мама так назвала – в честь бабушки, маминой мамы. Ее задавила машина, когда я еще не родилась.
Когда я вырасту, то сменю и имя, и фамилию. Хочу, чтобы меня звали красиво, как всех: Настей или Дашей. Можно еще Полиной. Папа вообще хотел меня Вероникой назвать – в честь одной своей старой знакомой. Очень звучно, но мама не дала.
– Мам, можно мне на море?
– Никаких «на море» – разбирай чемодан. Я в хозяйственный – за шваброй. Увидишь таракана – съезжаем немедленно!
– Его же дихлофосом можно – чик и он труп, – я как раз вижу одного на стене. Черного, он ползет прямо на маму. Я представляю, что это такая необычная черносливина.
Мама у меня ужасно чистоплотная. У нас каждый день дома влажная уборка. Она даже в кафе никогда не ест – брезгует. А в школьной столовой однажды упала в обморок. На дне тарелки у одной девочки из нашего класса лежала расческа, а мама как раз проходила мимо.
В комнату заглядывает хозяйка квартиры, Глафира Леопольдовна. Баба Глаша, как она просила себя называть. Старенькая, ей, наверное, лет триста, не меньше. У нее голова все время трясется, а вместо рта – морщинка. У нашего соседа-тракториста такая собачка в кабине была, с болтающейся башкой – баба Глаша на нее похожа.
– Это вам вторые ключи, Машенька. Если что понадобится – кастрюлька там какая или кипятильник – вы стучитесь четыре раза, – говорит Глафира Леопольдовна своей морщинкой.
– Спасибо, у нас все свое.
* * *
Мы уже третий день в городе, а море я вижу только из окна.
Мы живем в хрущевке, на пятом этаже, и вокруг пальмы.
По-моему, когда вокруг пальмы, нужно строить одни дворцы. Из мрамора, например, а лучше из горного хрусталя – он недорогой. Я бы так делала, здесь же круглый год солнце. И еще американские горки с аквапарком. Тогда будет красиво. Это будет гармония, как говорит наша учительница по изо. Потому что человек должен жить с природой в гармонии. А когда строят из бетона и каких-нибудь шлакоблоков, получается наоборот. Вместо асфальта я бы ничего не клала, пускай везде растут трава и цветы – лучше, если это будут гладиолусы.
Скоро первое сентября, и я пойду в седьмой класс. Каждый день мама ходит устраивать нас в школу. Ее-то сразу взяли – учителем географии, а со мной получились какие-то несостыковки. Школа рядом с домом, но там в классах уже полный набор. Нет мест. Мама хочет, чтобы мы ходили в одну школу, а мне все равно. Мне просто надоело сидеть дома.
* * *
В деревне – там не как в городе. В деревне время течет длинно-длинно. Дни медленные, как будто их кто-то тянет за хвост – идут и идут, и никак не кончатся. Я думаю: почему так? Вот сидишь ты в очереди к ухо-горло-носу, сидишь – три минуты, четыре, пять, восемь… Рассматриваешь наглядную агитацию «Профилактика гайморита у детей». Разглядываешь и думаешь: сейчас тебе будут делать пункцию – втыкать иголку в нос. Будут хрустеть твои бедные-бедные хрящики. И вроде бы сидишь-то всего ничего, каких-нибудь восемь-девять минут. А кажется, что всю жизнь тут сидишь, пересчитываешь капельки от побелки на полу. Чупа-чупс среднего размера тоже восемь-девять минут сосешь, я засекала – но как они необычайно быстро пролетают! Как-то я поделилась своими наблюдениями с Федоренкой, а она говорит:
– А ты, пока в очереди сидишь, чупа-чупс соси.
Но разве же я об этом?
Я сильно поначалу скучала. Особенно по папе.
– Мам, а где все папины фотографии?
В альбоме вместо папы пустые прозрачные кармашки.
Она молчит.
– Он скоро приедет?
– Скоро, – говорит мама. – Ты же знаешь, папа у нас в ответственной командировке. Он страшно занят.
– Он все время занят.
Вот ответьте: разве могут камни, пускай даже синие или вообще серо-буро-малиновые в клеточку, быть важнее, чем собственная дочь? Могут, по-вашему?
– А ты потерпи. Уже скоро.
Это наше с мамой «скоро» тоже ужасно долго тянулось. Целых четыре года.
* * *
Я открываю альбом и рисую вид из окна. С натуры рисовать очень полезно, от этого развивается наблюдательность и внимательность к мелочам. Вот, например, стоит у дерева собака на четырех лапах. А художник может увидеть, что у нее их три. Или вообще двадцать шесть – когда она понесется вскачь. И это будет правда. И никакой очевидности это не противоречит. А знатоки придут и скажут: нуу, голубчик, так не бывает! Или что-нибудь еще похлеще. Но художников, кстати, это никогда не останавливало.
Сиреневое от заката море, розовое небо и белая точка на золотом берегу. Если соединить эти цвета в одной картине, будет гармония, а если перемешать – просто грязь. Акварель – не гуашь, она не прощает нам, художникам, ошибок.
Белая точка – это баба Лиза.Она неподвижно сидит на складном табурете, в широкополой шляпе из соломки и смотрит вдаль.
Я встаю рядом. Мне четыре года, и я не выговариваю букву «р».
– Тебе глусна?
Баба Лиза молчит, но мне и так все понятно.
– А почему?
– Не знаю, Собачкин. Бывает, что человеку грустно просто так. Безо всякой на то причины. По-моему, это называется меланхолия… или как-то там, – бабушка чему-то улыбается, и от этого у нее делаются потусторонние глаза. – Когда мне грустно, я прихожу сюда, на этот берег, и смотрю вдаль.
– Почему? – снова спрашиваю я.
– Я хочу увидеть Морскую птицу.
– Да? А какую?
– Такую – голубого цвета. У нее благородная осанка, человеческие черты и огромные крылья.
– Ничего себе! – мне даже не верится. – А лазве такие бывают?
– Конечно, бывают, – на полном серьезе говорит бабушка. – Только их не каждому дано увидеть. Морская птица показывается только тому, кому очень грустно. У кого совсем не осталось надежды, понимаешь? Совсем-совсем.
Я не понимаю.
– А ты видела когда-нибудь Молскую птицу, Лиза?
– Я?
* * *
Помню, однажды, еще там – в деревне, я пришла домой из школы. Это был, кажется, январь – снег валил и валил. Сугробы доставали до окошек, и нам каждый день приходилось срезать их лопатой. Как ножом по маслу – вжииииик!
Мама сидела за столом, в желтых валенках, и читала письмо.
– От бабы Лизы? – обрадовалась я. – Или от папы?!
Вообще-то, папа мне никогда не писал, но я все равно ждала.
Я хотела, чтобы мама прочитала мне вслух, как делала раньше. Она никогда не давала читать мне письма самой, я даже не знала, как выглядит бабушкин почерк. Но мама скомкала вдруг в кулаке письмо, подошла к печке и бросила его в топку. Я смотрела, как огонь сжирает белый комок, и не понимала, зачем мама так сделала.