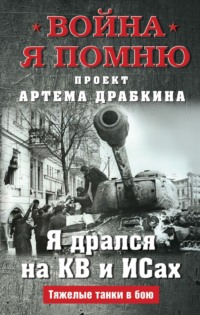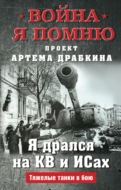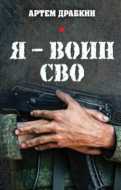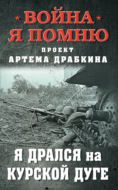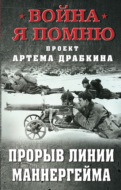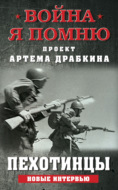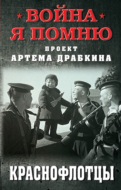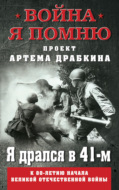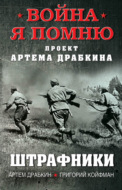Kitabı oxu: «Я дрался на КВ и ИСах. Тяжелые танки в бою»
© Драбкин А. В., 2024
© ООО «Яуза-каталог», 2024
Кашицын Лев Петрович

Я родился в 1926 году в городе Ульяновске. Дед мой, Иван Егорович Кашицын, где-то 1870 года рождения, был наполовину мордвин. Работал в селе Алатырь в Мордовии учителем в церковно-приходской школе. В 1905 году, когда произошла революция, в школе был ремонт. А раз ремонт, все вынесли на чердак. И вот кто-то сказал батюшке приходской школы: «Иван Егорович не оказывает подобающего уважения к царской особе – портрет Николая II забросил на чердак». И все – деда моего выгоняют. И он со своей семьей переезжает в Ульяновск, устраивается на работу в Крестьянский банк, где трудится до 1943 года.
Отец у меня с 1904 года, гимназию окончил. В 1923 году вступил в партию, окончил совпартшколу в Ульяновске. Преподавал в школах, техникумах. В 1941 году ушел на фронт, а в 1943-м, в ноябре, от него перестали приходить письма. И уже только в декабре пришло извещение – письмо в конверте не из военкомата, написанное на русско-украинском языке.
Читаем: «На наше село наступали немцы. Капитан с солдатами в сарае отстреливались. Немцы после боя обезображивали трупы танками. Нам удалось его труп и еще нескольких солдат спрятать в навоз…» Вот он при таких обстоятельствах погиб.
Потом, когда немцев выбили, местные их откопали. У каждого военного в нагрудном кармане была капсула с личными данными. Когда они их нашли, сообщили родным. А написал письмо священнослужитель этого села. Я потом, в 1970-е годы, когда уже служил в Москве, приезжал туда. Житомирская область, Черняховский район. Когда приехал, священник уже умер, но его сыновья служили в Советской Армии. Я их тоже нашел.
Там братская могила есть. Капитан, мой отец, похоронен и 16 солдат.
Кстати, насчет этих капсул, медальонов. Мне ветераны рассказывали, что многие не носили, а многим даже и не выдавали. А вы сами-то носили?
У меня уже не было. Дело в том, что в 1943–1944 годах уже и связь наладилась, и учет личного состава, не было уже такой необходимости.
Лев Петрович, а каким было ваше детство?
В школу, в подготовительный класс, я пошел в 1933 году, когда мне было шесть с половиной лет. Там учили арифметике в основном так – два прихлопа, три притопа, как в детском саду. Я до 1 января 1934-го проучился, поехал на каникулы домой. Возвращаюсь обратно, а мне говорят: «А нулевого класса больше не будет, и ходить в школу не надо». Я устроил скандал: «Как это так?!» Я хорошо читал, способный был, и меня взяли сразу в первый класс. У меня мать-то была библиотекаршей, так что я, можно сказать, вырос на книжной полке. Никаких трудностей в обучении в первом классе у меня не было. Ну, немножко там по математике были, но я быстро разобрался и начал хорошо учиться, так что год сэкономил.
У нас очень хорошо была поставлена физкультура, с первого класса. Кидали гранату, на лыжах ходили. Я вот, например, с пяти лет. Когда были подростками, каждое воскресенье в лес на лыжах отправлялись вместе с врачом, у которого слушали радио. Он у нас старший, а мы, пацаны, вокруг него. Мы там часа три катались.
Было и военное дело в школе. Мы знали, что такое пулемет, винтовка, и до войны. Собирали и разбирали. Пулемет «максим» был. Очень хорошо было налажено шефство войсковых частей. В школы они приходили, к себе приглашали. На заводе Володарского был батальон охраны, который охранял завод и мост. Там был командиром капитан Устинов. А сын его учился со мной. Только он на год моложе был. И мы ходили в этот батальон. Нам показывали, рассказывали.
А когда началась война, стали учиться и стрелять из винтовки. С боеприпасами было сложно, но два раза в год стреляли – весной и осенью. Стреляли все – и девочки, и мальчики. Значки «Ворошиловский стрелок» и ГТО – «Готов к труду и обороне» – давали.
Девочки и женщины вместе ходили на подготовку к санитарному делу… Мать моя, сестренка старше меня на год, тетка – все ходили. Всех обязательно учили перевязку делать. Тренировались. Это обучение было поставлено очень хорошо.
Школьников в то время привлекали к работе на производстве?
Да. В том числе и к работе на патронном заводе имени Володарского. Завод с поселком – пригородом Ульяновска организовался в 1918 году, после революции. Сюда был эвакуирован из Петербурга один из цехов Путиловского патронного завода, потом производство многократно выросло. Всю войну наш завод держал переходящее знамя Комитета труда и обороны.
Зимой на каникулах и в свободное от занятий время нас привлекали к работе на заводе. К станкам нас не подпускали, считали, сортировали и укладывали патроны в железные коробки. Мы работали, по-моему, в субботу и воскресенье по 2, иногда и по 4 часа.
В 1941 году ввели сельскохозяйственные предметы, трактор колесный изучали. Летом был колхоз – прополка картошки, уборка урожая. Сначала убирали вручную, а в 1942 году весной работали уже прицепщиками, потому что это тоже мужская работа. Деревни же опустели. Были такие, в которых остался один мужчина-калека, вернувшийся с фронта.
Ульяновское танковое училище тоже привлекали к сельскохозяйственным работам. В селе, где тогда работали, были двое мужчин: 17-летний юноша, который женился, и еще один калека. Все! Мужиков больше нет. Всех поголовно брали.
А обычные предметы – историю, литературу, русский язык как в школе преподавали?
Блестящие преподаватели были. Математик Софья Яковлевна Бондарчук, по литературе Кашко Екатерина Павловна. Ее уроки интересные были. Читали много. Короче говоря, основу воспитания и нравственности закладывала литература. Учили не просто так. Куда он пошел, Печорин. Вот он совершил поступок. Оцените его. Литературу изучали с точки зрения нравственной позиции литературного героя. Нравственные начала, которых я придерживаюсь, заложены были литературой.
Что говорили на уроках истории про Петра I, Ивана Грозного? Мне рассказывали, что про Николая II в основном негатив шел. А про других только хорошее.
Не только хорошее, изучали факты. Подавление восстания Пугачева тоже описывалось. Николай II, конечно, котировался ниже всех. Честно говоря, я, верующий человек, не понимаю причисления Николая II к лику святых. Он и как человек, и как царь совсем никакой был.
Подавление шествия в 1905 году, когда люди шли к Николаю II, а царские войска их перестреляли – это вообще позорная страница истории всегда была. Она везде описана. Это слабоволие его. Дальше царь потерял авторитет из-за Распутина. Про царицу ничего плохого никогда нигде не говорили. Она женщина, была обеспокоена болезнью сына. А Распутин – авантюрист.
Первым отвернулась от царя знать, офицеры военно-морского флота. Российский флот со времен Петра I был местом почетной службы. Представители большинства российских знатных родов князей, дворян шли куда? На флот! И флот был самой образованной частью русской армии. И он себя оправдывал везде.
Поражение в Крымской войне кончилось тем, что Россия на Черном море потеряла флот. А потом флот-то появился. Почему? Это же непростое дело! И проигрыш в Цусимском сражении офицеры флота восприняли как позор, в котором виноват был прежде всего царь. Они отвернулись от него. И когда над царем стали сгущаться тучи, ни один флотский офицер пальцем о палец не ударил, чтобы спасти его, то есть царь потерял авторитет среди тех кругов, которые его раньше поддерживали. От царя отвернулась и буржуазия. А то, что трудовые слои населения царя не любили, так это очевидно. Он был никчемный человек.
И кстати, все должны знать, что царя-то свергли не коммунисты. К нему пришли генералы и сказали: «Ваше величество, вам нужно уйти!»
Интересно, а что рассказывали про Александра III? Во время революции 1917-го года его очень сильно недолюбливали, вспоминали плохо, насколько я знаю.
Правильно, потому что первые организованные ростки революционной борьбы появились при Александре III. Он был очень жесток в плане подавления революционного движения. Александр III был царь, враг трудового народа. Все цари были враги трудового народа. И даже военные заслуги Петра I не делали его другим. Он был жесток с уральскими рабочими. Цари были классовые враги. Никакого снисхождения к ним нигде и никогда не делалось.
Лев Петрович, а что вы чувствовали, думали в 1941 году, 22 июня, когда объявили войну?
Было так. У меня приятель был, дипломатом стал потом. Мы в воскресенье любили слушать приемник СВД-9, игру на аккордеоне на болгарском радио. Транслировали часто. Собрались, сидим, слушаем. И вдруг передача прерывается – важное правительственное сообщение. Ну все! Война! Сразу по местному радио объявляется, что то ли в 12 часов, то ли в 13 часов дня на стадионе митинг. Пришли. Там военный представитель выступает и говорит: «Товарищи! Вот началась война. Мобилизация. Военное положение».
Все конечно понимали, что это будет трудная война. Но никто не ожидал, конечно, такого провала. И самая радостная весть была – это наступление под Москвой. Здесь уже все сразу: «Войну мы выиграем!» И все понимали, что Сталинград – это последнее немецкое испытание. И потом, когда я уже учился в академии, мы это все изучали по первоисточникам. Если бы наши войска были в должном положении, в 1941 году немцы не дошли бы и до Смоленска. Войска Западного фронта были дезорганизованы. Это хорошо и в кино показано. А оборону немцев под Москвой прорвали войска Сибирского военного округа. С первого же дня войны сразу пошли эшелоны с войсками с востока. Я видел это в Ульяновске.
Кстати, над Ульяновском вы не видели немецких самолетов-разведчиков? Тревоги воздушной не было?
Мост в Ульяновске имел стратегическое значение – самый короткий путь из Владивостока до Москвы. Во время войны для его охраны были присланы зенитные части. Разведчик пролетел над мостом в 1941 году в декабре. Один ночной налет немцы пытались совершить, но был такой сильный заградительный огонь, что они больше не рискнули. Ни одной бомбы немцы так и не сбросили!
Как вы, мальчишки 15–16 лет, объясняли наше поражение в 1941–1942 гг.?
Ну как?! Мы верили, что это из-за того, что напали неожиданно, а потом распространялись слухи и говорили, что командование Западного фронта не справилось с задачей. Всех тонкостей мы тогда не знали. Позже стало известно, что генерал Павлов ни при чем.
Что эта вина целиком ложится на Сталина. Кто же тогда мог знать и говорить. Потом стало ясно.
А как вы вообще относитесь к Сталину?
Сталина нельзя описывать одной краской. Он был великий и в положительных делах, и в прегрешениях. 27 миллионов потерь в войне – это целиком на совести Сталина. И в то же время Сталин взял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой. Это его заслуга.
Авторитет Сталина в армии всегда был очень высоким. Его могли любить или не любить, но одно могу сказать: его уважали. А после победы под Москвой, после Сталинградской битвы и особенно после Курской авторитет Сталина был непререкаем.
Там, где вы жили, были люди, которых репрессировали?
В нашем доме, на одной с нами лестничной площадке жил скромный такой бухгалтер Мицкевич, поляк. В 1941 году его арестовали. И в то же время на заводе Володарского до 1934 года очень много немцев работало, из Германии. Это были грамотные инженеры, помогавшие налаживать производство. Я жил в доме, который назывался «немецким».
Почему?
Потому что там в основном эти немцы жили. И у нас в подъезде жила немецкая семья, старуха-немка. У нее было две дочери: Эмма Яковлевна, которая учила нас немецкому языку, и… А другую вот не помню, как звали. Она тоже преподавала немецкий. А сын был в Красной армии. Потом, в начале войны они куда-то уехали.
Вы хорошо знали немецкий язык?
Когда был в Германии, я разговаривал.
В годы войны чувствовалась помощь союзников?
Роль союзников нельзя отрицать. Я на заводе Володарского (завод № 3) рос. Это был самый крупный после Тульского патронный завод. Понимаете, что такое пули? Их миллионы штук надо. А их делают из металла и меди. Но поскольку у нас в основном металлургические заводы были на Украине, захваченной немцами в 1941 году, наладили быстро американскую поставку латуни для проката металла. Мы и школьниками, и курсантами ходили на Волгу. Помогали разгружать баржи для завода Володарского. Завод работал круглые сутки без выходных. Вот так вот. У меня тетка работала там. Отпускали женщин только на воскресенье, помыться. Питание там скудное было. Хлеб только.
Почему решили поступить в танковое училище?
Воспитание было такое в школе. Нашими героями кто был – Чапаев, Карацупа, пограничник такой, Чкалов. Мы с приятелем хотели быть летчиками. Купили книгу «Ваши крылья», где в популярной форме описываются все принципы пилотирования. Мы изучали ее, но по зрению ни я, ни он не могли попасть в авиацию – у меня от рождения был астигматизм, у него – близорукость. Приятеля взяли 23 февраля 1942 года в училище связи, а мне связистом быть не хотелось.
В мае 1943 года, после окончания десятого класса, аттестат получил в школе и сразу пришел в Ульяновское танковое училище вместе с пятью одноклассниками. Начальником училища был прославленный генерал Кашуба. В Финляндии он потерял ногу. Замечательный человек. Герой Советского Союза. С первого раза никого не взял. Потом, при втором заходе к нему, пятерых взял, а меня не берет, потому что мне только 16 лет. Ну какой я солдат! А ребята за меня заступились.
Я ростом повыше остальных, был командиром класса по военной подготовке. Физически был хорош и учился хорошо. Помог адъютант генерала. Приняли меня.
Вместе со мной сюда поступили и мои одноклассники – Лева Серебряков, Юра Жидков, Паша Зимин, Коля Сафронов и Захаров. С Серебряковым мы после училища попали в один полк. Они были с 1925 года, а я с 1926-го, трое в 1945 году погибли на фронте, а трое остались живы, окончили академию.
Я общался с танкистами, которые учились в 1941–1942 годах. И они рассказывали, что даже ни одного снаряда не выпустили, а их учили на командиров! Только теория. А интересно, как учили в конце войны?
Учились мы на КВ-1С, на командира танка, все шестеро были в одном учебном танковом экипаже. На первых же экзаменах наш экипаж занял первое место в училище. Хотя здесь в основном были фронтовики, школьники – это редкий случай. Преподаватели же все были пожилые люди, не воевали. А когда позже я учился в академии, там уже преподавали молодые люди – фронтовики.
И когда я пришел в танковое училище, нас каждое воскресенье с первым снегом на лыжи ставили. Сначала преодолевали дистанцию на километр, потом на 3, 5, 10… и так до 20 километров. Некоторым было тяжело, а мне это в удовольствие. Мы, шесть человек из нашего класса, сразу заняли первые места по всем видам спорта.
Ульяновское гвардейское танковое училище было образцовым, ведущим танковым училищем. Принцип обучения состоял в том, чтобы после учебы человек не только знал, но и умел. Даже командиров танков обучали разбирать и собирать все агрегаты ходовой части, заменять торсион, балансир на всех видах танков. Заменить гусеницу, каток, отрегулировать зажигание, топливный насос – такие вопросы были и на государственных экзаменах. Мы все это могли сделать своими руками. Поэтому эксплуатация танков во время войны никаких трудностей для нас не представляла. Изучали и немецкую бронетехнику.
Водили очень много. И не только танки КВ, а все танки, которые были в училище: Т-26, БТ-7 и немецкие Т-3 и Т-4. Так что с техникой мы обращались на «ты».
Куда вас отправили после окончания танкового училища?
Мы должны были закончить в мае 1944. Но в декабре 1943 – начале 1944 года выпускают танки ИС-2, и нам добавили еще два месяца для того, чтобы мы их изучили, поэтому закончили только в сентябре 1944 года. 1 октября мне, несовершеннолетнему, присвоили звание младшего лейтенанта. Я был самым молодым офицером.
В октябре в Челябинске сформировали экипажи, и каждый получил танк ИС-2. И тут же выехали под Москву. Прибыли и здесь организовали 89-й отдельный гвардейский танковый полк с четырьмя ротами по пять танков, я попал во вторую. Неделю мы там были, стреляли из ИС-2. Потом нас отправили в распоряжение Первого Белорусского фронта.
Когда ехали на фронт, была своя полковая охрана – сидели в начале эшелона и в конце, и все было организовано, как положено, на всех железнодорожных станциях. Когда перевозили технику зачехленной брезентом, никто не сидел в танках. В середине был вагон, где сидели экипажи.
7 ноября проехали Киев и дальше в леса Белоруссии. И там уже наш танковый полк вошел в состав 5-й ударной армии. Нас приняли очень хорошо, потому что мы были одними из первых, прибывших на ИС-2.
А у вас ИС-2 был с лобовой броней под уклоном? Ствол пушки на марше закрепляли?
Под уклоном – это танк ИС-3. Их мы получили в Германии уже в 1946-м. А в 1945 году мы еще были на ИС-2 с зенитным крупнокалиберным пулеметом ДШК. Во время войны было боевое перемещение, и пушку не закрепляли. Даже на стоянке никогда не фиксировали. Танк же беспомощным тогда становится, а мало ли какая обстановка бывает!
И когда был ваш первый бой?
Первый бой мы приняли в январе 1945 года. Мы в обороне стояли еще. Честно говоря, никого не боялись. А вот интересный случай был. Я в числе первых переходил польско-немецкую границу. И в это время приехал корреспондент. Исторический момент, говорит: немецкую границу перешли. И фотографирует. Подходит начальник особого отдела, капитан и говорит: «Лев (меня всегда везде звали Львом), я тебя сегодня в бою видел. Давай сфотографируемся на память. Ты молодой, генералом будешь…» И сфотографировались. Еще рядом стояли Зуев Коля и советский поляк Матиаш. Со мной учился. И вот мы – три младших лейтенанта и начальник особого отдела сфотографировались.
Особист по фамилии Данилюк был мужик хороший, справедливый и умный.
А что можете сказать о политработнике?
Заместитель командира полка по политической части хороший был. Еще был агитатор полка. Вот два человека, которые рассказывали, что там, как. Мы же газеты не читали!
Лев Петрович, как проходило продвижение наших войск по территории Польши и Германии?
Только мы перешли границу нам задача – на Одер. И вот мы по Польше шли, как немцы в 1941 году. Махина танков идет. Наши танки дивизия не удержит. Ни в какие бои не ввязываемся – некогда! Нас боялись. У Жукова написано, что проходили за сутки до 70 километров. И 29 января 1945 года мы вышли к реке Одер. Подошли, а переправы-то нет.

1 января 1945 года
Немцы все время бомбили возводившуюся переправу на Одере. И мы, чтобы не было прицельного бомбометания, поставили дымовую завесу. Там действительно ничего не было видно. А строителям как работать? Это был тяжелейший труд – забивать сваи в дно реки вручную. Построили первый мост. Десять Т-34 прошли. ИС-2 тяжелее. Но мы, пять танков, переправились. Создали плацдарм, а буквально через три дня лед тронулся, и мост снесло. А снаряды-то каждый день надо. И начали строить второй. А немцы не прекращали бомбить. Это стоило жизни целой бригаде саперов.
А плацдарм-то полтора километра в ширину. Мы там несколько домов заняли. Затем начались бои по расширению плацдарма. После одного боя, который закончился ночью, приехала кухня, стоит. И вдруг в эту очередь подходит немецкий солдат с котелком. Когда бой был, он, видимо, где-то прятался. А тут слышит шум-гам и сам пришел. Потом отправили его в тыл.
При расширении плацдарма погиб мой командир роты. А получилось так. Значит, пять Т-34 из 220-й отдельной танковой бригады и наших пять танков по дороге решили наступать. А немецкие дороги знаете, какие? Никуда – ни вправо, ни влево не свернешь. Связь невозможная. Из-за этого авиация не поддерживала. А в январе вся Польша – сплошное болото. И вот мы по дороге, значит, наступаем, а немцы передний танк подбили, и колонна встала. И все! Дальше никуда. А старшим группы был командир роты Николай Максимов, старый прокурор из Смоленской области. Хороший мужик был. Он мне говорит: «Лев, на рации сиди. Давай я пойду, посмотрю!» Пошел, и его убили.
Передним танком Т-34 управляла механик-водитель Валя Грибалева. И ей оторвало ногу. Она, когда увидела это, – застрелилась на сиденье. А впереди немцы. Ну, кое-как ее вытащили. Вот такой вот случай.
Прорвались потом. Пехота помогла. И на немецкой территории командира роты похоронили, на кладбище. А потом пришла команда перезахоронить на польском берегу, где организовали специальное кладбище. Вот сейчас поляки его и ликвидируют.
Pulsuz fraqment bitdi.