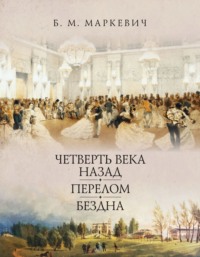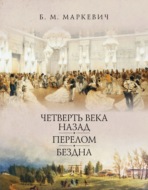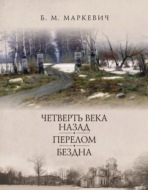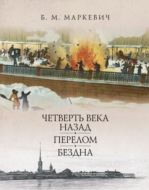Kitabı oxu: «Четверть века назад. Книга 1»
© В. А. Котельников, составление, подготовка текстов, статья, примечания, 2025
© Российская академия наук и издательство «Наука», серия «Литературные памятники» (разработка, оформление), 1948 (год основания), 2025
© ФГБУ Издательство «Наука», редакционно-издательское оформление, 2025
* * *

Б. М. Маркевич. Гравюра А. Зубова.1878 г.
Четверть века назад. Правдивая история (Памяти графа Алексея Толстого)
Часть первая
Увы, где розы те, которые такой
Веселой радостью и свежестью дышали?
Фет1.
А тот, кому я в дружной встрече
Страницы первые читал —
Того уж нет…2
I
Светлым вечером в начале мая 1850-го года дорожная коляска катилась по шоссе по направлению от Москвы к одному из ближайших к ней губернских городов. В коляске, с слугою на козлах, сидели два молодые человека 23–24-х лет, два приятеля, – и вели между собою оживленный разговор:
– Бог знает, что ты со мною делаешь, Ашанин, – говорил полуозабоченно, полуусмехаясь, один из них, светловолосый, с нежным цветом кожи и большими серыми, красивого очерка глазами.
Тот, к которому относились эти слова, был то, что называется писаный красавец, черноглазый и чернокудрый, с каким-то победным и вместе с тем лукавым выражением лица, слывший в то время в Москве неотразимым Дон-Жуаном.
– А что я с тобою, с казанским сиротою, делаю? – передразнивая приятеля, весело рассмеялся он.
– Ну, с какой стати еду я с тобою в Сицкое, к людям, о которых я понятия не имею?
– Во-первых, ты едешь не в Сицкое, а куда тебе следует, – то есть в Сашино, к себе домой, к милейшей тетушке твоей Софье Ивановне, а в Сицкое ты только заезжаешь из дружеской услуги – меня довезти. Во-вторых, сам ты говоришь, – ты князя Лариона Васильевича Шастунова знаешь с детства.
Белокурый молодой человек – звали его Гундуровым – качнул головой:
– Знаю!.. Десять лет тому назад, когда я мальчишкою из дворянского института приезжал на каникулы в Сашино, я его два-три раза видел у тетушки. Важное знакомство!
– Все одно, он с Софьей Ивановной давно и хорошо знаком, а тебя он теперь по твоей университетской репутации знает… Да и я мало ли про тебя всем им говорил зимою!.. Ручаюсь тебе, что примет он вашу милость наилюбезнейшим образом: он вообще благоволит к молодым людям, а тебя тем более оценит по первому же разговору.
– Если бы мы еще к нему собственно ехали, – молвил Гундуров, – так и быть!.. А то ведь он и сам гостит в Сицком. Оно ведь не его?..
– А невестки его, княгини Аглаи Константиновны, – знаю. А князь Ларион – брат ее мужа и опекун ее детей, следовательно, не гостит, а живет по праву в Сицком… А там театр, во всей форме театр, с ложами, говорят, и с помещением человек на четыреста, и княжна Лина, восхитительнейшая Офелия, какую себе может только представить самое пламенное воображение! – горячо расходился чернокудрый красавец.
Приятель его рассмеялся.
– Ну, поскакал теперь на своем коньке! – сказал он.
– И ни чуточки!.. ты знаешь, барышни не по моей части, – это раз, а затем, княжна Лина одно из тех созданий, – есть такие! (какая-то серьезная, чуть не грустная нота зазвучала в голосе Ашанина), – к которому ты с нечистым помыслом и подойти не решишься… и наш брат, отпетый ходок, чует это вернее, чем все вы, непорочные, взятые вместе! Я на нее поэтому вовсе не смотрю как на женщину, а, говорю тебе, единственно как на Офелию…
– И с талантом она, ты думаешь? – спросил Гундуров, невольно увлекаясь.
– Не сомневаюсь, хотя она, как говорила, всего раз играла за границей, в какой-то французской пьесе. Она не может не быть талантлива!
Белокурый молодой человек задумался.
– Воля твоя, любезный друг, – заговорил он нерешительно, – а, согласись ты с этим, очень неловко выходит, что я у совершенно незнакомых мне людей стану вдруг ломаться на сцене?..
– Ломаться! – негодующим кликом воскликнул Ашанин, – играть Гамлета значит у тебя теперь ломаться!.. Это что же, ты из петербургской твоей жизни почерпнул?.. Где же эта горячая любовь к искусству, о которой ты нам постоянно проповедывал? Разве ты не помнишь, как мы с тобою читали Шекспира, как ты не раз говорил мне и Вальковскому, что, если бы не твои занятия, университет, не кафедра, к которой ты готовился, ты бы почел себя счастливым сыграть роль Гамлета, что это было бы для тебя величайшим наслаждением!
– Я и теперь так думаю! – вырвалось у Гундурова.
– Так из-за чего же ты теперь ломаешься?.. Да, – засмеялся Ашанин, – ломанье-то выходит у тебя теперь, а не когда ты выйдешь на сцену!.. И какой еще тебе может лучший случай представиться? Далеко от Москвы, никому неведомо, в порядочном обществе… Кафедра, – ты сам говорил, что после того, как тебе отказали в заграничном паспорте, о ней пока думать нечего!.. Что же, ты киснуть теперь станешь, болеть, самоглодать себя будешь?.. Ведь жить надо, Сережа, просто жить, жи-и-ть! – протянул он, схватывая приятеля за руку, и, наклонившись к нему, ласково и заботливо глянул ему в лицо.
Гундуров пожал его руку и замолчал: он не находил внутри себя ответа на доводы Ашанина.
Он только накануне вечером вернулся из Петербурга, где провел всю зиму и откуда наконец бежал под гнетущим впечатлением испытанных им там недочетов. Вот что с ним было.
Окончив за год перед тем в Москве блистательным образом курс по филологическому факультету, Гундуров, которого университет имел в виду для занятия должности адъюнкта по кафедре славянской филологии, отправился на берега Невы добывать себе заграничный паспорт «в Австрию и Турцию, для изучения» – так наивно прописано было в поданной им о том просьбе – «истории и быта славянских племен». Об этом путешествии, на которое он полагал посвятить три года, он мечтал во все время пребывания своего в университете; «без этого, без живого изучения на месте славянских языков, без личного знакомства с Ганкою, с Шафариком3, с апостолами славянского возрождения, какой я славист, какой я буду профессор!» – основательно рассуждал он… К ужасу его, после нескольких недель ожидания, он был вызван в паспортную экспедицию, где поданная им просьба была возвращена ему в копии, с копиею же на ней следующей резолюции: «Славянский быт» — слово это было подчеркнуто, – «можно изучать от Петербурга до Камчатки»… Гундуров ничего не понял и страшно взволновался; он кинулся ко всем, кого только мало-мальски знал в Петербурге, жаловался, объяснялся, просил… У него был дядя, занимавший довольно видное место в тогдашней администрации; этот достойный сановник пришел, в свою очередь, в ужас, частью от того, что племянник его «губит себя в конец», еще более вследствие такого соображения, что и сам он, Петр Иванович Осьмиградский, тайный советник и директор департамента, может быть, пожалуй, компрометирован, если узнают, что у него есть близкий родственник с таким опасным образом мыслей. – «И в чью голову ты гнешь, какую стену думаешь ты прошибить? – укорял и наставлял он Гундурова. – Сам же себе дело напортил, а теперь думаешь криком поправить! В просьбу, в официальную просьбу ввернул „быт“ какой-то дурацкий! Какой там быт в Турции, и кто в Турцию ездит путешествовать? Понимаешь ли ты, как это могло быть понято?!» Бедный молодой человек совершенно растерялся, – дядя мрачно намекнул ему даже на какую-то черную книгу, в которую он «за невоздержность языка» будто уже успел попасть, благодаря чему ученая карьера навсегда-де для него закрыта. «И ведь нашел же время о какой-то своей славянской науке говорить, – рассуждал Петр Иванович, – когда еще недавно мятежники-венгерцы своего законного государя чуть с престола не ссадили!»4
– То венгерцы, – пробовал возражать Гундуров, – а славяне спасли и престол, и династию Габсбургов…5
Но Петр Иванович только руками махал. «Поступай ты сюда на службу, – это твое единственное спасение!..» Увы, все то, что ни видел, ни слышал Гундуров в Петербурге, служило ему лишь роковым, неотразимым подтверждением доводов дяди. «Какая, действительно, нужна им, а для нас какая возможна наука теперь?» – говорил он себе. Он вспоминал Москву, Грановского6, лучших тогдашних людей – «разве они не в опале, не под надзором, не заподозрены Бог знает в чем?..» Что же, однако, было делать ему с собою? С отчаяния, и поддаваясь внушениям дяди, он поступил на службу. Но он чуть не задохся в невыносимой для него, свежего студента и москвича, духоте петербургской канцелярии: и люди, и то, что они делали там, было для него глубоко, болезненно ненавистно; его тошнило от одного вида синих обложек дел, из которых поручалось ему составить справку; ему до злости противны были желтый рот и обглоданные ногти поручавшего ему составлять эти справки Владимира Егоровича Красноглазова, его ближайшего начальника… Не прошло шести месяцев, и Гундуров, добыв себе свидетельство о болезни, подал в отставку и уехал в Москву…
Тетки его не было в городе, – она еще в апреле-месяце уехала в деревню. Ему нетерпеливо хотелось увидать ее, и он тотчас же собрался ехать в Сашино, не повидавшись ни с кем из московских знакомых. Только Ашанин, его пансионский товарищ и большой приятель, прискакал к нему, узнав случайно о его приезде.
Ашанин, когда-то многообещавший юноша, поступил в университет из дворянского института одновременно с Гундуровым, но на первом же курсе вышел из него, чтобы жениться на какой-то перезрелой деве, которая влюбила его в себя тем выражением, с каким пела она варламовские романсы, а через два года ревнивых слез и супружеских бурь отошла в вечность, оставив его двадцатилетним вдовцом и коптителем неба. Добрейший сердцем и вечно увлекающийся, он жил теперь в Москве, ничего не делая, или, вернее, делая много долгов, в ожидании какого-то никак не дававшегося ему наследства, вечно томясь своим бездействием и вечно не находя для себя никакого занятия, и все время, остававшееся от бесчисленных любовных похождений, отдавал театру и любительским спектаклям, в которых неизменно держал амплуа первого любовника.
Эта страсть еще более, чем пансионская дружба, служила связью между им и Гундуровым. Не менее пылко любил и молодой славист драматическое искусство, но разумея его и выше, и глубже, и строже, чем это делал Ашанин, ценивший театральные произведения прежде всего со стороны их сценической удобоисполняемости. Серьезные, поглощавшие почти все его время в университете занятия по его специальности и боязнь повредить скоморошеством своей молодой ученой репутации заставляли его налагать строгую узду на свои собственные театральные хотения; но он понимал Ашанина, он не раз завидовал ему, его «безалаберной свободе», при которой он, Гундуров, «если бы был на его месте, непременно поставил бы на сцену шиллеровского Валленштейна, шекспировские драмы!..» Ашанин, с своей стороны, находил в этой любви Гундурова к театру как бы оправдание себе и серьезно иной раз, после беседы с ним, возводил в собственных глазах свои упражнения первого любовника на степень действительного дела. Он при этом был самого высокого понятия о способностях, об образованности Гундурова, глубоко уважал его мнение и любил его от всей души.
Он тотчас же со врожденною ему сообразительностью понял, что этот отказ Гундурову в дозволении ехать за границу, неудавшаяся его попытка найти себе другое дело, что весь этот разгром его лучших, чистых, законных желаний припирал приятеля его к стене, оставлял его без выхода, – но что теперь, сейчас, «ничего с этим не поделаешь, никакой изводящей звездочки на небе не высмотришь». Теперь представлялась одна задача: не дать об этом пока думать Гундурову, вызвать его на время из-под гнета впечатлений, вынесенных им из Петербурга, – словом, говорил себе Ашанин, припоминая чью-то шутовскую выходку: «коли без хлеба, так дать хоть маленечко пряничком побаловаться». Пряничек этот тотчас же представился Ашанину в образе любительского спектакля, – единственное «балованье себя», на которое мог согласиться Гундуров, – спектакль, где бы приятель его мог сыграть «хорошую», любезную ему роль, в которую он «ушел бы весь, ушел ото всей этой петербургской мерзости». А тут и случай выходил такой великолепный: княгиня Шастунова, с которою Ашанин познакомился зимою и в доме которой часто бывал, затевала у себя в деревне спектакль, в котором собирались участвовать все почти состоявшие тогда в Москве налицо актеры-любители. Оказывалось при этом, что имение Гундурова, куда он уезжал в тот же день, и Сицкое Шастуновых находились в том же уезде, в каких-нибудь пятнадцати верстах расстояния, что, кроме того, существовали даже старинные добрые отношения между теткою его приятеля, Софьею Ивановною Переверзиною, и владельцами Сицкого… «Да это сама благоволящая к тебе судьба так удачно устроила, – горячо доказывал Ашанин, – ведь подумай, Сережа, там можно будет „Гамлета“ поставить!..»
Он попал, что говорится, в самую жилку. Выйти, попробовать себя в Гамлете, – как пламенно мечтал об этом Гундуров в оны дни! Во всей человеческой литературе он не признавал ничего выше «Гамлета», ни одно великое произведение так глубоко не «забирало» его. Он знал наизусть всю роль датского принца и, бывало, увлекаясь до слез, читал ее в свободные минуты Ашанину и общему их пансионскому товарищу Вальковскому, бедному и малообразованному чиновнику какой-то палаты, но который опять-таки был дорог Гундурову вследствие уже совершенно фанатической любви своей к сцене…
К тому же, поддавался молодой человек на доводы приятеля, ему теперь действительно нужно рассеяться: ведь «с ума же можно сойти, вертясь, как белка в колесе, все на той же мысли: что я с собой буду делать?..» Гундурову было двадцать два года: – «не пропадать же, в самом деле!» – подсказывала ему его здоровая, склонная к энтузиазму натура… Кончилось тем, что он принял предложение Ашанина довезти его к Шастуновым в Сицкое, по дороге к себе в деревню, где ждала его тетка, воспитавшая его, и к которой он был горячо привязан, – «а там увидим… смотря как… я не отказываюсь, но и…»
Ашанину ничего более не нужно было. Он мигом собрался – и друзья наши, пообедав в Троицком трактире и выпив, по предложению Ашанина, бутылку шампанского «во здравие искусства», выехали, не теряя времени, из Москвы.
Они теперь были от нее уже довольно далеко; солнце быстро склонялось на запад…
– Эта твоя княгиня, – заговорил опять Гундуров, – вдова, должно быть, князя Михаила Васильевича Шастунова, что посланником где-то был? Он ведь умер?..
– Два года тому назад. Он оставил дочь и сына-мальчишку. Они все, с князь Ларионом, жили потом в Италии, а нынешнюю зиму провели в Москве. Княжне Лине минет 19 лет; ее вывозили в свет зимою, но она, говорит, на балах скучала. Я им и предложил «театрик», как выражается Вальковский…
– Ах, что Вальковский, где он? – прервал Гундуров.
– У них теперь, в Сицком, – я его познакомил, – с неделю как туда уехал с декоратором, полотном, красками и целою библиотекою театральных пьес, которые как-то умел добыть из Малого театра.
– Он все тот же?
– Неизменен! – молвил, рассмеявшись, красавец. – Все так же груб, та же рожа сорокалетнего верблюда и кабаний клык со свистом и та же страсть с этою рожей играть молодые роли!.. Студента Фортункина мечтает теперь изобразить в «Шиле в мешке не утаишь»7. Можешь себе представить, как мил будет в этом!..
– И ты думаешь, – начал, помолчав, Гундуров, – что «Гамлета» действительно можно будет поставить?..
– Еще бы! Как раз по вкусу хозяйки! Она, видишь ты, непременно хочет «что-нибудь классическое, du Molière ou du Shakespeare8, говорит, все равно, только que се soit sérieux»9. Она, сказать кстати, – молвил рассмеясь Ашанин, – княгиня-то Аглая, – глупа, как курица, а к тому с большими претензиями. Ей смерть хочется, чтобы принимали ее за прирожденную большую барыню, а на ее беду урожденная она Раскаталова, дочь миллионера-откупщика, и рождение-то ее, несмотря что она всегда в свете жила и даже посланницей была, нет-нет, да и скажется… Иной раз вследствие этого у князя Лариона вырываются жесткие слова по ее адресу.
– А что он за человек сам? – спросил Гундуров, – в детстве он мне представлялся всегда каким-то очень важным и суровым.
– Он настоящий барин и редко образованный человек! Он, ведь ты знаешь, занимал большие посты за границей и здесь; долго в большой силе был, говорят. Два года тому назад, в 48-м году, он попал в немилость и вышел в отставку. В то же время умер его брат; он уехал к его семейству, в Италию, – и вот с тех пор живет с ними… Он, кажется, княжну очень любит, но любезную невестушку, видимо, в душе не переносит!.. И понятно: его барской брезгливости должен быть нестерпим этот – как бы тебе сказать? – этот душок раскаталовского подвала, пробивающий сквозь ее английский ess bouquet…10 К тому же… Они, надо тебе сказать, с братом в молодости, – тебе, верно, рассказывала Софья Ивановна? – очень сильно прожились… Шли они по службе очень быстро, состояли при графе Каподистриа11, в дипломатической канцелярии самого Императора Александра12, ездили с ним в путешествия, на конгрессы, – и везде жили барами, игру большую вели… А тут еще Байрон со своею свободой Греции; филэллинами они были13, жертвовали, говорят, на это несметными деньгами… Старик отец их, екатерининский генерал-аншеф, друг князя Потемкина14, с своей стороны, счета деньгам не знал. Словом, распорядились они втроем так прекрасно, что все их шастуновское княжество с молотка бы пошло, если бы князь Михайло, по приказанию отца, не женился на распрекрасной Аглае. Ее миллионами все было выкуплено; но и она не будь глупа, хотя и была, как кошка, влюблена в мужа, а это его и князь Лариона имение, – старик-князь тут же кстати и помер, – выкупила все на свое имя. Муж, таким образом, очутился по состоянию в ее зависимости, а князь Ларион остался бы, почитай, без гроша, если бы не наследовал полуторы тысячи душ от матери, которая не жила с его отцом и умерла католичкой, в каком-то монастыре в Риме… Князь Михайле жена его, говорят, внушала полное отвращение, тем более что она всю жизнь преследовала его своими нежностями… Все одно, что меня моя покойница, – комически вздохнул красавец, – с тою разницею только, что моя просто пела мне: «люби меня, люби меня!», а Аглая своему мужу припевала еще к этому: «я любовь твою купила», и никак не хотела помириться с тем, что этот купленный ею товар никак не давался ей в руки… А князь Михайло был, говорят, человек прелестный, необыкновенно счастливый в женщинах. Аглая бесилась, умирала от ревности, чуть не по начальству жаловалась, всячески компрометировала своего мужа. Долгое время, говорят, супружество их было ад сущий… Но года за два до смерти он вдруг изменился, впал в haute dévotion15, как это было с его матерью, и сблизился с женой христианского смирения ради… Ну, с князь Ларионом – другая песня! – засмеялся Ашанин. – Перед этим сама она должна смириться…
– Они что же, в Москве теперь станут жить по зимам? – заинтересовался Гундуров.
– Поневоле! Княгине-то смерть хочется в Петербург, – да не решается. Князь Ларион ни за какие сокровища не поедет теперь в этот «ефрейторский город» – как он однажды выразился при мне; – ну, а одной ей там поселиться – не выходит! Личных связей у ней никаких там, разумеется; к тому же с замужества все за границей жила, кто ее там из петербургских в Ганновере помнит! Богата она очень, могла бы дом открыть… Но, первое, денег она без особого расчета кидать не любит; а затем, деньгами Петербург не удивишь, надо там еще чего-то, – и она это хорошо понимает. Что в Петербурге за открытый дом, куда Двор не ездит? Ну-с, а этого она могла бы достигнуть единственно чрез князя Лариона, если бы он был в прежнем положении. Вот она и молится о нем денно и нощно: «пошли ему, Господи, поменьше гордости, а свыше побольше к нему милости», – и, в ожидании исполнения желаний, возит скрепя сердце дочь в московский свет, который почитает не стоящим внимания уже потому, что «dans tout Moscou, говорит она, il n’y а pas l’ombre d’un жених pour ша fille…»16
– Удивительный ты человек, Ашанин, – заметил, улыбаясь, его спутник, – чтобы про каждого, куда только вхож, всю подноготную разузнать!..
Ашанин весело пожал плечами:
– И не стараюсь, само как-то в уши лезет. У Шастуновых живет одна немолодая особа девического звания, Надеждой Федоровной Травкиной прозывается, весьма неглупая и, знаешь, это особый род старых дев: ирония снаружи и тщательно скрываемая, бесконечная сентиментальность внутри… Она князю газеты читает и пользуется вообще известным значением в доме… На первых же порах моего знакомства с ними стал я замечать, что она по мне втайне млеет, – такое уж у меня счастие на этих особ! – и Ашанин поднял глаза к небу… – Что же, однако, думаю, пусть себе млеет, меня от того не убудет… Стал я ее, знаешь, поощрять. Она мне всю закулисную про этот дом и выложила… И вот эту самую Надежду Федоровну, – заключил он, – я заставлю теперь королеву Гертруду сыграть; отлично сыграет, ручаюсь тебе!..
– А Клавдио кто бы мог? – заволновался опять Гундуров.
– Разумеется, Зяблин; так и смотрит театральным злодеем!
– Ты – Лаерта?
– Или Горацио, мне все равно. Пусть Лаерта лучше сыграет Чижевский – он с жарком актер. А мне роли поменьше учить!..
– Вальковский – Полония!
– Не выгорит у него, боюсь, – закачал головою Ашанин, – он его сейчас шаржем возьмет… А там у них, слышно, есть местный актер превосходнейший – исправник, Акулин по фамилии, отставной кавалерист; так вот его надо будет попробовать. Дочь у него также отличная актриса, говорят, институтка петербургская, – и с прелестным голосом, хоть оперу ставь, говорят…
Друзья опять заговорили о «Гамлете», об искусстве… Юный, бывалый восторг накипал постепенно в душе Гундурова. «Что же, не пропадать в самом деле», – все громче говорилось ему. Ему не дозволяют быть ученым, – он не в состоянии сделаться чиновником… Но ведь вся жизнь впереди; он не знает, что будет делать; но он не сложит рук, не даст себя потопить этим мертвящим волнам, он найдет… А пока он уйдет, как говорит Ашанин, от всего этого гнета, от тревог жизненной заботы в волшебный, свободный мир искусства; он будет переживать сладостнейшие минуты, какие дано испытать человеку: его устами будет говорить величайший поэт мира и человечнейший изо всех когда-либо созданных искусством человеческих типов. Погрузиться еще раз в его бесконечную глубину, стих за стихом проследить гениальные противоречия этой изумительно сотканной паутины, немощь, безумие, скептицизм, высокий помысл, и каждой черте дать соответствующее выражение, найти звук, оттенок, жест и пережить все это в себе, и воспроизвести в стройном, поразительном, животрепещущем изображении, – о, какой это великолепный труд и какое наслаждение!..»
И Гундуров, надвинув покрепче от ветра мягкую шляпу на брови, уютно уткнувшись в угол коляски, глядел разгоревшимися глазами на бежавшее вдаль сероватою лентой шоссе, с подступившими к нему зелеными лугами, только что обрызганными какою-то одиноко пробежавшею тучкою… Все те же неслись они ему навстречу, с детства знакомые, с детства ему милые картины и встречи. По влажной тропке, за канавкою, идет о босу ногу солдатик, с фуражкою блином на затылке, с закинутыми на спину казенными сапогами; кланяются проезжим в пояс прохожие богомолки в черных платках, подвязанных под душку17, с высокими посошками в загорелых руках; лениво позвякивает колокольчик обратной тройки, со спящим на дне ямщиком, и осторожные вороны тяжелым взмахом крыл слетают с острых груд наваленного по краям дороги щебня… А солнце заходит за кудрявые вершины недальнего лесочка, и синими полосами падают от него косые тени на пышные всходы молодой озими… 18-И солнце, и тени, и эта волнующаяся тихая даль родной стороны, и теплые струи несущегося навстречу ветра, – все это каким-то торжествующим напором врывалось в наболевшую «в петербургской мерзости» душу молодого человека и претворялось в одно невыразимо сладостное сознание бытия, в беспричинное, но неодолимое чаяние какого-то сияющего впереди, неведомого, но несомненного счастия…
Он с внезапным порывом обернулся к товарищу:
– Жить надо, а? Жить, просто жить… так, Ашанин18?
– И наслаждаться! – ответил ему тот пятью звучными грудными нотами в нисходящей гамме, – и тут же сразу затянул во всю глотку старостуденческую песню:
Gaudeamus igitur,
Juvenes dum su-umus19.
– Что, хорошо? – засмеялся он в ответ на смеявшийся же взгляд обернувшегося на эти звуки ямщика, – это, брат, по-нашенски: валяй по всем, пока кровь ключом бьет!..
– Ах вы, соколики! – тут же, мигом встрепенувшись на козлах, подобрал разом четверку такой же, как и Ашанин, черноглазый и кудрявый ямщик, – и коляска, взвизгнув широкими шинами по свеженастланной щебенке, понеслась стремглав под гору и взлетела на пригорок, словно на крыльях разгулявшегося орла…
На другой день, рано утром, приятелей наших, сладко заснувших под полночь, разбудил старый слуга Гундурова. Они подъезжали к Сицкому.