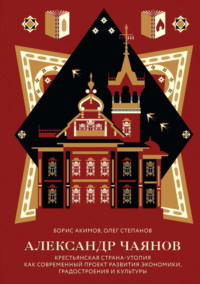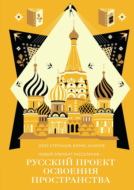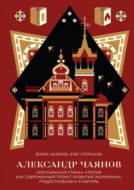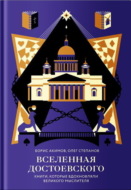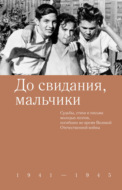Kitabı oxu: «Александр Чаянов. Крестьянская страна-утопия как современный проект развития экономики, градостроения и культуры»

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

Серия «Русское пространство-2062»

В книге сохранены точность и полнота информации по цитируемой литературе, предоставленные издательству авторами. Частные мнения авторов и их респондентов могут не совпадать с позицией редакции.

© ООО ТД «Никея», 2025
© АНО Центр «Никея», 2025
© Акимов Б.А., Степанов О.В., 2025
Предисловие
Что такое «Россия 2062», кто такой Александр Васильевич Чаянов, почему мы считаем его одним из мыслителей русского будущего, и как устроена эта книга?
«Какой тип расселения людей в идеальной России будущего вам кажется наиболее верным?» 72 % из более чем пяти тысяч человек, участвовавших в опросе проекта «Россия 2062», ответили, что им ближе всего идея более равномерного расселения людей по стране и активное собственное участие в освоении наших почти бесконечных пространств. Кажется, что именно сейчас, после всех драматических событий 20-х годов XXI века, Россия как никогда близка к началу новой жизни. Жизни, где не мегаполис, а совершенно иной тип расселения станет социальным фундаментом будущей реальности.
Меня зовут Борис Акимов. Вместе с моим другом Олегом Степановым мы придумали проект «Россия 2062». Теперь уже почти с сотней мыслителей, визионеров, экспертов, ученых мы строим образы русского будущего. И это не такое будущее, которое нам предлагают футурологи, которое должно случиться вне зависимости от нашего желания, некое «объективное» будущее. Мы строим то будущее, в котором мы хотим жить сами, в котором хотим поселить своих близких, друзей, всех вас, читатель. Мы верим, что будущее не спускается к нам по чьему-то велению, мы сами активно его приближаем своей мыслью и деятельностью или, наоборот, безыдейностью и бездеятельностью.
Мы часто в «России 2062» говорим, что истинная суверенность – это суверенность семиотическая или гуманитарная. Политический, экономический, технологический суверенитет – все это только продолжение возможности мыслить особенно, по-своему, по-русски.
В нашем «пантеоне» русского будущего есть немало отечественных мыслителей, которые формировали тот самый особый русский взгляд на мир. И очень многие их идеи стали со временем только актуальнее. Вместе с издательством Никея мы с «Россией 2062» придумали серию «Русское пространство-2062», в рамках которой выходит шесть книг. И в центре каждой – концепции и мыслители русского прошлого, ставшие крайне актуальными для русского будущего. Один из русских философов, который пока не попал в нашу серию, Владимир Соловьев как-то в прекрасной притче выразил идею того, что такое настоящий прогресс: «Когда мы берем прошлое и идем с ним в будущее».
Герой этой книги Александр Васильевич Чаянов – безусловный участник «пантеона» «России 2062», автор нашего с вами русского будущего. В будущее возьмут не всех, но Чаянов уже там. Хотя родился в 1888 году, и был расстрелян в 1937 году. Экономист, специалист в области сельского хозяйства, социолог, замечательный писатель-фантаст, государственный деятель, эксперт, как бы сейчас сказали, в области кооперации. А еще у Чаянова была большая библиотека, считавшаяся у библиофилов одним из лучших частных собраний. Чаянов известен своими романтическими и фантастическими книгами: «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии», «История парикмахерской куклы», «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей», «Венецианское зеркало, или Удивительные похождения стеклянного человека», «Необычайные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина».
Художественные его работы, как пишут многие литературоведы, вдохновляли Михаила Булгакова. Вообще, биография Чаянова еще ждет своего летописца и толкователя.
Мы же в этой книге займемся другим. Мы «подсветим» некоторые идеи Александра Васильевича. Главным образом те, что касаются новых принципов организации пространства и расселения в России. Эти идеи выражены среди прочего и в художественной прозе – в повести «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». Именно этот текст Чаянова представлен в нашей книге.
Кроме того, частью данной работы станут тексты: мои и моего друга и коллеги по «России 2062» Олега Степанова. А так же наши с ним беседы с сегодняшними практиками «чаяновского будущего». Это предприниматели, архитекторы, активные творческие люди очень разных увлечений и профессий, которые, не дожидаясь будущего, собственной жизнью уже сейчас доказывают реализм чаяновской мысли.
Мегаполис должен быть разрушен
Борис Акимов о любви к Чаянову и экзистенциальных причинах будущего расселения городов
«Россия – самая большая страна в мире» – заученная фраза из школьного учебника. Какое отношение это утверждение имеет именно ко мне? Если я средний житель этой самой современной России, то, скорее всего, живу в большом городе и до последнего времени чаще бывал где-то за пределами страны, чем в Сибири, на Кольском полуострове, в Курганской или Еврейской автономной области (Это где вообще?). И – хвала небесам – с развитием внутреннего туризма я, средний россиянин из большого города, где-то уже и побывал. И тут же вернулся обратно: к себе в малогабаритную квартиру в многоэтажке спального района мегаполиса.
Между тем, связь между самой большой страной мира и мною, средним жителем России, самая прямая. И меня, и Россию создали наши предки, люди, населявшие нашу страну на протяжении тысячи лет – с момента образования первого русского государства. В этом смысле я и самая большая страна в мире – ближайшие родственники.
Александр III говорил: «У России нет друзей, нашей огромности боятся… У России только два надежных союзника – ее армия и ее флот». Обычно внимание обращают на ту часть, где про союзников и армию, но «огромность» тут даже важнее. Потому как все остальное есть именно следствие «огромности». Размер имеет значение. Для России размер – это ключевая характеристика, именно она, а точнее причины этой «огромности» – фундаментальная наша черта, то, что делает нас русскими. То, что превратило нас в особый мир, особую цивилизацию, у которой свой путь, пусть тесно связанный с Европой, но свой, особенный.
А что это за причина огромности? Это тяга русского человека к освоению пространства. Наши предки столетиями (!) двигались в разные стороны, пока не дошли до мировых океанов. Советские историки любили объяснять все с позиций диалектического марксизма: мол, народу нужна была пушнина или лес или руда – вот они и шли. Или еще любят говорить о том, что это все «вольные люди» бежали от сурового княжеского-царского-императорского-советского режимов. Конечно, нет. Истинные причины больших событий невозможно объяснить исключительно материалистически и позитивистски. Всегда есть и значительные глубинные онтологические причины. Пространства ли сформировали русского человека или это русский человек сформировал эти пространства – не суть важно. Ясно, что со временем это превратилось во что-то единое и неотделимое. Русский человек и русское пространство. Огромная страна была построена по воли массы людей. Это не начальники отправляли подданных в прекрасное далеко, очень часто было наоборот: подданные шли в это самое далеко и приносили потом начальникам территории как факт. «Нате, владейте!»
XIX век вместе с окончательной победой промышленной революции и советской власти принес повальную урбанизацию. Советский проект, конечно, был глобалистским проектом. И в этом смысле мы, как часто бывает, были впереди планеты всей. Мы попытались построить свою глобалистскую вселенную на основе мировой революции и идей всемирного советского государства лет за сто до того, как это начал делать либерализм. Вместе с идеей социальной справедливости глобального масштаба мы начали усиленно строить города – как центры по созданию новых советских людей.
Когда же мы попрощались с советской властью и кинулись в объятья Запада (объятья, как быстро стало понятно, удушающие), то наша мощнейшая урбанизация XX века показалась чем-то очень логичным и верным. Ну, как же – вот и на Западе мегаполисы растут, а значит, правильной дорогой идем. Как «весь цивилизованный мир».
Отсюда родилась вся демографическая, градостроительная и социально-экономическая политика постсоветской России и родилась. Сначала стихийно, а потом как результат оформленных стратегий развития страны, мы продолжали вывозить жителей России из деревень и малых городов в крупные городские агломерации. Еще лет десять назад у нас вполне официально провозглашалась идея создания нескольких мегаполисов по всей стране и расселения малых территорий в связи с их «экономической нецелесообразностью». Сейчас ситуация заметно лучше, но пока исключительно на уровне слов и программ. Идеи освоения Дальнего Востока, Арктики и т. д. – символы иного дискурса. Но пока только символы. На деле процессы оттока населения в мегаполисы продолжаются, а иногда и ускоряются. Увидеть вживую это можно в любом спальном районе большого города. Особенно в Москве, где «человейники» растут с каждым годом все быстрее.
Сейчас мы находимся в состоянии войны с «коллективным Западом», боремся за возможность свободного пути для страны. А что это значит на деле? Мы ведем национально-освободительную войну и, в первую очередь, за освобождение территории собственного рассудка. Деоккупация нашего сознания – вот фундамент нашей свободы. Научимся мыслить по-русски – обретем гуманитарный или семиотический суверенитет. Если грубо, то мир устроен совсем не так, как нас учили «оттуда». У нас – как и у других центров мировых цивилизаций – есть право и даже обязанность смотреть и осмыслять мир по-своему, согласно тем традициям и ценностям, которые есть сама суть наша.
Сейчас очень много говорят о русской цивилизации, о многополярности, о суверенитете. Но это все общие слова. Они станут реальностью только через конкретные дела. Шаги, которые мы с вами вместе сделаем для того, чтобы стать свободными. И в основе этого сложного пути – как раз наша с вами сегодняшняя тема. Мы должны освободить свои мозги от западноцентричной концепции тотальной урбанизации и мегаполизации.
У моего любимого Александра Васильевича Чаянова, мыслителя, писателя, экономиста, государственного и кооперативного деятеля начала 20-го века, есть повесть «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». В 1920 году Чаянов описывает Россию 1984 года (Привет, Оруэлл!), где победила крестьянская партия и все мегаполисы и города свыше десяти тысяч человек расселены. Понятно, что и Чаянов в художественном произведении выдавал свои идеи в некоторой абсолютной чистоте, на то она и утопия. Но у любой глубокой утопии есть много практических и причин, и последствий. Мы сейчас находимся в ситуации, когда нужно всем читать Чаянова и не бояться радикальных образов и мыслей – не столько для того, чтобы их привести немедля в жизнь, а для того, чтобы научиться мыслить иначе. Иначе, чем нас учили наши «европейские учителя».
Наши урбанисты и градоначальники, которые как под копирку из западных учебников говорят о «городах – сервисах», уже показали, кого собственно такие города-сервисы воспитывают. Это «креативный класс», для которого вместо понятия Родина есть урбанистический организм, который должен мне как жителю предоставлять услуги. Если услуги этого организма мне кажутся какими-то недостаточными, я просто меняю один мегаполис на другой, и совсем неважно где он находится.
Миссия мегаполиса как успешного международного центра воспитать космополита, гражданина мира, лишенного чувства национальной и культурной принадлежности. Собственно, все то, что случилось после начала СВО, показало эффективность такого урбанистического подхода. Креативный класс массово съехал из страны, а кто не съехал – крепко сел в тихую оппозицию.
А это значит, что иная политика расселения по стране сегодня не только дело фундаментальное и стратегически важное с точки зрения «возвращения домой», освобождения нашего общего сознания от западных ментальных конструкций. Деурбанизация – это еще и важнейший шаг к воспитанию тех, кто снова сможет ощутить Родину как практическое пространство собственной жизни. Пространство, которое с одной стороны является возможностью для творческого труда и созидательного освоения, а с другой – такое, о котором ты заботишься, как об имманентной части себя.
Мы пойдем своим путем. Россия будет свободной. Мегаполис должен быть разрушен.
Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии
Повесть Александра Чаянова
«Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» – утопическая повесть Александра Чаянова, написанная в 1920 году. Аннотация произведения того времени гласила:
«Алексей Кремнев – старый социалист и крупный советский работник накануне полной отмены и запрещения семейной жизни размечтался с томом Герцена в руках. И в это время в комнате запахло серой, и перенесло Алексея Кремнева из утопии социалистической в утопию крестьянскую».
Глава первая,
в которой благосклонный читатель знакомится с торжеством социализма и героем нашего романа Алексеем Кремневым
Было уже за полночь, когда обладатель трудовой книжки N 34713, некогда называвшийся в буржуазном мире Алексеем Васильевичем Кремневым, покинул душную, переполненную свыше меры большую аудиторию Политехнического музея.
Туманная дымка осенней ночи застилала уснувшие улицы. Редкие электрические фонари казались затерянными в уходящих далях пересекающихся переулков. Ветер трепал желтые листья на деревьях бульвара, и сказочной громадой белели во мраке Китайгородские стены.
Кремнев повернул на Никольскую. В туманной дымке она, казалось, приняла свои былые очертания. Тщетно кутаясь в свой плащ от пронизывающей ночной сырости, Кремнев с грустью посмотрел на Владимирскую церковь, часовню Пантелеймона. Ему вспомнилось, как с замиранием сердца он, будучи первокурсником-юристом, много лет тому назад купил вот здесь, направо, у букиниста Николаева «Азбуку социальных наук» Флеровского, как три года спустя положил начало своему иконному собиранию, найдя у Елисея Силина Новгородского Спаса, и те немногие и долгие часы, когда с горящими глазами прозелита рылся он в рукописных и книжных сокровищах Шибановского антиквариата – там, где теперь при тусклом свете фонаря можно было прочесть краткую надпись «Главбум».
Гоня преступные воспоминания, Алексей повернул к Иверским, прошел мимо первого Дома Советов и потонул в сумраке московских переулков.
А в голове болезненно горели слова, обрывки фраз, только что слышанных на митинге Политехнического музея: «Разрушая семейный очаг, мы тем наносим последний удар буржуазному строю».
«Наш декрет, запрещающий домашнее питание, выбрасывает из нашего бытия радостный яд буржуазной семьи и до скончания веков укрепляет социалистическое начало».
«Семейный уют порождает собственнические желания, радость хозяйчика скрывает в себе семена капитализма».
Утомленная голова ныла и уже привычно мыслила, не думая, сознавала, не делая выводов, а ноги машинально передвигались к полуразрушенному семейному очагу, обреченному в недельный срок к полному уничтожению, согласно только что опубликованному и поясненному декрету 27 октября 1921 года.
Глава вторая,
повествующая о влиянии Герцена на воспаленное воображение советского служащего
Намазав маслом большой кусок хлеба, благословенный дар богоспасаемой Сухаревки, Алексей налил себе стакан уже вскипевшего кофе и сел в свое рабочее кресло.
Сквозь стекла большого окна был виден город, внизу в туманной ночи молочными светлыми пятнами тянулись вереницы уличных фонарей. Кое-где в черных массивах домов тускло желтели освещенные еще окна.
«Итак, свершилось, – подумал Алексей, вглядываясь в ночную Москву. – Старый Морис, добродетельный Томас, Беллами, Блечфорт и вы, другие, добрые и милые утописты. Ваши одинокие мечты стали всеобщим убеждением, величайшие дерзания – официальной программой и повседневной обыденщиной! На четвертый год революции социализм может считать себя безраздельным владыкой земного шара. Довольны ли вы, пионеры-утописты?»
И Кремнев посмотрел на портрет Фурье, висевший над одним из книжных шкафов его библиотеки.
Однако для него – самого старого социалиста, крупного советского работника, заведующего одним из отделов Мирсовнархоза, как-то не все ладно было в этом воплощении, чувствовалась какая-то смутная жалость к ушедшему, какая-то паутина буржуазной психологии еще затемняла социалистическое сознание.
Он прошелся по ковру своего кабинета, скользнул взором по переплетам книг и неожиданно для себя заметил вереницу томиков полузабытой полки. Имена Чернышевского, Герцена и Плеханова глядели на него с корешков солидных переплетов. Он улыбнулся, как улыбаются при воспоминаниях детства, и взял с полки том павленковского Герцена.
Пробило два часа. Часы ударили с протяжным шипением и снова смолкли.
Хорошие, благородные и детски наивные слова раскрывались перед глазами Кремнева. Чтение захватывало, волновало, как волнуют воспоминания первой юношеской любви, первой юношеской клятвы.
Ум как будто освободился от гипноза советской повседневности, в сознании зашевелились новые, небанальные мысли, оказалось возможным мыслить иными вариантами.
Кремнев в волнении прочел давно забытую им пророческую страницу: «Слабые, хилые, глупые поколения, – писал Герцен, протянут как-нибудь до взрыва, до той или другой лавы, которая их покроет каменным покрывалом и предаст забвению летописей. А там? А там настанет весна, молодая жизнь закипит на их гробовой доске, варварство младенчества, полное недостроенных, но здоровых сил, заменит старческое варварство, дикая свежая мощь распахнется в молодой груди юных народов, и начнется новый круг событий и третий том всеобщей истории.
Основной тон его можно понять теперь. Он будет принадлежать социальным идеям. Социализм разовьется во всех фазах своих до крайних последствий, до нелепостей.
Тогда снова вырвется из титанической груди революционного меньшинства крик отрицания и снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побежден будущей, неизвестной нам революцией».
«Новое восстание. Где же оно? И во имя каких идеалов? – думалось ему. – Увы, либеральная доктрина всегда была слаба тем, что она не могла создать идеологии и не имела утопий».
Он улыбнулся с сожалением. О вы, Милоновы и Новгородцевы, Кусковы и Макаровы, какую же утопию вы начертаете на ваших знаменах?! Что, кроме мракобесия капиталистической реакции, имеете вы в замену социалистического строя?! Я согласен, мы живем далеко не в социалистическом раю, но что вы дадите взамен его?
Книга Герцена вдруг с треском захлопнулась сама собой, и пачка фолиантов упала с полки.
Кремнев вздрогнул.
В комнате удушливо запахло серой. Стрелки больших стенных часов завертелись все быстрее и быстрее и в неистовом вращении скрылись из глаз. Листки отрывного календаря с шумом отрывались сами собой и взвивались кверху, вихрями бумаги наполняя комнату. Стены как-то исказились и дрожали.
У Кремнева кружилась голова, и холодный пот увлажнял его лоб. Он вздрогнул, и в паническом ужасе бросился к двери, ведущей в столовую, и дверь с треском ломающегося дерева захлопнулась за ним. Он тщетно искал кнопку электрического освещения. Ее не было на старом месте. Передвигаясь в темноте, он натыкался на незнакомые предметы. Голова кружилась и сознание мутнело, как во время морской болезни. Истощенный усилиями, Алексей опустился на какой-то диван, никогда не бывший здесь раньше, и сознание его покинуло.
Глава третья,
изображающая появление Кремнева в стране Утопии и его приятные разговоры с утопической москвичкой об истории живописи XX столетия
Серебристый звонок разбудил Кремнева.
– Алло, да, это я, – послышался женский голос. – Да, приехал, очевидно, сегодня ночью… Еще спит… Очень устал, заснул не раздеваясь… Хорошо, я позвоню.
Голос смолк, и шуршание юбок указало, что его обладательница вышла из комнаты.
Кремнев приподнялся на диване и протер в изумлении глаза. Он лежал в большой желтой комнате, залитой лучами утреннего солнца. Мебель странного и неизвестного Алексею стиля из красного дерева с зелено-желтой обивкой, желтые полуоткрытые занавеси окон, стол с диковинными металлическими приборами окружали его. В соседней комнате слышались легкие женские шаги. Скрипнула дверь, и все смолкло.
Кремнев вскочил на ноги, желая дать себе отчет в случившемся, и быстро подошел к окну.
На голубом небе, как корабли, плыли густые осенние облака. Рядом с ними немного ниже и совсем над землей скользили несколько аэропланов, то маленьких, то больших, диковинной формы, сверкая на солнце вращающимися металлическими частями.
Внизу расстилался город… Несомненно, это была Москва.
Налево высилась громада кремлевских башен, направо краснела Сухаревка, а там вдали гордо возносились Кадаши.
Вид знакомый уже много-много лет.
Но как все изменилось кругом. Пропали каменные громады, когда-то застилавшие горизонт, отсутствовали целые архитектурные группы, не было на своем месте дома Нирензее. Зато все кругом утопало в садах… Раскидистые купы деревьев заливали собою все пространство почти до самого Кремля, оставляя одинокие острова архитектурных групп. Улицы-аллеи пересекали зеленое, уже желтеющее море. По ним живым потоком лились струи пешеходов, авто, экипажей. Все дышало какой-то отчетливой свежестью, уверенной бодростью.
Несомненно, это была Москва, но Москва новая, преображенная и просветленная.
– Неужели я сделался героем утопического романа? – воскликнул Кремнев. – Признаюсь, довольно глупое положение!
Чтобы ориентироваться, он стал осматриваться кругом, рассчитывая найти какой-нибудь отправной пункт к познанию нового окружающего его мира.
– Что ожидает меня за этими стенами? Благое царство социализма, просветленного и упрочившегося? Дикая анархия князя Петра Алексеевича? Вернувшийся капитализм? Или, быть может, какая-нибудь новая, неведомая ранее социальная система?
Поскольку можно было судить из окна, было ясно одно: люди жили на достаточно высокой ступени благосостояния и культуры и жили сообща. Но этого было бы еще мало, чтобы понять сущность окружающего.
Алексей с жадностью стал рассматривать окружавшие его вещи, но они давали весьма мало.
В большинстве это были обычные вещи, выделявшиеся только тщательностью своей отделки, какой-то подчеркнутой точностью и роскошью выполнения и странным стилем своих форм, отчасти напоминавших русскую античность, отчасти орнаменты Ниневии. Словом, это был русифицированный Вавилон.
Над диваном, где проснулся Кремнев, очень глубоким и мягким, висела большая картина, привлекшая его внимание. С первого взгляда можно было уверенно сказать, что это классическая вещь Питера Брейгеля-старшего. Та же композиция с высоким горизонтом, те же яркие и драгоценные краски, те же коротенькие фигурки, но на доске были написаны люди в цветных фраках, дамы с зонтиками, автомобили, и, несомненно, сюжетом служило что-то вроде отлета аэропланов. Такой же характер носили несколько репродукций, лежавших на соседнем столике.
Кремнев подошел к большому рабочему столу, сделанному из чего-то вроде плотной коробки, и с надеждой стал рассматривать разбросанные по столу книги. Это были 5-й том «Практики социализма» В. Шер’а, «Ренессанс кринолина, опыт изучения современной моды», два тома Рязанова «От коммунизма к идеализму», 38-е издание мемуаров Е. Кусковой, великолепное издание Медного всадника», брошюра «О трансформации В-энергии», и наконец его рука, дрожа от волнения, взяла номер свежей газеты.
Волнуясь, Кремнев развернул небольшой лист. На заголовке стояла дата 23 часа вечера 5 сентября 1984 года. Он перемахнул через 60 лет.
Не могло быть сомнения, что Кремнев проснулся в стране будущего, и он углубился в чтение газетного листа.
«Крестьянство», «Прошлая эпоха городской культуры», «Печальной памяти государственный коллективизм…», «Это было во времена капиталистические, то есть во времена доисторические…», «Англо-французская изолированная система» – все эти фразы и десятки других фраз пронизывали мозг Кремнева, наполняли его душу изумлением и великим желанием знать.
Телефонный звонок прервал его размышления. В комнате рядом послышались шаги. Дверь распахнулась, и вместе с потоком солнечных лучей вошла молодая девушка.
– Ах, вы уже встали, – весело сказала она. – Я проспала вчера ваш приезд.
Звонок повторился.
– Простите, это должно быть, брат беспокоится о вас. Да, он уже встал… Не знаю, право. Сейчас спрошу. Вы говорите по-русски, господин… Чарли Мен, если не ошибаюсь.
– Конечно, конечно! – неожиданно для себя и очень громко воскликнул Алексей.
– Говорит, и даже с московским акцентом. Хорошо, я передам трубку.
Растерявшийся Кремнев получил в свои руки нечто, напоминавшее телефонную трубку старого времени, услышал привет, сказанный мягким басом, обещание заехать за ним в три часа, уверение в том, что сестра позаботится обо всем, и, кладя аппарат, осознал вполне, вполне отчетливо, что его принимают за кого-то другого, кому имя Чарли Мен.
Удача способствовала ему. Первое же письмо, им взятое, было подписано Чарли Меном, и в нескольких фразах его излагалось желание посетить Россию и ознакомиться с ее инженерными установками в области земледелия.
Pulsuz fraqment bitdi.