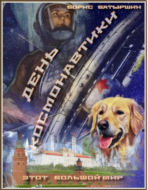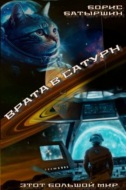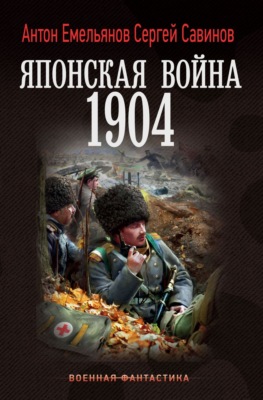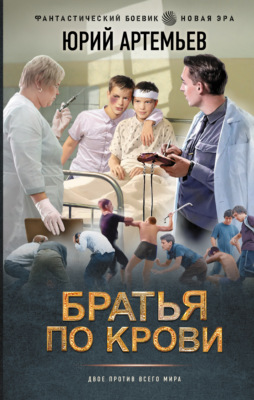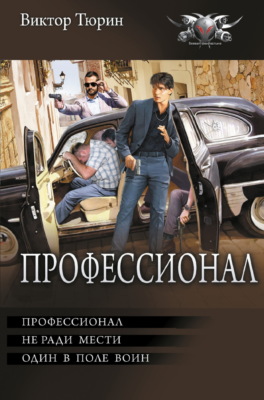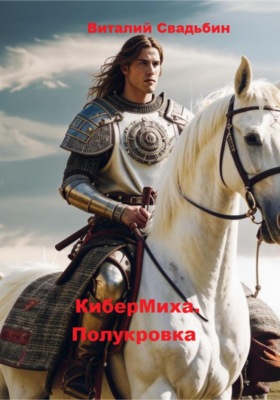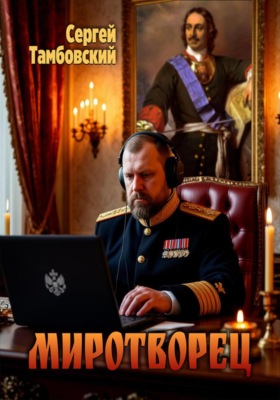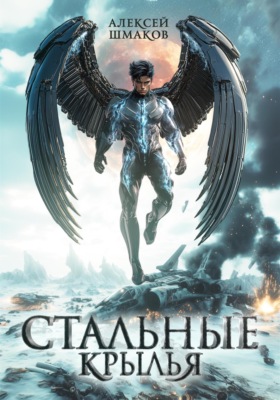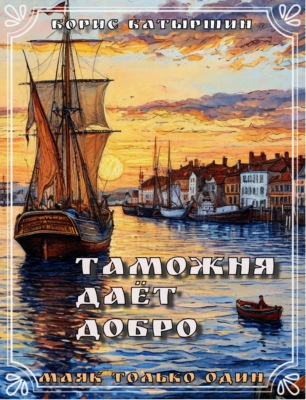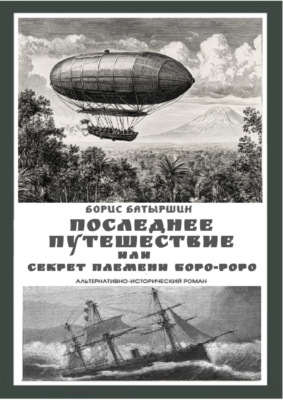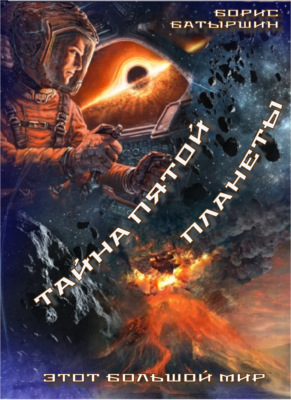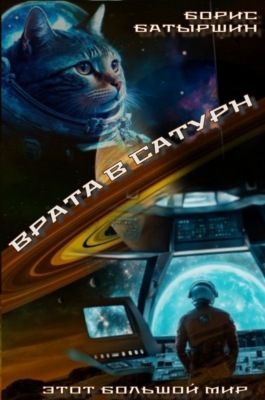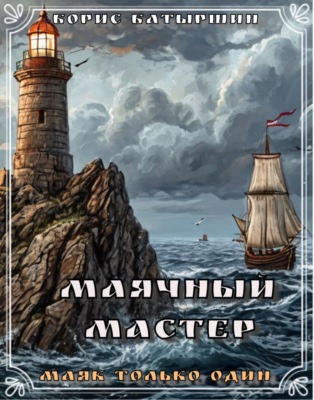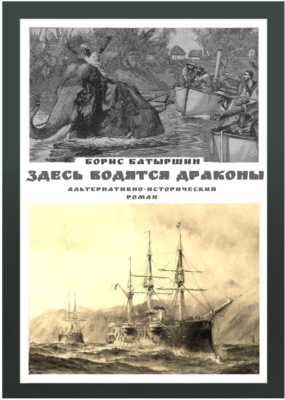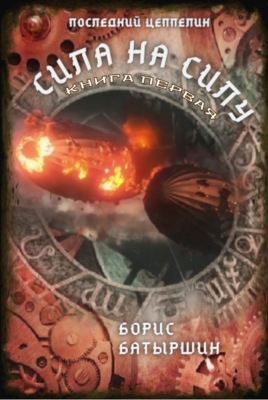Kitabı oxu: «Дети Галактики», səhifə 2
И если не получится отыскать его на Земле – так ведь есть ещё бесконечный Космос, полный таинственной жизни и разума, и невиданных прежде возможностей.
Пожалуй, в оставленной мной реальности из всех видов культуры только научная фантастика смогла объединить человечество хотя бы подобием общей мечты. Одни верили в грядущее торжество коммунизма; другие мечтали о новом, звёздном Фронтире, осваивая который можно было бы невиданно разбогатеть; третьи грезили о встречах с братьями по разуму, четвёртые… перечислять можно долго, но у всех оставалась надежда на лучшее будущее.
Но ведь здесь всё именно так и происходит – вплоть до того, что в дали замаячила тень внеземной, древней и могучей цивилизации, создавшей когда-то сеть «звёздных обручей», и чьим наследием мы сейчас пользуемся! Вот и Земле: и призрак ядерной войны вроде бы отступил, и нищета, голод, несправедливость, в которых существовало большинство обитателей планеты, если не исчезли вовсе, то подразжали когти. Так что надежда в этом мире есть отнюдь не только на страницах научно-фантастических произведений.
Может, именно поэтому я почти перестал читать НФ? Ограничиваюсь тем, что порой перечитываю самые любимые книги – ищу в них совпадения с «текущей реальностью», – а, кромке того, стараюсь отслеживать произведения знакомых авторов под знакомыми по «той, другой» жизни названиями, но вышедшими после моего «попаданства», а главное – после того, как «батутные» технологии позволили человечеству двинуться во Внеземелье.
Делаю я это для того, чтобы сравнить «обновлённые» версии произведений с теми, что памятны мне по предыдущей жизни, и в последнее время всё реже и реже. Интерес пропал – расхождения настолько велики, что от исходной версии уже мало что остаётся; ну а фантастики, самой, что ни на есть, научной, мне и в реальной жизни хватает с избытком.
По сути, я и живу внутри фантастического произведения – во всяком случае, с точки зрения оставленного мной двадцать первого века. Знать бы ещё, кто его автор… Может, у И.О.О. спросить – вот кто, как мне кажется, должен знать наверняка…»
Так вот, об И.О.О., о его реплике насчёт песенки об аргонавтах – пущенной на прощание, наподобие парфянской стрелы. Я припомнил тот самый первый раз, когда спел эту песенку. Дело было год назад, в мае – тогда, через несколько месяцев после рождения нашего первенца, мы с Юлькой решили позволить себе небольшой отдых – и, спихнув заботы об отпрыске на родителей, и взвалив на спины основательно набитые рюкзаки, отправились на Ярославский вокзал, где и погрузились в пригородную электричку, идущую до города Александрова…
****
В мае шестьдесят седьмого года вблизи подмосковной станции Петушки прошёл первая конференция любителей самодеятельной песни. Именно тогда и родилась знаменитая аббревиатура – КСП, Клуб Самодеятельной Песни.
В те годы вся страна пела песни самодеятельных авторов – бардов, как их стали называть позже – Булата Окуджавы, Юрия Визбора, Александра Городницкого, Ады Якушевой, Юлия Кима и многих других. Частенько поющие – а происходило это у костров в турпоходах и в альплагерях, на кухнях городских квартир в студенческих общежитиях, в балках геологических экспедиций и пароходных каютах – понятия не имели, чьи песни они исполняют, так же, как и те, кто пришёл в движении позже. Да и неважно это было – песни пели, им охотно подтягивали, и это, конечно, было главное.
Вскоре возникло и явление выездных слётов; устраивавшие их клубы тяготели обычно к ВУЗам или турклубам, и число мероприятий росло, как на дрожжах.
Примечательно, что процесс этот проходил в обоих знакомых мне мирах почти одинаково – разве что, в том, где я нахожусь сейчас, обошлось без опалы, в которую КСП угодили в середине семидесятых годов. Хотя и здесь незарегулированность самодеятельной песни воспринималась партийным руководством без восторга, – но всё же обошлось без вызовов КСПшных активистов в деканаты и парткомы с последующими отчислениями и прочими местечковыми репрессиями.
Главное же оставалось тем же: романтика лесных слётов, поляны и рощи, сплошь покрытые палатками и кострами, самодельные, накрытые брезентом, полиэтиленом, а то и куполом старого парашюта сцены, с которых звучало то, что и дало название этому сугубо советскому явлению – самодеятельная, она же бардовская песня.
Под гитары, маракасы, реже блок-флейты, скрипки, аккордеоны, даже банджо – но всегда с душой, с теплотой и не без толики фронды, неизменной спутницы подобных молодёжных сообществ. Впрочем, следует признать, что в этой версии реальности фронда ощущается куда слабее.
В «той, другой» жизни я примеривал на себя брезентовую, исписанную надписями и облепленную эмблемами слётов штормовку КСПшника. Пик увлечения пришёлся как раз на начало восьмидесятых, и я хорошо помнил именно этот, двадцать шестой слёт московского КСП, состоявшийся в этом самом месте, на большой поляне близ деревни Илтарь, Ростовского района Ярославской области. И когда ребята-инструктора из молодёжной группы Центра Подготовки завели при мне разговор о планирующейся поездке на слёт, я сразу понял – хочу!

Сказать, что они удивились, когда я попросил взять меня и Юльку на это мероприятие, – означало сильно преуменьшить произведённый эффект. Видимо, от сурового покорителя системы Сатурна, первопроходца Пояса Астероидов такого не ожидали, и легко согласились не распространяться о том, кто на этот раз упал им на хвост. Не меньше их удивилась и Юлька – она, конечно, была знакома с бардовскими песнями и подпевала, когда я брался за гитару, – но чтобы отправляться за тридевять земель, чтобы слушать те же песни посреди поля, возможно, под дождём? Тем не менее, она согласилась, и смирилась с тем, что ехать предстояло на электричке, а не на нашем любимом «Пежо» – я специально настоял на этом, уверяя, что дорога туда и обратно, хоть и сопряжена с некоторыми неудобствами, но составляет важную часть того, что называют «духом бардовской песни».
За компанию с нами напросился и Юрка-Кащей – и не один, а со скрипачкой Мира. Увидев эту парочку на перроне Ярославского вокзала (навьюченная рюкзаком Мира, прижимала к груди футляр с инструментом – тем самым, что побывал с ней в системе Сатурна и ещё в десятке других мест, от Японских островов до орбиты планеты Марс), я едва не спросил: понимают ли они, на что подписались? Но сдержался – чай, не дети, люди бывалые, тёртые и битые Внеземельем, как-нибудь переживут и это…
****
…Как аргонавты в старину
Родной покинув дом,
Поплыли в дальнюю страну
За Золотым Руном.
Так ныне манят нас к себе
Другие города.
Мечты о злате-серебре
На долгие года…
Нет, я не собирался лезть на сцену с гитарой. Был бы это кустовой слёт – тогда ещё куда ни шло, но на общемосковском мероприятии полно народу, выступления расписаны наперёд. Так что гитару я взял в кругу, у костра, где мы сидели, попивая чаёк. Наши спутники относились к кусту «МИФИ», едва ли не старейшему в московском КСП, и я с удивлением узнал среди сидящих Мишу Никитина, с которым познакомился ещё в «той, другой» жизни на этом самом слёте. Спустя четверть века Михаил стал (а может, и здесь станет?) руководителем клуба самодеятельной песни МИФИ – а сейчас до выпуска ему то ли год, то ли два, и он вместе с остальными он сидит у костра рядом со своей постоянной напарницей Танечкой Морозовой. И когда он передал мне пущенную по кругу гитару – пришлось соответствовать.
…Вот так, когда-то, блудный сын,
Оставив дом отца,
Со свиньями стал жить, как свин,
У чуждого крыльца.
Искала рай в чужом краю,
Заблудшая душа.
Но даже прежний свой уют
Она там не нашла…
Песню я выбрал, поскольку был уверен, что здесь она ещё неизвестна. То есть первые строки – «Как аргонавты в старину…» – знают многие: Джек Лондон, в чьих книгах они мелькают, весьма популярен в СССР, а вот остальное придумано в двадцать первом веке. Автора я не помню, и до сих пор не могу понять, почему, взяв гитару, я стал наигрывать именно эту мелодию. Может, дело было в несоответствии слов песни с нынешним моим мироощущением – уж кем-кем, а заблудшей душой я себя точно не считал.
Плывут дракары и ладьи
За лучшею судьбой.
Но лучше нету той судьбы,
Чем на земле родной.
В ладу со всеми быть людьми,
В родной своей семье.
Плывут драккары и ладьи…
Всем хочется, и мне!..
Неожиданная встреча подхлестнула память. Я стал вспоминать, что ведь и стоянка наша была где-то поблизости, и сидел я тогда в кругу студентов-физиков – а по той тропинке мы пошли к сцене, когда прозвучал сигнал к началу концерта…
…В свой звёздный путь когда-нибудь
Сподоблюсь плыть и я,
Познав Космическую Суть
И Вечность бытия…
Но если вдруг придёт беда,
Бой будет впереди.
С земли родимой никогда
Умри, но не сходи!..

Не то чтобы мне не нравились эти слова. Как раз наоборот, нравились, но… не отсюда они, не о том, что важно для ребят и девчонок, собравшихся у этого костра. В «тех, других» восьмидесятых уже состоялись «гонки на лафетах», уже запахло в воздухе перестройкой и гласностью, и для многих людей этот душок был сигналом к скорому краху СССР. А что началось потом, в девяностых и нулевых… Да, тем, кто вырос в те недобрые времена, строки безвестного автора были понятны, – но сейчас-то всё по-другому!
А потому, когда меня в следующий раз попросили спеть эту песню (дело было через пару недель после слёта, во время очередных посиделок в общаге Центра Подготовки), я вместо четырёх ограничился двумя куплетами – зато переделанными мной самим. В таком виде песня разошлась и стала популярной настолько, что дала название готовящейся экспедиции к далёкому астероиду 33 Полигимния. Так что выходит, я покривил душой, когда в ответ на вопрос И.О.О. открестился от авторства.
…Как аргонавты в старину
Родной покинув дом,
Поплыли в дальнюю страну
За золотым руном,
Вот так и нас зовёт вперёд
Далёкая звезда,
И пусть затянется полёт
На долгие года…
…В тот звёздный путь когда-нибудь
Смогу уйти и я,
Стремясь познать Вселенной суть
И Вечность бытия.
И если вдруг гроза, беда,
Тьма встанет впереди,
С дороги этой никогда
Умри, но не сойди!..
IV
– Тебе уже приходилось пользоваться этой штукой? – Нет, это будет первый раз. – Серёжа помотал головой. – Вообще-то нас трое должно сегодня отправиться, но ребят задержали, что-то с оформлением командировки…
Шадрин ухмыльнулся.
– В космос мотаемся, как в соседний город на автобусе, нуль-Т вот придумали, как в книжках братьев Стругацких, – а бюрократии меньше не становится! И, похоже, нескоро станет…
«Нуль-Т», «нуль-порталом» или, если использовать официальное название, «транспортировкой с нулевым временным интервалом», – именовалось новое поколение «космических батутов», недавно введённых в эксплуатацию. В отличие от прежних, установленных в «дырках от бубликов» орбитальных станций и тахионных планетолётов, нуль-порталы предполагалось ставить внутри космических объектов и терминалов наземных батутодромов – таких, как в зале ожидания которого и пребывали сейчас Серёжа Лестев и планетолог Шадрин.
Собственно, это была первая на планете действующая установка такого рода – не экспериментальная, а предназначенная для регулярного пассажирского сообщения. «Ответный» нуль-портал стоял на станции «Гагарин», которую для этого пришлось радикально перестроить, переоборудовать и поднять с низкой орбиты на геостационарную. Сейчас станция висела в зените, над подмосковным Королёвым; по ночам её можно было даже разглядеть невооружённым глазом в виде крошечной звёздочки пятой величины.
Табло над проходом, ведущим к порталу, засветилось зелёным. Из динамика зазвучал женский голос: «Пассажирам с номерами 61, 62 и 63 проследовать по коридору отправления. Остальных просьба дожидаться своей очереди. Приносим извинения за незначительные задержки…»
Словно как в обычном аэропорту, подумал Серёжа, только там объявляют номера рейсов, а здесь – персональные номера отбывающих пассажиров. Тахионное зеркало пропускает по три человека за один раз; инструкция, которую отбывающим повторяют, по меньшей мере, трижды (и это не считая розданной брошюры), требует входить в нуль-портал одновременно или с минимальными промежутками. Тех, кто замешкается, ожидают неприятные ощущения: сильнейший приступ головокружения, тошноты и потери равновесия, после чего они ткнутся носом в металлическую стену позади портала, никуда, разумеется, не отправившись.
Разработчики обещают, что в следующем поколении нуль-порталов эти недостатки будут устранены, и пользоваться ими смогут хоть инвалиды, хоть пенсионеры – но сейчас с неудобствами приходилось мириться.
По мнению Серёжи, дело того стоило: проще немного сосредоточиться перед входом в нуль-портал, чем тратить уйму времени на посадку в орбитальный лихтер, а по прибытии на станцию пробираться в невесомости по переходной трубе шлюза с багажом на буксире…

Двое парней лет семнадцати-восемнадцати с рюкзачками, украшенными эмблемами «юниорской» программы, торопливо поднялись с кресел, надвинули на глаза тёмные очки-консервы и прошли в коридор. Багажных тележек у них не было. Из динамика дважды прозвучал призыв к отставшему пассажиру с номером «62»; наконец он появился и, едва не спотыкаясь на бегу, скрылся в коридоре.
Торопиться, подумал Серёжа, и есть с чего – пропустивший свою очередь долго ещё не улетит. Порядок отбытия расписан на сутки вперёд, разве что кто-то не явится и можно будет занять его место, но для этого придётся часами торчать в терминале, ожидая оказии и проклиная собственную нерасторопность…
Табло мигнуло и погасло. Коридор осветился сиреневым сполохом, из динамика прозвучал музыкальный сигнал, табло снова вспыхнуло – на этот раз красным.
Денис огляделся, недовольно буркнул под нос и плюхнулся в кресло. Извлёк из-за отворота куртки маленькую книжку в пёстрой мягкой обложке и погрузился в чтение. На спутника он больше не смотрел. Серёжу такое невнимание не задело – наоборот, он даже был ему рад. Узнав, что на «Гагарин» предстоит отправиться в обществе Шадрина (проездные документы выдавали в Центре Подготовки вместе с командировочным предписанием и прочими бумагами), он насторожился. После знакомства на Энцеладе и прошёл не один год, но в памяти были болезненно свежи придирки и подколки, которыми Шадрин донимал стажёров из их группы…
Впрочем, узнав, что перелётом с Земли на орбиту их встреча и ограничится, Серёжа успокоился: его спутнику предстояло принять под своё начало научно-исследовательскую группу тахионного планетолёта «Арго», его же самого ожидало кресло пилота-стажёра на «Заре». Для Серёжи это была выпускная стажировка, после которой… впрочем, есть ли смысл гадать? Без дела, важного, интересного, по-настоящему увлекательного он не останется, как и прочие его однокашники по пилотскому факультету Академии Внеземелья, первый выпуск которой должен состояться в этом году.
Табло под потолком оставалось жёлтым – ожидание затягивалось.
На факультете поговаривали, что пройдёт совсем немного времени, и люди смогут перемещаться через нуль-порталы не только с поверхности Земли на орбиту и обратно, но и по самой планете. Но пока это были только мечты – тяготеющая масса твёрдой материи оставалась непреодолимым препятствием для создаваемой тахионными зеркалами «червоточины», нужна была свободная, ничем не нарушаемая линия от «передатчика» к «приёмнику». Даже кратковременное появление на ней препятствия – скажем, самолёта или космического корабля – способно повлиять на стабильность «червоточины». Поэтому перед каждым переходом маршрут зондируется пучком радиолучей или мощным лазерным импульсом.
Динамик ожил: «Просьба пассажиров с номерами 64 и 65 проследовать в зал предстартовой подготовки». Серёжа торопливо вскочил, за ним поднялся и Шадрин, запихивая книгу за пазуху. Они пошли по жёлтому пунктиру, нанесённому на пластиковые плиты пола, и, завернув за угол, оказались в низком зале, по стенам которого тянулись ряды «Скворцов».
Гермокостюмы стояли в нишах, словно безголовые статуи или рыцарские доспехи в зале старинного замка. Белые, с поднятыми затемнёнными забралами шлемы пристроены рядом, на полочках; у ног стоят плоские серебристые чемоданчики, утыканные шлангами и жгутами кабелей – индивидуальные контейнеры жизнеобеспечения.
На то, чтобы натянуть свой «Скворец» Серёже, опытному космическому путешественнику, понадобилось меньше пяти минут (четыре сорок две по настенному табло с секундомером), и он с удовлетворением отметил, что спутник провозился минуты на две дольше его. Оно, впрочем, и понятно: планетологов вряд ли изнуряют постоянными тренировками и упражнениями, имитирующими аварийные ситуации на борту, когда нужно как можно быстрее облачаться в гермокостюм, доведя эту операцию до полного автоматизма.
Строго говоря, сейчас эта мера предосторожности была излишней: пассажирам нуль-портала не было необходимости оказываться в переходной трубе шлюза. Но Серёжа и Шадрин сразу по прибытии на «Гагарин» должны были отправиться дальше – один на пассажирский лихтер для переброски к Марсу, другой на малый корабль орбитальных сообщений – и предпочли облачиться в гермокостюмы заранее. Конечно, надеть «Скворцы» можно было и на «Гагарине», но с тех пор, как станция стала главным транзитным узлом всех пассажирских сообщений Внеземелья, время прибытия на ней старались свести к минимуму. Так что избавиться от гермокостюмов одному предстояло в шлюзе «Китти-Хок», а другому – на марсианской орбитальной станции «Скьяпарелли».
Парадокс ситуации заключался в том, что Серёжа проделает эту операцию на несколько часов раньше Шадрина: погрузка в лихтер, прыжок через «батут» до «Скьяпарелли» и последующая швартовка должны занять от силы час. Пассажирскому же челноку предстояло добираться до пункта назначения на ионной тяге – а это без малого восемнадцать тысяч километров полёта в обычном («евклидовом», как говорили работники Внеземелья) пространстве.
Наконец процедура облачения в «Скворцы» была завершена. Молчаливый инспектор проверил крепления шлемов, индикаторы заряда батарей и давление в кислородных баллонах, скрытых в чемоданчиках. Их Серёжа с Шадриным поставили на тележки поверх багажа. Табло под потолком засветилось жёлтым; отбывающие синхронно опустили забрала шлемов. Сияние тахионного зеркала могло повредить глаза, поэтому обычным пассажирам выдавали защитные очки.

Створка люка отъехала вбок, открывая длинный коридор, в конце которого уже мелькали сполохи рождающегося тахионного зеркала. Из динамика раздались электронные писки. Отбывающие прошли по коридору (тон звуковых сигналов становился выше, отмеряя секунды, отведённые на переход), и остановились перед красной чертой поперёк коридора.
Фиолетовая плёнка в рамке нуль-портала уже успела сформироваться и шла кругами, словно поверхность маленького пруда, в центр которого кинули камень. Жёлтые лампы под потолком одна за другой вспыхнули зелёным. Серёжа и планетолог, как того требовала заученная наизусть инструкция, толкнули в портал багажные тележки. Дождались, когда обе скроются, досчитали до пяти и одновременно шагнули в лиловое свечение.
Шаги закончились уже на другой стороне; тележки остановились в метрах трёх впереди, а за спиной плясали фиолетовые сполохи гаснущего нуль-портала.
****
– Значит, ваше хозяйство в полном порядке, готовы к отлёту?
В ответ Шадрин пожал плечами.
– Моряки говорят: ремонт и покраска на корабле никогда не начинаются и никогда не заканчиваются. Полагаю, к планетолётам, тем более таким крупным, как «Арго», это тоже относится… до некоторой степени. А если серьёзно – осталось закончить кое-какие монтажные работы, и можно подписывать сдаточный акт.
С планетологом мы встретились сразу после их с Серёжкой Лестевым прибытия с Земли. Увы, пообщаться с бывшим подопечным толком не вышло. Мы едва успели переброситься десятком слов, как по трансляции объявили, что лихтер к станции «Скьяпарелли» отправлялся через полчаса.
Мы с Шадриным тоже не задержались на «Гагарине» – погрузились на корабль приорбитальных сообщений, который вот-вот должен был стартовать по направлению к Земле, где на низкой орбите кружила орбитальная верфь «Китти-Хок», самое грандиозное рукотворное сооружение во всём Внеземелье. Если, конечно, не считать титанического «звёздного обруча», обнаруженного в Поясе Астероидов – но кто сказал, что у его создателей вообще были руки?
– Это ПУБЗы, что ли? – спросил я, показывая на массивный, лоснящийся маслом агрегат. – Не знал, что их поставили на «Арго», вроде и незачем?
ПУБЗы, установки для запуска бомбозондов, были знакомы мне по исследовательскому рейду к спутнику Сатурна Титану. Тогда я помогал Диме Ветрову обслуживать эти громоздкие устройства, похожие на разросшиеся автоматические миномёты «Василёк» (даже разрабатывали их в том же тульском КБ). Выпускаемые из них снаряды изначально предназначались для изучения атмосфер планет, прежде всего газовых гигантов, и было непонятно, зачем тащить их в Пояс Астероидов, где по определению нет ни одного объекта, обладающего хотя бы подобием атмосферы.
– Я тоже поначалу удивился, – отозвался планетолог. – Оказывается, в ИКИ разработали новые бомбозонды – они будут взрываться на поверхности астероида, а мы потом с помощью спектроскопа получим данные о составе поднятой пыли.
– Понятно. – кивнул я. – Тот же принцип, что у ЛСКП, только там вместо бомбозонда используется лазерный луч, который испаряет лёд с поверхности. Пользовался я такой штукой, приходилось…
– По электрическим червякам стрелять? – Шадрин усмехнулся. – Как же, наслышаны… Нам-то, надеюсь, не придётся использовать бомбозонды в качестве оружия. А жаль, любопытно было бы попробовать…
Я покосился на собеседника. Мы сидели в ложементах, установленных в длинном, похожем на салон междугороднего автобуса отсеке, где нам и предстояло провести следующие восемь часов. За иллюминаторами неспешно поворачивался огромный тор станции «Гагарин», утыканный по наружному, служебному обручу антеннами, фермами причалов, похожими на детские кубики, штабелями грузовых контейнеров.
– И в кого вы, Денис, если не секрет, собираетесь там стрелять бомбозондами? – спросил я, добавив в голос толику яда. То, что мне при всяком удобном случае напоминают о том лунном сафари, одно время развлекало, но потом стало раздражать – кому понравится, когда к тебе приклеивают ярлык ковбоя, который сначала стреляет, а потом думает, куда? Шадрин, безусловно, это знал – не так уж много народу работает в Внеземелье, все знакомы, все всё друг о друге знают, – и, тем не менее, позволил себе этот намёк.
– Прилетим – увидим, – отозвался он. Лицо его, обращённое к иллюминатору, озарилось лиловым.
– Очки наденьте, глаза испортите, – посоветовал я. Смотреть в иллюминатор мне не хотелось, зрелище вспыхивающего тахионного зеркала давно стало для меня рутиной. – А насчёт ПУБЗов, то не думаю, что они нам понадобятся в этой миссии. Полигимния – не Венера, не Сатурн и даже не Титан; подойдём на буксировщиках, отшвартуемся, и собирайте образцы, сколько влезет.
Денис не ответил – прилип к иллюминатору, расплющив, словно мальчишка, нос о толстенное стекло. Там, в нескольких километрах от нас, пульсировала в дырке огромного металлического бублика светящаяся мембрана, а над ней разворачивался орбитальный лихтер с каравелловцем Серёжкой Лестевым на борту.
Сигнальные прожекторы, установленные по периметру кольца станции, мигнули, лихтер стрельнул прозрачными струйками выхлопов из маневровых дюз и поплыл к «зеркалу».
Приблизившись, он коснулся его и стал тонуть в лиловой энергетической плёнке, чтобы возникнуть в полутораста миллионах километров отсюда.
Я отвернулся от иллюминатора, поворочался, устроившись поудобнее в ложементе, и поднял глаза к информационному табло. Зеленые светящиеся цифры показывали четверть первого – очередной рабочий день Внеземелья начался.

V
– Хороший аппарат сделали японцы! – похлопал буксировщик по боку я. – Да и предыдущая их модель, «ика», была вполне себе ничего – маневренная, скоростная, и запас хода приличный, не чета «омарам»…
Японская корпорация «Мицубиси», выпустившая несколько лет назад небольшую серию кальмароподобных буксировщиков «ика», не захотела терять рынок после громкого фиаско «Фубуки» и предложила свои услуги Проекту «Великое Кольцо». Предложение было принято – освоение Внеземелья шло ударными темпами, требовалось всё, а буксировщики в особенности. Эти маленькие универсальные агрегаты использовались повсюду – и при монтаже крупных космических объектов, и в обслуживании грузоперевозок, и в ремонтных работах. В особенности же они были востребованы при работе на малых планетах и астероидах, объём которых с некоторых пор стал расти, как снежный ком.

Инженеры-конструкторы «Мицубиси» назвали своё творение «Зеро» – в честь другого шедевра компании, палубного истребителя А6М времён Второй Мировой Войны. Что за намёк содержался в этом, журналисты, особенно американские, гадали до сих пор; я же, как и другие пилоты малых аппаратов, принял новинку вполне доброжелательно. Во Внеземелье же «Зеро» почти сразу переименовали в «холодильник» – за прямоугольный корпус, в самом деле, чрезвычайно напоминавший бытовой агрегат. «Холодильник», как и большинство современных моделей буксировщиков, был двухместным – пилот помещался в кормовой части, за спиной оператора, и смотрел на окружающий мир через три больших квадратных иллюминатора. Обзор передней сферы обеспечивал панорамный экран; что касается его напарника, то он полусидел-полулежал, вытянувшись вдоль вертикальной оси аппарата и просунув голову в полусферический колпак-блистер на торце, между четырьмя расположенными крестом щупальцами-манипуляторами – для лучшего обзора ложемент можно было развернуть по оси аппарата и изменить угол наклона.
В общем, «холодильник», несмотря на примитивный до нелепости внешний вид (кое-кто усматривал в нём проявление минимализма, свойственного японской культуре), действительно был хорош – прочный, маневренный, с приличной тягой и солидным запасом хода. Он быстро завоевал популярность во Внеземелье, составив конкуренцию продукции французской аэрокосмической корпорации «Марсель Дассо», специализировавшейся на малых космических аппаратах вообще и буксировщиках в частности. Мне, как командиру приданного экспедиционного звена малых кораблей, тоже полагался такой аппарат, но я предпочёл новинке другую модель.
– Твой буксировщик во втором ангаре, – сообщил Поляков. – Вчера только доставили – стоит, ждёт законного владельца. Сейчас пойдёшь смотреть?
Моим «персональным» аппаратом был старичок «краб», модифицированный под персональные запросы владельца. Дорабатывали буксировщик в саратовском филиале «Марсель Дассо» под моим чутким руководством. В результате агрегат если и напоминал исходную модель, то лишь внешне. Он по-прежнему состоял из трубчатой рамы, увешанной агрегатами и емкостями со сжиженными газами, с вертикальным ложементом посредине. Но имел увеличенную, по меньшей мере, втрое тягу, дополнительные баки с топливом для маневровых и маршевых двигателей, а также лишнюю пару гибких щупалец-манипуляторов, снятых с японского «ика» и оснащённых креплениями для навесного оборудования.
Прозрачного герметичного колпака, позволяющего пилоту работать в буксировщике без скафандра – в одном только гермокостюме, – не было. В целом, самоделка получилась чрезвычайно удачной, и в «Марсель Дассо» уже задумались о запуске «суперкраба» в ограниченную серию – для таких, как я, ветеранов монтажных работ во Внеземелье, предпочитающих обзор и защиту в виде прозрачного колпака. Впрочем, в этом случае защита была весьма иллюзорной, и я в этом не раз убеждался. К тому же такая конструкция позволяла быстро отстегнуться от буксировщика, что давало массу дополнительных возможностей – разумеется, если пилот хорошо владел навыками работы в пустоте и невесомости. Я владел.
– Ладно, пошли, – я согласно кивнул Андрею. – Лошадка требует хозяйской руки, вот и займусь, пока есть время. Только сперва зайдём в хозяйство Шадрина – хочу взглянуть на его «бомбовый погреб» своими глазами. А то вдруг, и правда, стрелять придётся…
Я на прощание похлопал «холодильник» по белой, слегка выпуклой бочине и вместе с капитаном «Арго» выплыл из ангара.
****
Из записок Алексея Монахова
«…если хочешь спать в уюте – спи всегда в чужой каюте…» – эта истина, бесспорная для моряков, во Внеземелье не работает. Где бы человек ни проводил свободное время – в своей каюте или чужой, в столовой, рекреационном холле или в кают-компании, – в любой момент может зажужжать кольцо персонального браслета, требуя добраться до ближайшего терминала внутрикорабельной связи и узнать, кому и зачем ты понадобился. Абонент недоступен для связи только за пределами корабельной брони – скажем, в вакуум-скафандре, или в кокпите буксировщика. Но кому придёт в голову прятаться там, чтобы обеспечить себе час-другой, если не уюта, то хотя бы покоя? Так что, если хочешь работать во Внеземелье, – придётся смириться с тем, что на корабле или ином космическом объекте, включая лунные и марсианские поселения, ты всегда на виду. Диспетчер в курсе, где кто находится – положение любого человека, неважно, члена экипажа, пассажира или туриста, отмечено светящейся точкой на специальной схеме – и может достучаться до каждого, если в этом возникнет необходимость.
Всё правильно, во Внеземелье иначе и нельзя, – но как же это выматывает! Недаром психологи из департамента нашего общего знакомого И.О.О. считают, что это ежесекундное ожидание вызова, вместе с невозможностью полного уединения хотя бы на короткое время, является одним из главных факторов, доводящих до нервного истощения здоровых, крепких, полных сил людей, вынуждая списывать их «на берег», к зелёной травке и голубому небу, где никто не сможет сорвать человека с места и бежать, сломя голову, навстречу очередному вороху проблем.

Снимать браслет нельзя – разве что в душевой кабине и не более чем на четверть часа. По истечении этого срока он начнёт призывно мигать и жужжать, одновременно на пульте у диспетчера вспыхнет тревожная лампочка, требующая немедленно выяснить, в чём дело. Такое случается, конечно, особенно у новичков, – и каждый раз влечёт за собой неприятности по административной линии. Однажды такая досадная коллизия произошла и со мной. Дело было на станции «Скьяпарелли», где я проходил практику после окончания третьего курса Школы Космодесантников. Тогда я много чего наслушался от своего непосредственного начальника и руководителя практики, Жана-Лу Кретьена. Француз был тогда на «Скьяпарелли» начальником отряда малых кораблей и вместо того, чтобы внести в личную карточку нерадивого практиканта запись о серьёзном дисциплинарном нарушении, решил самолично устроить ему выволочку – что и сделал с чисто галльской язвительностью. Да, дисциплина во Внеземелье – не просто требование, это образ жизни, почти религия, и персональные браслеты являются обязательным её элементом.