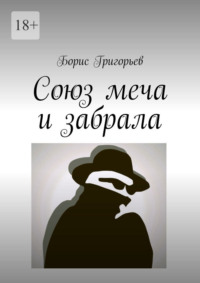Kitabı oxu: «Союз меча и забрала»
Редактор Сергей Мишутин
© Борис Григорьев, 2025
ISBN 978-5-0065-5691-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
СОЮЗ МЕЧА И ЗАБРАЛА
Сцены из столичной жизни в постперестроечную эпоху
Памяти
Ильи Ильфа и Евгения Петрова
посвящается
Предисловие редактора
С Борисом Николаевичем Григорьевым я познакомился в период работы над интернет-проектом «Молодость в сапогах», точнее, он сам нашел нас и предложил для публикации свои тексты. Наведя справки и ознакомившись с предоставленными материалами, мы, честно говоря, были озадачены – уровень известного писателя-историка, ветерана СВР, чьи книги пользовались бешенной популярностью в Швеции, переводились на другие языки и были знакомы нам по серии ЖЗЛ, явно не соответствовал нашей скромной самодеятельности. Проще говоря, мы посчитали для себя за честь и редкую удачу присоединение к нашему коллективу Б. Н. Григорьева. С тех пор прошло более двух лет…
Роман «Союз меча и забрала» Борис Николаевич долго держал при себе. И это понятно. Только прочитав все его книги, отдельные рассказы и статьи, написанные для нашего проекта, поговоривши лично в непринужденной домашней обстановке, я понял, о чем этот роман.
Возможно, и вам, уважаемые читатели, кое-что станет ясно, если вы поинтересуетесь содержанием сборника рассказов Б. Н. Григорьева «Третья древняя, или И один в поле…» или книги, написанной в соавторстве с бывшим шведским контрразведчиком Туре Фошбергом «Так кто был кто?"… Но в любом случае спешу заверить вас, что роман «Союз меча и забрала» это нечто большее, чем просто сатира на 90-е и подражание Ильфу и Петрову.
Автор выбрал такой вот оригинальный метод, чтобы рассказать о том, о чем рассказывать нельзя и указать на то, на что указывать не любят, потому что неловко, неприятно, а то и просто больно.
Впрочем, каждый все понимает по-своему. Может быть, я ошибаюсь. Свидетельствую со всей ответственностью, что никаких намеков и пожеланий на сей счет от автора не получал.
К читателю
Наблюдая за развитием последних событий в стране, невольно вспоминаешь социальные, культурные и политические аналогии, навеянные романами И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок», и возникает вопрос, как бы повели себя в новых условиях герои их произведений. Куда, в какой сфере деятельности могли бы они приложить свои руки и голову? На стяжательство, на жульничество, на грабёж государства? Возможно. А возможно и на более праведные дела. Но в любом случае они вряд ли бы остались равнодушными наблюдателями за тем, что происходит со страной.
Остап Бендер и его друзья, конечно, не дожили бы до перестройки и «демократии», но их дети и внуки живут среди нас и не перестают удивлять нас своими «подвигами». И тогда возникла мысль попытаться описать их похождения, вполне достойные «деяний» Остапа Бендера, Шуры Балаганова или того же Михаила Самуэльевича Паниковски. Кстати, продлить жизнь своим героям хотели и сами И. Ильф с Е. Петровым в романе под условным названием «Подлец», но так и не успели этого сделать.
Герои Ильфа и Петрова были авантюристами, а их роман вполне можно отнести к жанру плутовского. Последнее время этот жанр стал возрождаться, и мне захотелось попробовать себя в нём.
Что из этого получилось, судить вам, дорогие читатели.
Одно могу сказать: Ильфу и Петрову было всё-таки легче – их было двое.
А в т о р.
Глава первая
утверждающая, что постперестроечная жизнь такова, какова она есть и больше никакова
Город двинулся в будничный свой поход.
«Двенадцать стульев»
Час пик уже прошёл, а в вагоне было не протолкнуться.
Какого чёрта люди, вместо того чтобы разъезжать по городу, не сидели дома у телевизоров и не ложились спать!? Завтра среда, всем рано вставать на работу, а они всё ехали и ехали, давились в метро, толпились на автобусных и троллейбусных остановках, катили в «народных» лимузинах от первой до девятой модели, как будто ни у кого не было дома и семьи, и возвращаться им было некуда. Вечер всё тянулся, тянулся и не хотел уходить. Это было проклятое время между бодрствованием и сном, когда москвичи не знают, куда себя деть, и тянут время сначала на работе, потом по дороге домой у пивных ларьков, в магазинах, в подворотнях и подъездах – только бы не возвращаться в опостылевшие квартиры.
Да и что можно было делать дома? Дома ждали угрюмые лица, понурые фигуры, печальные глаза родичей и вчерашняя жареная картошка на остывших сковородах. Кухонные посиделки за рюмкой «армянского» с непременным обсуждением мировых проблем вышли из моды, телевизионные игры «перестройщиков» всем уже надоели, судьба рабыни Изауры интересовала исключительно одних пенсионерок.
И что характерно: выходить на прогулки стало себе дороже – того гляди голову прошибут или снимут с плеч последнее пальтишко, а людям дома всё равно не сидится. Вон вчера сосед пошёл посмотреть на небо и вернулся с синяком под глазом. Он ещё дёшево отделался – мог и жизни лишиться. Раньше для запоздалого путника в «белокаменной» самым страшным приключением была потеря варежки или проездного билета. Ну и что в этом было особенного?
Семён Моисеевич Кислярский, очень осмотрительный мужчина лет пятидесяти с хвостиком, был в страшном недоумении. Его ондатровая шапка в целости и сохранности, пересыпанная антимолью, лежала дома в шифоньере, но он все равно пребывал в большой растерянности и не знал, что следовало предпринять: заорать благим матом «Ой, батюшки, обокрали!» и попытаться позвать милицию или отрешённо сжать зубы и ехать обратно домой.
Портфель, который он только что крепко держал в руках, неожиданно отделился от правой руки и куда-то исчез, оставив владельцу одну ручку. Как только объявили следующую остановку и пассажиры дружной и плотной толпой повалили к выходу, Семён Моисеевич, которому и выходить-то было ещё рано, начал, словно буксир перед Ниагарой, отчаянно сопротивляться людской стремнине, пытаясь во что бы то ни стало зафиксировать своё тело в вагоне и продолжить запланированное подземное путешествие. И это ему удалось, но только частично: сам-то он в полупустом вагоне остался, а вот портфель вместе с толпой «ушёл» в Ниагару, то бишь, на перрон «Белорусской».
Семён Моисеевич стоял в нерешительной позе, в то время как встречный поток пассажиров уже врывался в двери. Жаждущие сесть справедливо опасались, что двери захлопнутся раньше, нежели чем первый счастливчик просунет нос внутрь вагона, а потому страшно нервничали. И правда: записанный на магнитофонную плёнку без явных признаков пола голос пробубнил что-то нечленораздельное – скороговоркой и невпопад, – и сжатый воздух, нагнетая и без того до предела накалённую вокруг поезда атмосферу, с сердитым шипением погнал створки дверей навстречу друг другу. Посадка была прервана в самом начале, и отдельные индивиды, не успевшие проскочить внутрь вагона, с очумелыми лицами выцарапывались из резиновых тисков. Один из них сделал такой отчаянный рывок, что пробкой ударился в стоявшего посередине вагона Семёна Моисеевича. Вагон под тяжестью разгоряченных тел заколыхался и просел, но Семён Моисеевич, как утёс на Волге, гордо и твёрдо стоял на ногах и, сжимая ручку от портфеля, всё ещё пытался осознать случившееся.
Он думал о том, что клиент, вероятно, уже скоро появится на обусловленном месте рядом с кассами стадиона «Динамо», чтобы получить давно обещанный материал. Подготовка информации обошлась Семёну Моисеевичу в несколько бессонных ночей, стоила адских угрызений совести, мучительных сомнений, и вот теперь материал уплыл в обезручканном портфеле. Кому он попадёт в руки, и каковы могут быть последствия, оставалось лишь догадываться. Клиент, само собой, будет разочарован, но главное, Семён Моисеевич останется без гонорара, на который он так рассчитывал. Скандал, форменный скандал!
Поезд дёрнулся, Семён Моисеевич, повинуясь законам инерции, напряг натруженные за день ноги и бросил взгляд на наручные часы. Может, вернуться на станцию и поспрашивать дежурную по перрону? Может, портфель никому оказался не нужен и лежит себе на столе у дежурной и ждёт своего законного владельца? Если вернуться на «Белорусскую», то на встречу он опоздает, но это лучше, чем вообще явиться к клиенту без передачи.
Дежурная по станции, уже немолодая женщина, с опухшим лицом и тусклыми глазами, смотрела на Кислярского и, казалось, внимательно слушала его объяснения, но ничего не видела и не слышала, потому что мысли её витали вокруг тазика с горячей водой, в который она погрузит свои искореженные артритом ноги, как только доберётся до коммуналки в облупившемся доме, что в переулке Стопани, вокруг чашки горячего чая с баранками, которым она себя побалует после утомительного дежурства под землёй и… Да мало ли чем была занята голова дежурной по станции метро!
– Так что вы, милай, потеряли-то? – в который уже раз спрашивала дежурная.
– Портфель! Я уже вам десять раз повторил – портфель! – кипятился Семён Моисеевич.
– А где вы, говорите, потеряли-то его?
– Я не потерял, у меня его оторвали в вагоне, когда пассажиры выходили на этой самой станции. Никто к вам не обращался с находкой? А может быть, вы сами нашли его на полу?
– На полу? Нет, милай, не находила.
– И никто не сдавал его вам?
– Портфель-то? Нет, милай, не сдавали.
– Что же вы мне посоветуете делать? – словно за соломинку цеплялся пострадавший.
– Ищите, милай, ищите. Может, кто и принесёт в бюро находок. А что там было-то у вас?
– Бумаги. Документы.
– Ишь ты, жалость-то какая, – безразлично произнесла дежурная и пошла встречать поезд.
Кислярский тоскливо посмотрел ей вслед и поехал на встречу.
Ещё в раннем детстве Семён Моисеевич открыл такую закономерность: если тебе в чём-то не повезло, то окружающие каким-то десятым чувством начинают догадываться об этом и ещё больше издеваться над тобой. Вместо того чтобы подбодрить упавшего духом, взять за ручку, утереть слёзки и утешить слюнявым поцелуйчиком сочувствия, они стараются унизить, морально уничтожить и готовы если не заколачивать гвозди в гроб, то уж точно настрогать для него побольше досок.
Ещё поднимаясь наверх, он обратил внимание, что встречный эскалатор шёл пустой, потому что никто с улицы в метро не входил, зато работавший на выход ленточный механизм эскалатора выбросил ещё пачку пассажиров, которые прижали Семёна Моисеевмча к стенке из пахнущих потом спин столпившихся граждан.
– Почему стоим? – подал он робкий голос, но спины безмолвствовали. Толпа, словно повинуясь лёгкому ветерку, мерно колыхалась, образовывала крупную зыбь, но амплитуда волн быстро угасала – стихия явно не находила себе выхода, повинуясь закону, сформулированному для сообщающихся сосудов с водой.
Семён Моисеевич взглянул на часы и понял, что должен был быть уже у касс. Тогда он, работая локтями и шишкой живота, стал пробираться вперёд. На него шикали, шипели и ругались, но он упорно продвигался к своей цели, пока не оказался в первых рядах и свежий ветер не обдал его прохладной сыростью. Дальше идти было нельзя – сплошной стеной стояла извергавшаяся сверху и подсвечиваемая в свете электричества водная хлябь. Дождь заставлял выходивших из метро тесниться и ждать, когда он перестанет. Но Семёну Моисеевичу было не до глупостей – его ждали. Зонтика с собой не оказалось – зонтик остался в портфеле, и только сейчас он заметил, что всё ещё не расстался с ручкой от злополучного кожаного вместилища. Он сунул её в карман и перевёл дыхание.
– Ну, что же ты, смелый ты наш, остановился? – услышал он за спиной чей-то ехидный голос. – Иди, если уж ты такой прыткий!
Такие голоса Семёну Моисеевичу были знакомы с детства, они всегда исходили от непробиваемой трусости и тупости, замешанной на комплексе неуверенности. Он поднял вокруг шеи воротник гэдээровского плаща и шагнул в темноту навстречу дождю. Ощущение было такое, что он попал под душ с хорошим напором воды. «Не хватало ещё подхватить воспаление лёгких», – мимолётно подумал Семён Моисеевич, но привитое ему на работе чувство долга гнало его к стадиону и было сильнее инстинкта самосохранения.
«Боже мой! Зачем мне всё это нужно? И что это за страна, которая не может обеспечить к старости своих пенсионеров!»
Тут он вспомнил озабоченно-испуганное выражение лица Норы, постоянную нехватку денег, тридцатилетнего сына, работавшего за символическую зарплату лаборанта в НИИ, на содержании которого, кроме жены, находилось двое детей, и решительно отмёл в сторону все сомнения. Конечно, приятного в том, что ты приходишь на рандеву с заказчиком и говоришь, что заказ не выполнен, мало. Кому охота выслушивать упрёки и выговоры? Но и не идти туда Кислярский не мог. Эх, и что за жизнь пошла бездарная!
Впереди замаячила одинокая мужская фигура под зонтом и в шляпе. Кассы стадиона давно уже были закрыты, и это мог быть только он – клиент. Никто в Москве уже не носил шляп, а этот всё ещё жил старыми представлениями о стране развитого социализма, правда, так и не перешедшего в фазу коммунизма.
«Тоже мне Хамфри Богарт нашёлся!» – ругнул человека в шляпе Семён Моисеевич. Но по мере приближения к «шляпе» настроение у него менялось: «Стыдно! Ах, как стыдно!» Кислярский даже схватился за сердце и невольно остановился.
Фигура чинно и размеренно, словно под лучами техасского солнца, прогуливалась у касс, но чинность и размеренность, как убедился через минуту Семён Моисеевич, были наигранными. Когда он приблизился и произнёс сокровенную фразу: «Отличная погода сегодня, уважаемый», то в ответ, вместо положенного отзыва, услышал гневную тираду:
– Ви чито – изидеваетесь? Я тут уже передрожал весь фром зе коулд, а ви где-то променад делаете? Давайте бистро материал. Не хватает ещё, читобы нас застукнули.
– Материала нет. – Семён Моисеевич сам удивился своей смелости и нахальству.
– Как это нет? – подпрыгнула фигура и чуть не уронила зонт.
– А так, – осмелел совсем Семён Моисеевич, – не готов, значит.
– Как не готов? Ви же мине тивёрдо-таки обещали…
– Приходите через пару деньков, – произнёс Семён Моисеевич холодным тоном, каким обычно управдом выпроваживает квартиросъёмщика, явившегося с жалобой на протечку крана.
– Нет, это просто невозможно. Как с вами иметь бизнес? Это есть нонсенс.
Человек снял шляпу, достал из кармана штанов платок и вытер то ли вспотевший, то ли намокший от дождя лоб.
– Извиняемся, у нас не аптека, – назидательно заметил Кислярский. – Да и в аптеке сейчас сплошной тар-та-ра-рам. Всё коту под хвост…
– Какой тра-ра-рам? Какой кот с хвостом? Зачем ви утирать мине очки? Ми больше с вами контракт не держим. Ви – не сериозный люди, советско-русски. Крэйзи.
– Это как вам будет угодно, – мрачно ответил Семён Моисеевич, шепча про себя непроизносимое ругательство из лексикона грузчиков. Он развернулся, чтобы идти обратно к метро. – Царя-батюшку тоже посылают по матушке.
– Стоп, я вам сказал. Я буду обияснять, чито… – Фигура сделала попытку остановить его, но Кислярский только махнул рукой и, не оглядываясь, зашлёпал по лужам.
– Грубая, ничтожная личность! – донеслось вслед Кислярскому, но он уже ничего не слышал.
Дождь прошёл, и на подходе к метро Кислярского остановил какой-то пьяный. Он схватил Семёна Моисеевича за рукав и, покачиваясь на ногах, спросил:
– Вот ты скажи мне, профессор, почему это так получается? Иногда идёшь себе, идёшь и – ничего! А иногда идёшь и вдруг думаешь: а пошло оно всё на …!
– Не знаю, не знаю, дорогой. – Он освободил рукав из цепкой хватки придорожного философа и вошёл в вестибюль метро. Толпа уже рассосалась, и эскалаторы бесшумно выталкивали и заглатывали пешеходов.
«Пропади оно всё пропадом!», – подумал Кислярский. – «Отвечать – так отвечать за всё разом: и за утрату материала, и за потерю клиента, а значит, источника доходов, тоже. Ишь, забугорник попался, раскатал нос на чужие калачи, а ты из-за него скачи! Накось, выкуси теперь. Налетели на страну, как мухи на кучу дерьма. А что – мы и сидим теперь по уши в говне, и нечего чирикать», – вспомнил Кислярский известный анекдот про воробья, нарушая первоначальную логику рассуждений. – “ Зря я связался с этим хануриком. Пристал, как банный лист. Поеду-ка я завтра к Аркашке Коробейникову. Откроюсь ему, как на духу – он что-нибудь да присоветует. Как говорил папа, утро вечера ядрёнее».
Вагон метро был полупустой: в дальнем углу сидела поссорившаяся парочка, напротив – молчаливый и сосредоточенный подполковник с портфелем на коленях, рядом дремала старушка, а у дверей стояли двое приезжих с чемоданами и сумками, которые то ли приехали в самое сердце родины, то ли покидали его, пробираясь к одному из вокзалов.
Уставший от передряг и выпавших на его долю переживаний, Семён Моисеевич закрыл глаза и задумался. Мог ли он, ведущий специалист Института экономики представить себе, что государство бросит его без средств к существованию? Стоило ли защищать всякие диссертации, драть глотку на семинарах и симпозиумах о преимуществах социалистического строя, выступать на партсобраниях со встречными планами, чтобы потом влачить полунищенское существование и на пороге старости добывать хлеб вот таким сомнительным способом?
Многие его коллеги, не получавшие зарплату по несколько месяцев, плюнули на всю эту кутерьму и уехали на заработки на Запад – кто в Израиль, кто в Америку, а кто в Германию. Только он всё сидел тут и чего-то выжидал. И жена, и сын давно предлагали ему оформить выезд в страну обетованную, но кому он там нужен – старый, немощный еврей с подсевшей на лекарствах печенью, с больной женой, без языка и средств к существованию? Это дело молодых, а обетованная страна для него здесь, тут похоронены все его предки.
Мало что в институте не платили денег и отключили отопление, но тут ещё на его голову навялился подлец Суховейко. Дмитрий Александрович Суховейко давно метил на место Кислярского и всеми правдами и неправдами старался выжить его из института. Старший научный сотрудник Суховейко давно утратил с экономической наукой всякую связь, потому что уже несколько сроков подряд исполнял почётные обязанности председателя месткома. С приходом в стены института новых демократических порядков Дмитрия Александровича из председателей немедленно турнули, и вот теперь он спал и видел себя на месте заведующего сектором рыночных отношений. Бывший профсоюзный деятель имел на это все законные права и основания, потому что его папа в оные годы служил камергером двора его императорского величества. Выдавать себя за осколок канувшей в Лету империи стало теперь не только опасным, но и даже модным.
…В постперестроечное бытиё завсектора Кислярского вернул тяжёлый удар по плечу. Он вздрогнул и открыл глаза. Перед ним стояли два ухмыляющиеся молодых парня в камуфляжной форме. Вот ещё один феномен нового времени – поди узнай, кто это может быть: десантники из Рязани, подгулявшие пограничники или активисты общества «Память». Один держал в руках бутылку с бородатым Распутиным, а второй – налитый под губастую кромку гранёный стакан.
Кажется, один раз он их уже где-то видел. Ну конечно, Лёха и Валера, Чистые пруды! Хоть бы они его не узнали!
Кислярский сжался в комок, пытаясь слиться заодно с сиденьем.
– Пей, папаша, угощаем. И будь здоров!
– Что вы, ребята, я не пью, у меня печень.
– Обижаешь представителей коренной национальности, папаша. Нехорошо! – с укоризной сказал один из них, кажется Лёха. – Валер, тебе не кажется, что мы этого пидара уже где-то видели?
– Ты что, Лёха, нет, это чистый свежак! – не поддержал второй первого.
– Да? А ну-ка пей, гад, какая печень! – не отставал первый.
Подполковник напротив сделал вид, что крепко заснул. Старушка отодвинулась в противоположный конец дивана. Поссорившаяся парочка полезла обниматься.
– Нет, ребятки, я пить не буду. Вы уж как-нибудь сами, – решительно отверг угощение Семён Моисеевич.
– Не уважаешь, значит, Рассею! – с угрозой в голосе произнёс Лёха. – А почему ты не уехал до сих пор в свой сраный Израиль?
«И действительно, почему я не сделал этого до сих пор? Папа в своё время не мог, да ему и тут было хорошо, а за что страдаю я?», – подумал Кислярский, но вместо этого возразил:
– А что я там не видал? Я родился и вырос тут, в Москве. – Семён Моисеевич слукавил – родился и вырос он в провинциальном городе, а в Москве он учился, женился, вступал в партию и двигал отечественную экономическую науку, но в данном случае это было не важно.
– Все вы так говорите, а потом предаёте нас, – убеждённо вставил Валера. – Ладно, Абрам, кончай шершавить старушку! Пей, или сейчас вольём насильно.
– Да вы что? Побойтесь Бога! Я буду жаловаться! – Семён Моисеевич вжался спиной в дерматин сидения, втянул голову в плечи и стал обречённо ждать экзекуцию.
Поезд, как назло, не останавливался, а всё громыхал и громыхал по тоннелю, которому, казалось, не будет конца. Подполковник чуть ли не храпел, изображая сон, а приезжие отвернулись в другую сторону. Дамочка перешла в другую секцию, а помирившаяся парочка на другом конце вагона самозабвенно целовалась. Никому до представителя «некоренной национальности» России, кандидата экономических наук, бывшего члена господствовавшей в стране партии, дела не было.
– Лёха, ты держи его, а я исполню.
– Не трогайте меня, я буду кричать! – взвизгнул учёный.
– Кричи, нам так даже будет удобнее. Не надо будет рот разжимать.
Подполковник вдруг проснулся (не выдержали нервы), встал и, глядя в противоположную сторону, прошёл к дальней двери. Лёха навалился на Семёна Моисеевича, а напарник Лёхи поднёс стакан с «Распутинкой» ко рту. Кислярский заверещал, как заяц в силке. В этот момент поезд начал резко тормозить, стакан с заморским напитком лязгнул по передним зубам абстинента, и жидкость имени убиенного старца пролилась на грудь угощаемому. Валера потерял равновесие и свалился на Лёху. Семён Моисеевич не заставил себя долго ждать, а тут же вскочил и опрометью бросился в открытую дверь. Он чуть не сбил с ног какую-то гражданку, направлявшуюся в вагон, но сейчас ему было не до вежливости. Он бежал к эскалатору. Что это была за станция, ему было наплевать. Главное, поскорее выбраться на поверхность.
«Завтра же пойду в ОВИР и подам заявление на выезд!», – решил он, переводя дух на эскалаторе.
Мимо проплыла реклама, приглашающая провести недельку на солнечном бреге Анатолии.
По внутренней трансляции задушевный женский голос на все случаи жизни предлагал гражданам какие-то прокладки.
Толпа молодых и старых вкладчиков «МММ», обманутых двумя братьями-греками в третий раз, с плакатами и транспарантами ввалилась с улицы, громко скандируя: «Свободу Мавроди! Мавроди в Думу!»
Красноармеец в буденовке с плаката «а ля РОСТА» указательным пальцем добивался ответа на вопрос: «А ты отнёс свой приватизационный ваучер в „Хопёр“?»
Газеты излагали курьёзную историю о том, как в пылу приватизации муниципальной собственности был продан троллейбус вместе с сидящими в нём пассажирами.
Общественность жадно искала вождя с харизмой.
Жизнь, несмотря ни на что, продолжала бить ключом.
Жуткую картину абсурдной действительности смягчали только фильмы ужасов, регулярно показываемые по НТВ.
Когда Семён Моисеевич, усталый и разбитый, потихоньку, чтобы не разбудить жену, приоткрыл дверь в свою двухкомнатную квартирку, он увидел перед собой тревожное лицо жены.
– Ты почему не спишь, Нора?
– Ой, Семён, я не могу и глаз сомкнуть, после того как позвонил какой-то Паниковски. Я только что прилегла, как зазвонил телефон и…
– Чего ему от меня надо? – осторожно поинтересовался Кислярский. Он никогда не посвящал жену в свои мужские дела, тем более в такие.
– Спрашивал какую-то статью, которую ты ему обещал.
– Ничего, подождёт. Ты ложись, Норочка, время позднее, а я тут сам поужинаю и посижу, поработаю.
– Сёма, что с нами будет? Встретила Мееровичей, они говорят, что все собираются в Израиль, потому что скоро начнутся погромы.
– Не слушай ты этих Мееровичей, – разозлился Кислярский, но вспомнив про инцидент в метро, смягчился и сказал: – Всё будет хорошо, Нора. Зачем нам Израиль? Кто там нас ждёт? Если бы нам было хотя бы по сорок… Борька не приходил?
– Нет. Я им сама звонила, жар у Иосеньки уже понизился, приходила врачиха и сделала укол, так что всё…
– Ну и отлично. Оставь меня одного, Нора. Я устал.
Жена пошла в другую комнату, вспоминая на ходу ещё какие-то подробности длинного дня, в течение которого Кислярского не было дома, но делала она это уже по инерции. Да и Кислярский уже не слушал её, а прошёл на кухню, достал из холодильника бутылку кефира, отрезал несколько кусков «молочной» и начал есть свой студенческий ужин.
Теперь он жалел, что в своё время у него не хватило силы воли сразу дать от ворот поворот хаму из американского посольства. И как он ловко подошёл тогда к Семёну Моисеевичу, сыграв на общности этнических интересов! Новоиспеченный американец поведал ему, как семье Паниковских удалось получить иммиграционную визу в Америку. Семья, якобы, в своё время сильно пострадала от советской власти, в частности, его родной дядя Миша, уважаемый житель Бендер, в тридцатые годы пал жертвой то ли индустриализации, то ли коллективизации.
И Кислярского подкупило уважительное и внимательное отношение к его проблемам, обещание помочь с визой в Израиль и даже в Штаты («Зачем вам, уважаемый господин Кислярский, ехать в прифронтовую страну?»). Американец поначалу просил быть его консультантом по бытовым и техническим вопросам в Москве, а потом стал проявлять интерес к экономике и к научным исследованиям в институте, а затем плавно перешёл к просьбам предоставить кое-какой закрытый материал из сектора, в котором трудился Кислярский.
Вот тогда-то и надо было твёрдо сказать Паниковски: «Знаете, уважаемый Александр Яковлевич, я в такие игры на старости лет играть не буду». А он начал вместо этого мямлить, ссылаться на режим секретности, а Паниковски – уговаривать, мол, ему и не нужны секреты, а только общесправочные материалы. Он-де и сам был бы рад покопаться в библиотеках, но вот, как назло, не располагает свободным временем. Мистер Кислярский может быть уверен, что он ни за что не подведёт своего соплеменника «под монастырь». Ну, разве плохо будет подработать в качестве негласного консультанта пару сотен долларов за невинную справочную информацию?
И Семён Моисеевич сдался – двести долларов пришлись ему как нельзя кстати. Да и какой вред мог он нанести родному государству, если два-три раза в месяц будет сплавлять Паниковски какую-нибудь «туфту»? И он согласился.
Через месяц американский вице-консул спросил его о ведущих сотрудниках института и поинтересовался, какую проблему разрабатывает профессор имя рёк такой-то. Ах, он привлечён к разработке правительственной программы? А не могли бы вы в общем виде рассказать, что это за программа и в каком направлении она разрабатывается?
У Кислярского опять не хватило смелости отказать (проклятые двести долларов Паниковски обещал увеличить до трёхсот), и пришлось пообещать «попытаться навести кое-какие справки». Но вернувшись со встречи, он решил никаких справок не наводить – он и так хорошо всё знал в доскональности, – а сочинил для американца из Бендер «липу», не имеющую ничего общего с действительным положением дел. И овцы будут целы и волки сыты – так решил эту этическую дилемму Семён Моисеевич и смело взялся за работу.
Как ни странно, Паниковски проглотил «наживку», даже не моргнув своим карим глазом, и выдал консультанту обещанный гонорар. Потом последовала новая просьба «неофита» перестроечной экономики, и Кислярский так же исправно, как и в первый раз, «изобразил» то, что от него требовалось. Такой поворот дел даже воодушевил Семёна Моисеевича: он дурит голову американцам, то есть делает богоугодное для страны дело, а то, что одновременно слегка поправляет своё материальное положение, кто же его за это осудит? Не брать от вице-консула денег – значит, прервать так удачно начатое дело. А раз «процесс пошёл», то остановить его уже никак невозможно.
Но Кислярский был таким же простаком в разведке, каковым в экономике представлялся Паниковски. Система, стоявшая за американским дипломатом, оказалась умнее липача-одиночки, и скоро Алекс (так просил его называть вице-консул) стал задавать своему конфиденту каверзные вопросы и требовать уточнений и дополнений. Пойдя по пути уточнений, Семён Моисеевич стал влезать в такие лабиринты лжи, что скоро понял, что долго не протянет и уткнётся носом в тупик. Он просто запутается в том, что сообщал месяц назад, не говоря уж о более ранней информации. Конечно, если бы он хорошенько подумал над первым ходом, то, может быть, ему удалось бы свести всю партию хотя бы к ничьей, но теперь делать исправления было поздно, и Кислярский, как заяц на удава, медленно, но верно шёл навстречу своей погибели, то бишь, разоблачению.
Тогда он стал избегать встреч с Паниковски, прятаться от него, ссылаться на занятость, болезнь и выдумывать другие причины, только чтобы не встречаться и не видеть наглую физиономию дипломата. Но Паниковски тоже был не лыком шит, он выслеживал и преследовал Кислярского, словно эсэсовская овчарка скрывающегося в белорусских лесах партизана. Он звонил в институт и домой, перехватывал по дороге на работу или в гастроном и не давал ему прохода. (Вот и сегодня не успел Семён Моисеевич вернуться домой, как тот уже выдал звонок и взбудоражил жену).
Пришлось снова возобновить свидания в парках, скверах, на станциях метро и пригородных электричек, избегать пытливых взоров вице-консула, мямлить, придумывать на ходу, краснеть и снова врать, как двоечник у доски. Надо было предпринять что-то такое, что заставило бы цэрэушника самого отказаться от агента как ненужного балласта. Но Семён Моисеевич плохо знал шпионскую психологию и не представлял, как трудно расстаётся разведчик со своим кровно завербованным.
По ночам Кислярскому снились кошмары. Он видел себя во сне зелёным васильком, к которому, медленно и противно чавкая скошенной травой, приближалась коса, направляемая неизвестно чьей рукой. Вот коса срезала последний пучок травы и следующим замахом наповал сразит василёчек! Кислярский просыпался и тяжело дышал, вытирая пот.
Спасительная идея пришла совершенно неожиданно, когда Кислярский подбирал на кухне тряпкой воду из прорвавшейся трубы. Он нашёл её совершенно оригинальной и надёжной и незамедлительно начал работать над её претворением в жизнь.
На очередной встрече, заканчивая беседу, Паниковски, как всегда задал Кислярскому вопрос: