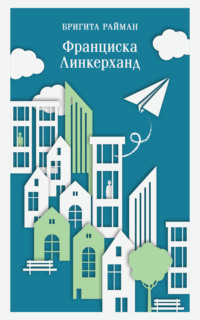Kitabı oxu: «Франциска Линкерханд»
© Вильмонт Е. Н., перевод на русский язык гл. 1–7, наследники, 1977, 2025
© Зильберман И. Е., перевод на русский язык гл. 8-15, наследники, 1977, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
* * *
Перевод Е. Н. Вильмонт гл. 1–7 публикуется по изданию: Б. Райман «Франциска Линкерханд», М.: Прогресс, 1977. В 2023 году в Германии роман вышел под новой редакцией. Все исправления и дополнения внесены в настоящее издание.
* * *
Глава 1
Ах, Бен, Бен, где ты был год назад, три года назад? По каким улицам ходил, в каких реках купался, с какими женщинами спал? Неужели это всего-навсего заученный жест, когда ты целуешь меня в ухо или в сгиб локтя? Я с ума схожу от ревности… Настоящее меня не пугает… но твои воспоминания, от которых мне не спастись, картины в твоем воображении, которых я не могу увидеть, боль, которую я с тобой не делила… Я бы хотела прожить три жизни, чтобы наверстать то долгое-долгое время, когда тебя не было.
Мой испуг, когда ты сказал, что двенадцать лет назад был однажды в нашем городе, сидел в зале ожидания… а я, в каких-нибудь ста метрах оттуда, в школе – разве я не могла стоять на перроне, разве не могла уже тогда, двенадцать драгоценных лет назад, встретиться с тобой?… Ах, ты бы меня и не заметил, я училась в девятом классе и была до ужаса уродливой, кожа да кости да шапка волос, я была невинна и впервые влюблена… не в тебя. А спустя семь или восемь лет, снова проездом в нашем городе, ты шел по Старому рынку, шел с женой – кажется, в июле, у нас уже начались студенческие каникулы, – и ты был всего одной из тех пестрых фигурок внизу, на которые я смотрела с лесов на высоте шестого этажа…
Где ты был, когда меня вызвали на экзамен и я чуть не умерла со страху? Почему ты не держал меня за руку тогда, в коридоре университета? Почему не ты сидел у моей постели, когда я болела? Почему не ты танцевал со мной по вечерам в студенческой столовке – низкий барак, жарко, накурено, магнитофон, голос Элвиса, вихлявого короля рок-н-ролла, – не ты пил со мною пиво из одной бутылки? Кто-то другой, уже не помню его лица… Это несправедливо, Бен, так долго быть без тебя, без твоих губ, без твоей маленькой твердой руки, которую ты, когда мы идем рядом, кладешь мне на шею… Сотни одиноких ночей у окна в парк, что зеленел над братскими могилами, а все остальные – кто где: мои родители за границей, Важная Старая Дама умерла, Вильгельм в Дубне, где-то под Москвой, и этот человек в пивной, а может, у девушки, почем я знаю… А где ты был тогда, в мае – цветущие вишневые деревья, проселочная дорога под солнцем, – в последний день войны, когда пришли русские?..
На заре в соседском саду раздались выстрелы. Вильгельм нашел убитых, они лежали на газоне: двое детей, похожая на куклу женщина и главный инженер. Петтингер был славный, полноватый молодой человек, он ненавидел военную форму, зато, как форму, всегда носил брюки гольф, блекло-полосатую рубашку и галстук-бабочку, каждое утро на велосипеде, бодро крутя педали, он отправлялся за город, на прокатный стан, укрытый среди сосен и маскировочных сетей, дочернее предприятие рейнского сталепромышленного концерна… Вильгельм готов был поклясться, что этот милый сосед, нежный отец вечно щебечущего семейства, даже понятия не имел, как держать пистолет.
На лбу маленькой девочки кишели черные муравьи, вишни цвели, как сумасшедшие, воздух был полон низкого, возбужденного жужжания пчел. (В последнюю неделю фугаска угодила в бомбоубежище на вокзале. Они работали в резиновых перчатках, пьяные в дым, из первого же пролома на них обрушилась лавина трупов, и Вильгельму стало плохо – он сказал, что это от водки.) Он перевернул женщину, которая лежала, широко раскинув руки, а под нею – грудной ребенок.
Сестра Вильгельма, точно хорек, проскользнула между планками забора. «Катись отсюда!» – крикнул он, схватил ее за руки и за ноги, перебросил через ограду, и она на четвереньках поползла по траве, ругая его на безопасном расстоянии пронзительным девчоночьим голоском.
Днем опять загрохотала артиллерия, фрау Линкерханд в платье из домотканого полотна, напоминавшем монашеское одеяние, с волосами, собранными в пучок почти у самой шеи, бродила по дому и громко молилась. Она смиренно вдыхала доносившийся из передней запах бедности. Хныкал ребенок, за открытой дверью в кухне беженки спорили из-за кастрюли, их перебранка и силезские ругательства эхом отдавались на лестнице.
В голубой комнате у окна стоял Вильгельм и смотрел сквозь жалюзи, полоски света от них ложились на его лицо, на голубой ковер, на медово-желтую мебель. Его растрепанная загорелая сестренка, сидя на корточках, строит в песочнице чудесный сказочный замок с бойницами, башнями, высокими стрельчатыми окнами, изредка в воздухе с воем проносится снаряд – звук, похожий на свист косы, – девочка бросается ничком, но не страх заставляет ее припасть к земле (страх придет только позже, годы спустя, прилетит на треугольных крыльях реактивных истребителей), а Вильгельм хохочет над хитрым зверьком, что притворяется мертвым, покуда не раздастся оглушительный удар где-нибудь в развалинах центра города – это значит: опасность миновала. Игра повторялась вновь и вновь, согнуться под воющим сводом, опять выпрямиться, и все это с выражением серьезности и усердия на лице, неваляшка, подумал Вильгельм, молодец кроха! В конце концов его раздосадовало ее ничуть не испуганное лицо: она так же ничего не ведала, как мартовский заяц, который не понимает, что шелестящая тень над полем – это канюк.
Вильгельм крикнул из-за жалюзи: «Сию минуту иди домой!»
Франциска сажала лес из хвощей… удивительно красивые маленькие елочки. Бен, но ты этого не знаешь, наверно, ты никогда не играл в саду, вообще, Берлин и задворки… но зато ты, конечно же, знаешь все о хвощах великих времен третичного или юрского периода и о среде, необходимой для жизни ящеров, что наверняка тоже важно… Она сажала лес под стенами замка, ее мокрые грязные лапки деловито сновали взад-вперед. Авторитет Вильгельма, основанный на энергичных и скорых оплеухах, пошатнулся с той ночи, когда он вернулся из города с опаленными волосами, без ресниц, в разодранной коричневой рубашке, на которой уже не было свастики. Он стал шумным, надоедливым и рассеянным – как все взрослые, которые то прогоняли Франциску и на полдня забывали о ней, то с криками искали ее, заключали в объятия и осыпали поцелуями.
Вольная жизнь пришлась ей по душе. Она больше не ходила в школу. Недели две фрейлейн Бирман вела занятия со своим классом в подвале какой-то прачечной, при свечах, в сыром чаду из соседней гладильни. Фрейлейн Бирман, в очках, седая, коротко стриженная, посмеивалась над романтическими пастбищами – будь, как фиалочка во мху, невинна, как немочка, скромна и благочинна… Фрейлейн Бирман повесила над своей кафедрой Фейербахову Ифигению, томящуюся «душой по Греции любимой», поясняла она. Фрейлейн Бирман кружила по своей жизни, покуда ноги ее, ноги в высоких черных ботинках на пуговицах не увязли в кипящем асфальте. Не стало больше диктантов, выговоров за кляксы или «ослиные уши», и дома никто не напоминал Франциске, что нельзя сутулиться, никто не принуждал ее есть, орудуя ножом и вилкой, не говорил, что нельзя держать книгу под мышкой и следует втягивать маленький круглый, как у негритенка, живот. По ночам она, полусонная, спускалась в бомбоубежище, валилась на нары, просыпала лай зенитных орудий и рождественскую елку, отбой и молитвы.
Линкерханд ввел жену в голубую комнату. Увидев Вильгельма, она зарыдала.
– Бедняжка Нора… в голове не укладывается, только вчера я говорила с ней, она была такая же, как всегда, даже не думала ни о чем похожем… Одному господу ведомо, от чего он ее упас…
Линкерханд смущенно поправлял очки. Ему не за что было упрекнуть себя, к тому же он не верил в россказни о зверствах: он был причастен к газетному делу, добровольно пошел работать к Шерлю, – и страхи жены сердили его – ну можно ли так распускаться при детях.
– Да, непостижимо, – бормотал он, – такой милый молодой человек… Даже в партии не состоял.
– Зверюга, – проговорил Вильгельм. – Сначала он застрелил детей. – Линкерханд горестно покачал головой. – Это было видно по лицу Норы, – холодно пояснил Вильгельм.
Линкерханд снял очки. Своего рода бегство. Он стер ненавистные очертания опостылевшего мира и почувствовал себя в безопасности среди синевы, расплывающейся в солнечных бликах. Лицо его без очков сразу приняло учтивое, несмелое выражение очень близорукого человека, но голос звучал уверенно, даже надменно – таким начальническим голосом он ставил на место своих не в меру самонадеянных служащих, сначала обратив их лица в бесконтурные пятна, когда заверял, что хотя бояться им нечего, но известные предупредительные меры все-таки должны быть приняты: сожжение неугодных книг, умно выбранные тайники для серебра, фарфора и вина; драгоценности Важной Старой Дамы надежно спрятаны в сейфах городского банка.
– Но ведь город защищают, – воскликнула фрау Линкерханд.
– Благородная, но злосчастная идея коменданта. Он превосходный человек, но не слишком умный. Такие становятся героями из-за недостатка дальновидности. – Он схватил ее дрожащие руки и прижал их к своей груди. – Успокойся, моя дорогая. Мы ничем себя не скомпрометировали, так попытаемся же достойно смириться с неизбежностью.
Он поцеловал ее в висок, а Вильгельм, возмущенный обычно строго запретным проявлением чувств, отвернулся. Это было еще противнее запоздалого обращения его матери к богу в приступе религиозности, внезапно охватившей ее в бомбоубежище.
Вечером в камине – кирпичном чудище, претендовавшем на сельский уют, обычно, впрочем, не топившемся, – горел огонь; дым выбивало в комнату, но Цоберлейн и Розенберг приятно согревали в холодный майский вечер, вечер, когда и в квартале миллионеров, в белокаменных виллах, порушенных войной, в замках из песчаника – вход только для господ, рододендроны и магнолии, – и в котельных, и в кухнях забрезжили бесславные и плачевные сумерки богов. Холодными оставались только трубы на вилле крейслейтера, неделю назад эвакуировавшегося в западном направлении, после того как он призвал каждого из сограждан мужественно оставаться на своем посту. Он-то был в безопасности и даже слова не мог сказать, ибо провидение, как нас уверяли, неизменно верное нашему фюреру, дезертируя, направило бомбы на мост через Эльбу, на крейслейтера, его машину и чемоданы.
Флекс, Юнгер и все прочие барды, силившиеся теперь доказать свое алиби, были оттеснены на задний план, в первом ряду вновь засияли, в кожаных переплетах, с золотым обрезом, творения Гейне (тогда как в «Книге преданий», которая принадлежала Франциске, составленной Бальдуром, Вельтенеше и Шифф Нагельфаром, было сказано, что автор «Лорелеи» неизвестен в мире скандинавских саг о Бальдуре, Иггдрасиле и корабле Нагльфаре, которые читала Франциска), подле Гейне стояли более скромные, в серых коленкоровых переплетах книги братьев Манн. Линкерханд с почтительным неудовольствием терпел их рядом с великими – Диккенсом, Филдингом, Достоевским. Обо всех, что после них, и говорить не стоило.
Франциска прикорнула за креслом бабушки. Важная Старая Дама, изящная, безукоризненно опрятная, белокожая, выглядела так непозволительно молодо, что ее платье матроны со скромным стоячим воротничком производило впечатление маскарадного костюма, а золотой крестик и смиренно сложенные руки казались легкомысленно кокетливыми. Франциска любила бабушку, ее салат с треской и винные пудинги, ее рассказы о кругосветном путешествии некой Клерхен, которыми она вознаграждала внучку, если та ходила за молоком, любила ее серый шелк, шкатулки, полные черных бархоток, медальонов и других блестящих финтифлюшек, а также ее угрозы, простонародные угрозы: «Ну, погоди у меня, дрянцо эдакое. Я тебе башку с плеч сорву», любила красное бархатное кресло, всегда поджидавшее Старую Даму, а потому и в этот вечер она укрылась за ним, за серо-шелковой спиной бабушки, никем не замеченная и, бесспорно, здесь нежеланная. На каминной решетке коробились полуистлевшие книги, и жар переворачивал серо-белые, как зола, страницы.
Линкерханд предусмотрительно содрал коленкоровый переплет с книжки с картинками; нитки, скреплявшие страницы, резко, пронзительно затрещали. Своими слабыми, неловкими руками он захватил пачку страниц толщиной в палец и сказал:
– Жалко, кто знает, будут ли когда-нибудь выпускать такую бумагу, гладкую, блестящую, как шелк… Это еще товар мирного времени.
Бабушка листала роскошный альбом – Гитлер в Берхтесгадене, и только ее слегка кривившиеся губы выдавали брезгливое удивление непосвященного, разглядывающего в микроскоп омерзительное, хотя и интересное насекомое: фюрер в Бергхофе, фюрер с овчаркой Принцем, фюрер с белокурой деревенской девчуркой на руках, неизменно на фоне слащаво-рекламного ландшафта, с неизменной улыбкой «отца отечества» под тонкими усиками и вдохновенно-пророческим взглядом под комичной прядью волос.
– Чего-чего только нет на свете, – сказала бабушка.
– Говорят, он пал в Берлине, – вставил Линкерханд.
– Во главе своего храброго воинства, – прочувствованно добавила бабушка. Она рассмеялась и прищурила пронзительно-черные татарские глазки. – Надеюсь, ты не будешь мне рассказывать, что этот мазила подставил свое бренное тело под эти их «катюши». «Катюша»… тебе когда-нибудь приходилось слышать, как говорят русские? О, я не имею в виду тявканье всяких там Маш и Нин… Перед Первой мировой войной, я была еще совсем молоденькой, мы познакомились в Баден-Бадене с одной русской семьей, весьма аристократической, такие образованные люди, мать в совершенстве владела французским, но, право, не было ничего более восхитительного, чем слушать, как они за чайным столом говорят на своем родном языке – музыка, дорогой мой, настоящая музыка, невозможно даже представить себе, что в этом языке есть вульгарные выражения. Вообще-то все семейство было несколько старомодное, девочка – дочь даже не очень-то опрятная, а уж о няньке лучше и не говорить…
Тем не менее она говорила, терялась в воспоминаниях, что нередко бывало с ней в последнее время, и не то чтобы с тоской, скорее смакуя их, так Франциска произносила «клубника со сливками», а Вильгельм «котлеты со спаржей». Франциска в полусонном очаровании, казалось, плавала среди маскарадов и раутов, между Годесбергом и Нордерноем. Эти слова, зеленые, как морской ветер, пушистые, как белые страусовые перья, ароматные, как веер из сандалового дерева на уроках танцев, пластинки которого были исчерканы инициалами и вензелями, напоминали пожелтевшие фотографии: девушка в полосатом, как зебра, купальном костюме, тоненькая и раскосая, под рюшами огромного, словно воздушный шар, купального чепчика; всадница, одетая на итальянский манер: коротенький корсаж и нелепейшие украшения, – бочком, по-дамски сидящая на ослике перед декорацией Везувия, окруженная поклонниками в непромокаемых куртках; некий господин Альберт, якобы кузен, в отделанном позументами мундире карнавального генерала и – смена кадра – он же в солдатской гимнастерке фюрера Кёльнского «Стального шлема». «Жертва красных убийц» на катафалке среди венков и лент, а крайний справа на фотографии… самая мрачная личность в семье, Бен, брат Важной Старой Дамы. Он был архитектором-градостроителем и сумасшедшим ревнивцем. Его бедная жена, с опозданием возвращаясь домой, из-за двери спрашивала: «Хозяин уже дома?» – и тряслась от страха, а иногда он уже поджидал ее на лестнице с хлыстом в руке. Она умерла совсем молодой. Видно, у нас это семейное – архитектура и ревность…
Пламя сникло, комната погрузилась в полутьму, через дверь на террасу падал свет медного оттенка, на ясном небе стоял ржаво-красный месяц, время от времени на горизонте молниями вспыхивал огонь зениток. Улица словно вымерла. Линкерханд разгреб жар кочергой; дотрагиваясь до воспаленных от дыма глаз, вздохнул:
– Vae victis1.
– Что касается меня, то я уж шесть лет как перестала верить в победу, – сказала бабушка. – От этого выскочки только и можно было ждать проигранной войны… Мне довелось видеть его в Кайзерхофе… человек с повадками уличного комедианта, манеры – хуже не бывает, выговор какой-то дурацкий, к тому же, on dit2, импотент.
– Я его не выбирал, – огрызнулся Линкерханд.
Старая Дама сложила руки на животе:
– Избранник не нуждается в выборах.
Линкерханд, предусмотрительно вытянув руку, ощупью пробирался по комнате, чуть не споткнулся о мерно дышавшую Франциску, которая наконец-то заснула, сидя на корточках в позе индианки, и стал шарить по столу в поисках своих очков.
– В грядке с салатом, – произнес он с какой-то наивной хитрецой, – Mater dolorosa3 я зарою в грядке с салатом.
Статуэтку высотой в фут он велел запаять в жестяную банку и таскался с нею по всему дому, как кошка со своим котенком. Он ревниво оберегал ее от глаз малознакомых посетителей, панический страх овладел им при мысли увидеть драгоценную фигурку в руках солдата, деревенского олуха, который не в состоянии оценить драпировку складок синей мантии, горестный изгиб шеи, трогательное простодушие обращенного к небу лика под средневековым капюшоном… А какой набожный трепет испытывал он, касаясь раскрашенной деревяшки, – благоговение, не омраченное нечестивыми мыслями о ее денежной стоимости и ничего общего не имеющее с культом Богоматери, ибо он был протестант и не слишком-то ретивый христианин, – похожее состояние находило на него, когда он листал свои старые книги, держа лупу перед полуслепыми глазами: так он сидел во время ночных налетов, большой, согбенный, безобразный, с белым лицом альбиноса, рыжими волосами, с глазами, расширенными, как у совы, за толстыми стеклами очков, и творил свою странную молитву, весь уйдя в мир без «летающих крепостей» и «ланкастеров», без истерических молений и перебранки юных варваров, подраставших в его доме.
Больше, чем собственная сохранность, волновала Линкерханда мысль о судьбе книг: они были единственной страстью его бесстрастной жизни, ее необычностью и приключениями, он вынюхивал книги, охотничью свою добычу, в антиквариатах и в темных закоулках книжных лавок. Здесь бережливый отец семейства становился расточителем, солидный негоциант – пронырливым шарлатаном, который лицемерил, впадая в сомнения, торговался и бездумно наслаждался высшим счастьем коллекционера, торжествуя, когда ему удавалось хитростью выманить у невежды редчайший экземпляр за смехотворно низкую цену. Хозяйство велось скромно, роскошь в одежде была строжайше запрещена, детям полагались лишь льняные или грубошерстные ткани, а театр марионеток, предназначавшийся для развития их фантазии, заменял собой разнообразнейшие игрушки соседских детей.
Издательство у него было маленькое, но пользовалось хорошей репутацией, патриархальное предприятие, основанное дедом Линкерханда (дед дожил до баснословного возраста, Вильгельм еще помнил седобородого господина, который ежедневно, между четырьмя и пятью, заложив руки за спину, бодро прогуливался по аллее, шага на три впереди своей запыхавшейся и быстро семенящей жены). Гордые старые наборщики бегло набирали греческие и древнееврейские тексты. Линкерханд не шел на то, чтобы, подобно другим, менее серьезным издательствам, выпускать нарядные альманахи, романы из жизни летчиков и дешевые репродукции. Во время войны, когда иностранный рынок был закрыт для его «Немецкого зодчества», он обеспечил себе неплохой барыш и чистую совесть, выпуская серии карманных томиков с новеллами Тика, Эйхендорфа, Гауфа, Брентано и других поэтов, духовными наследниками коих объявили себя национал-социалисты. В тридцать седьмом году он собрал немалую сумму, чтобы дать возможность своему бывшему однокашнику – еврею бежать в Хайфу… Нет, Бен, этот человек не был его тайной ставкой в лотерее, я читала письма, которые они после войны писали друг другу, все читала, покуда отец не перебрался в Бамберг… Но он действительно заплатил свои два гроша за лотерейный билет, и благородством это не назовешь. Правда, политические обязательства были ему ненавистны, для себя, во всяком случае… В марте тридцать третьего он настоял, чтобы два его сотрудника вступили в партию. У бедняг позади были два года безработицы… Один из них впоследствии пал на Восточном фронте. Другой был арестован ГПУ сразу же после капитуляции и умер в лагере…
Франциску разбудили четыре барабанных удара: Бетховен, пояснил ей отец, это судьба стучится в дверь. Он никогда не упускал случая, прежде чем удалить девочку из комнаты, назидательно сообщить ей тональность и номер опуса – педантическая почесть, которую он воздавал лишь Бетховену и Моцарту; наряду с этими маэстро право на существование имели лишь смертельно скучный господин Гайдн и несколько подозрительный Лист, его музыка звучала перед всеми «экстренными сообщениями». Отец называл его фокусником и шарлатаном. Дома Франциске не дозволялось петь песни: всему свое время и место. СА идут, спокойны и тверды (цитата из «Хорст Вессель»), на торжественном построении, отдавая салют. Отчизна, для первоклашек твои звезды – толстые, синеватые, печально капающие свечи; на луговых дорогах, когда их посылали собирать лекарственные травы, тысячелистник и пастушью сумку, босые и усталые детские ноги, маршируя, вздымали летнюю пыль, раз, два, три… «И мчатся вперед голубые драгуны», рука в руку с лучшей подругой, громкоголосые и невинные, «В первый раз, конечно, больно». На школьном дворе, «О долина Неккара», откинувшись назад, они кружились до дурноты, ступня к ступне, руки скрещены, взвизгивали и кружились, покуда не падали… Ах, по долине Неккара, где цветет сирень, катят американские танки, а на школьном дворе меж двух костылей покачивались безногие туловища, подпрыгивая, передвигались мужчины в полосатых госпитальных пижамах с одной ногой, а в школьном коридоре на наспех сколоченной койке лежал мальчонка из гитлерюгенда, втягивал носом сопли и слезы, насмешливо и заинтересованно – между приступами боли – разглядывая школьные рисунки на стене – ослепительно пестрый букет его будущей возлюбленной, Ф. Л., третий класс, нахальная какая-то девчонка. Его звали Якоб, в ноге у него засел осколок зенитного снаряда, а морфия не было, и доктор Петерсон говорил: да, да, наши немецкие мальчики… тверды, как крупповская сталь, выносливы, как дубленая кожа.
Франциска за красным бархатным креслом свернулась клубочком, она давно знала, что пятого барабанного удара не последует, вместо него зазвучит прерываемое шумом и треском Би-би-си из Лондона (… после того как меня раза два застали слушающей эту передачу, мое сознание зарегистрировало связь между становлением собственного мнения и оплеухами, а из первого урока гражданственности я сделала следующий вывод; политика – это когда детей выгоняют из комнаты…). Она была достаточно хитра, чтобы понять: в школе, в младших классах, нельзя рассказывать о Лондоне или повторять насмешливые прозвища, вроде Рейхсдурень и Наш Золотарь, которые часто употреблял доктор Петерсон – фрау Линкерханд всякий раз прикладывала палец к губам и бросала на него умоляющие взгляды, – дядя Петерсон, который выстукивал костлявую грудь Франциски и рассказывал истории о своем соседе: знаешь, Френцхен, мой сосед завел себе собаку, у нее громадная пасть, и зовут ее Наци…
Итак, в этот вечер голос из Лондона, то совсем близкий, то вдруг очень далекий – казалось, он, как пробка в море, то взлетал на гребень волны, то скатывался вниз, – произнес фразу, которая, неизвестно почему, врезалась ей в память, сначала просто как словосочетание: «В истории народов еще ни один режим не рушился плачевнее, чем тысячелетняя империя нацистов». Она высунула голову из-за спинки кресла и спросила:
– Бабушка, что такое реджим?
Линкерханд вздрогнул, бабушка улыбнулась, глядя вниз на свой золотой крест, схватила за ухо «вольнослушательницу» и выставила ее за дверь.
(Много лет спустя, когда она предалась поискам прошлого и сыскала наконец этот вечер, с золой в камине, с разъедающим запахом дыма, с ущербным красным месяцем за дверью террасы, ей вспомнилась и эта фраза из Лондона, мало-помалу приобретавшая примечательный смысл.)
– Ты чушь несешь, – сказал Вильгельм, – ты тогда была слишком мала и к тому же духовно несостоятельна.
(Но вскоре она озадачила его новым доказательством своей необычайной памяти. За столом шел разговор об учительнице истории, вдове офицера, красавице, которая спала со школьным советником, и Вильгельм стал восхищаться ее живыми, темными, хотя и несколько близорукими глазами.
– «В ее глазах сверкали молнии, как пламя, вырывающееся в полночь из Везувия», – вставила Франциска. Все засмеялись. – Это не мои слова. Дядя Болеслав читал такое стихотворение.
– Не может этого быть, дитя мое, – сказал Линкерханд. – Болеслав погиб в сороковом году. Тебе еще и трех лет не было.
Она посмотрела на Вильгельма и, словно бы глядя на фотографию покойного, точно описала лицо Болеслава, его волосы, пахнувшие березовой водой, бледно-сиреневые гортензии на окне и длинные холодные ножницы, которые веселый и склонный к игривым шуткам господин сунул за низко вырезанную на спине розовую вязаную блузку своей машинистки.
– Она и вправду всегда носила эти вязаные блузки, хотя по возрасту они ей уже никак не подходили, – заметила фрау Линкерханд, ей, видимо, была неприятна эта история с ножницами.)
Четвертого мая, ранним утром, по саду прошел доктор Петерсон, он шагал быстро и дробно, как принц в театре марионеток. Франциска, вставшая на колени в своей кровати у окна, заметила, что он впервые забыл надеть черные перчатки и дверную ручку нажал голой рукой. Через некоторое время явилась фрау Линкерханд и велела Франциске надеть воскресное платье. Она дрожала, и глаза у нее были красные, когда она поцеловала и перекрестила Франциску. Уходя, фрау Линкерханд обернулась и деловито сказала:
– Дай мне бабушкины часики.
Франциска покраснела.
– Я сама их спрячу.
Голубая эмалевая крышка часов, украшенная фигуркой цапли, уже зазубрилась по краям – так часто Франциска открывала ее. Восьмилетняя девчушка, под одеялом, при свете карманного фонарика читавшая, безусловно, запретные романы и целыми страницами заучивавшая наизусть монологи Гретхен, целуя портрет на внутренней стороне крышки, благоговейно и добросовестно следовала вычитанным из романов правилам первой любви. Петерсон обещал на ней жениться, но три года спустя, когда восстановили городской театр, вернее было бы назвать его балаганом, он облюбовал себе белокурую особу, светскую дамочку, женился, выставил ее, когда узнал, что она его обманывает, и месяца три по вечерам пьянствовал в пивнушке, куда впоследствии часто захаживала Франциска… Но это уже совсем другая история, Бен, и о Петерсоне здесь упоминается в связи с четвертым мая лишь потому, что он был в числе парламентеров, передавших наш город Красной Армии…
Франциска засунула часы в чайницу с сушеными травами, пахнувшими аптекой и мятой. Линкерханд проводил доктора до калитки и теперь медленно возвращался по дорожке, выложенной каменными плитами, в прогалах между ними буйно разрослась светло-зеленая трава. На лестнице его ждала Важная Старая Дама, спокойная, аккуратная, серо-шелковая, как всегда. Дул прохладный ветер, цветы форзиции светились, точно медно-желтые трубы в оркестре, бело-розовой пеной цвел миндаль. День в голубой чреде весны – воздух, не зачерненный копотью, небо, не запятнанное облачками от разрывов шрапнели, солнце, ветер и медно-желтые трубы, как прежде, как всегда, – мгновение тишины от ужаса до ужаса.
Тишина… Мертвая тишина, ни шороха шагов, ни голоса, слепые дома с закрытыми ставнями, в оспинах от ливня осколков, не скрипят детские качели, улица задерживает дыхание (эта улица, милый, вспоминается мне нынче, как смертельно скучное, смертельно печальное театральное представление, действующие лица толпятся у обшарпанных кулис, в этой пьесе нет катастрофы, нет стремительного падения в ничто, только медленная гибель и привычка к гибели), клумбы не засажены, со ржавым скрипом качается на проржавевшей цепи фонарь над дверью, а розы – опытная рука уже годами не обрезала, не подвязывала, не окулировала их – пустили дикие побеги, и они бледными пальцами вцепляются в расшатанную решетку забора. На перилах виллы напротив между прогнивших, выкрашенных дождями в черно-зеленый цвет деревянных столбиков лежала белая простыня. Линкерханд зажмурил глаза, он смеялся.
– Немецкое уменье приспосабливаться, – сказал он, и Старая Дама, проследив за его взглядом, заметила красный флаг в эркере соседнего дома с круглым и более светлым пятном на флаге.
– Наш сосед с гениальной простотой решил проблему перехода к большевизму. Кто бы мог заподозрить такое простодушие в человеке с его общественным положением?
– В комнате с эркером живут беженцы, – сказала она. – Но может быть… – и, потупив лукавый взор, после маленькой паузы добавила: – в то время как в доме напротив с грохотом опускались жалюзи, фрау Линкерханд, тяжело дыша, тащила на второй этаж чемоданы, а Вильгельм ровнял землю между кустиками салата… может быть, это весьма кстати – дать приют людям, которые вывешивают красный флаг, тогда как мы в лучшем случае решимся на белый…
Под вечер соседка выскочила из двери, спотыкаясь, пробежала по обоим садам, на ступеньках линкерхандовской террасы упала и разразилась протяжными рыданиями, Франциска сидела в своем «игральном» домике на голубой елке и не могла удержаться от смеха, когда директорша растянулась на крыльце (фрау Рафке любую девушку, отбывавшую в ее доме трудовую повинность, звала Минной, а пышную черноволосую украинку – Маткой). Франциска смеялась, уткнув лицо в скомканный фартук, смеялась презрительно – вот дуреха, поднять такой вой из-за разорванного чулка, и торжествующе – божья кара за твое скупердяйство, за ежегодные скандалы из-за орехов, за бабушкины бутерброды. Наконец, испугавшись, она скользнула вниз по стволу и тихонько подобралась к воющему существу на четвереньках. Франциска добродушно сказала:
– Не беда, я вечно расшибаю себе коленки, но я на это плюю, и они быстро заживают, вот смотрите. – Она вытянула загорелую, всю в ссадинах ногу. Дама вскрикнула и с брезгливым ужасом ее оттолкнула.
– Ну, ну, потише, – басовито остановила ее Франциска.
Линкерханд открыл дверь на террасу и ввел директоршу в дом, поддерживая ее под руку, он, еще недавно в самых энергичных выражениях поклявшийся, что эта истеричка никогда больше не переступит его порога, он, допустивший себя до крайней неучтивости, снимал очки, превращая тем самым соседку в расплывчатое пятно, когда она, с узлом белокурых волос на затылке, в шляпе и в белых перчатках – руки и плоская грудь в панцире бронзовых украшений, – расчищала граблями дорожки у себя в саду. Франциска ненавидела ее еще до случая с пленными – правда, только осенью, когда жирные зеленые плоды поспевали на орешнике, росшем на самой границе, но все же в директорских угодьях, и орехи с ветвей, свисавших над забором, валились в сад Линкерхандов – целый град яблочек раздора, ибо соседка пренебрегала вполне естественными притязаниями Франциски, требовала возвращения своего добра и не стеснялась в ветреные осенние утра, в самой дурацкой позе перевесившись через забор, выуживать орехи, собственно, уже принадлежавшие Франциске, раздвоенным концом подпорки для бельевых веревок.