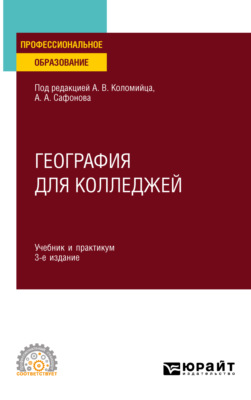Kitabı oxu: «История моего стыда»
Предисловие автора
Есть вопросы, тревожащие душу, ответы на которые скажут о человеке слишком много, больше, чем он того бы хотел.
Возможно ли вспоминать об ушедшей матери без тоски, но с улыбкой?
Возможно ли любить горы сильнее, чем иных людей?
А можно ли до дрожи полюбить Армению – чужую для тебя страну – лишь по фотографиям и книгам, ни разу там не побывав?
Может ли секс стать высшим продолжением любви? Не низменным, а именно высшим и самым сакральным?
И что вообще есть любовь? Как любит ребенок? А как любит Бог?
Вопросы, вопросы…
Именно поиски ответов на них и породили эту книгу. На самом деле, ее можно и не читать вовсе, ведь суть до обидного проста: все ответы и смыслы сводятся к одному слову – любовь. Я вижу ее повсюду: в бликах солнца на неспокойной поверхности горного ручья, в плаче ивы, в древней армянской поэзии, в улыбке давно ушедших людей на фотографиях, в теплоте камня древних кавказских монастырей…
Сад расходящихся тропок старика Борхеса уводит нас все дальше и запутывает, но, куда бы вы ни пошли, у вас всегда остается возможность любить то, что происходит вокруг. Собственно, именно об этом и будет книга. Каждый герой идет своей – не самой очевидной и легкой – дорогой, но в том, как эти пути переплетены, и состоит смысл и тайна жизни.
Итак, начинаем.
Пролог 1. Дима
Первая девушка, с которой я познал секс, не отличалась выдающейся красотой, пышностью форм или страстным взором, но все равно была прекрасна. Большинство последующих женщин, разделивших со мной постель, были яркими, сочными и страстными, но мне казались невкусными, приевшимися, никакими. Конечно, кроме последней, самой важной – Анны…
Та первая женщина, Мария, была простым преподавателем в колледже искусств. Голого мужчину за последние пару лет она видела лишь на экране, на котором дешевый проектор высвечивал слайды из курса лекций по живописи. Наверное, именно поэтому в ее голосе узнавались страсть, голод и отчаяние, когда материал доходил до «Витрувианского человека» да Винчи или «Пьяного Геркулеса» Рубенса. На голый мужской торс, порожденный фантазией художника, она смотрела с завистью, вожделением и философской тоской. Ну а я взирал на ее маленькую, такую невостребованную грудь – и строил мечты.
Ах да, я не представился. Дмитрий Болдырев, уроженец маленького подмосковного городка. Я прошел долгий и странный путь в поисках любви, нежности и смысла, встречал много женщин, каждую из которых стремился сделать счастливой и желанной хотя бы на мгновение. Ровно так и произошло в тот памятный вечер, когда уже не юная, но еще не увядающая преподавательница искусств увидела, как выглядел бы наяву «Амур-победитель» ее любимого художника Караваджо. В роли Амура, естественно, выступал я, краснея от стыда и потея от возбуждения.
К слову, пошлости в этих картинах не было ни на грош, а красоты и величия хватит на небольшую галерею.
Не спешите осуждать меня и выкидывать книгу в окно. Эта история не о человеческой похоти, но об одиночестве, способном поглотить целиком даже посреди толпы людей, и попытках его преодолеть. А еще о любви к горам, к Армении и великому, но сложному пути ее народа. Об очищающей природе секса. О силе искусства и, конечно же, о том, как изучение женской чувственности, природы любви и страсти привели меня в темный подвал, где, избитый, униженный и обезвоженный, я и встречу свою казнь.
Вот моя история.
Пролог 2. Анна
В пятнадцать лет Анна, девушка из приличной, дружной армянской семьи, прожившая всю жизнь в Москве, первый раз встретилась с исторической родиной – Арменией. Отец, седовласый крупный мужчина лет шестидесяти с громким и объемным, как горное эхо, голосом, но на удивление мягким и добрым характером, взял с собой жену и дочь на юбилей родного брата. Аня помнила, что была вне себя от радости от предстоящего путешествия (считай, приключения!), но скептически смотрела на перспективу воздушного полета.
– А эта телега вообще долетит? – спросила она у отца, наблюдая, как ярко одетая стюардесса оступается, поднимаясь по трапу к старому, видавшему виды лайнеру, и костерит его многоэтажным, но весьма поэтичным матом.
– Еще как, дочка! Домчит за два часа! Скоро ты увидишь горы!
Страх полета улетучился сразу после взлета. Ночная Москва поражала яркими реками автомобильных дорог и цветными пятачками жилых районов. Всю жизнь Аня любила смотреть снизу вверх, на звезды; теперь же оказалось, что наблюдать за миром сверху вниз еще интереснее: подобно тому как любая точка на небе являла собой огромную звезду, кипящую своей собственной жизнью, точно так же и каждый огонек внизу был окном или машиной, за которыми скрывалась чья-то судьба. Миллионы звезд на небе – и миллионы жизней внизу. От этой мысли захватывало дух.
Армения встретила их свежим, до одури чистым воздухом и асимметричными пирамидами гор. Первое свидание с ними потрясало воображение и тревожило душу: после многих лет жизни на равнине, в мегаполисе, горы казались искажением реальности, сюрреалистической выдумкой Творца. Каждая из вершин, покрытых снегом или ощетинившихся лесом, острая или плоская, словно подрезанная ножом, манила к себе. Казалось, на любой из них живет кто-то потусторонний и мудрый – существо из детских сказок или взрослых мифов, а может, даже ангелы или же сам Бог.
А потом она услышала местный язык.
– Дочка, ты помнишь, как я читал тебе строки: «Я выучил армянский язык, чтобы понимать Бога»? – Ане вспомнилась неточная цитата английского поэта Байрона, которую когда-то произнес отец. – Видишь, даже великий писатель изучал наш язык, ведь именно здесь, по преданию, высадился на сушу Ной после окончания библейского потопа.
Девушка знала язык далекой Родины лишь по общению внутри узкого круга семьи, но здесь армянская речь торжествовала повсюду: она громко разливалась по долинам, селам и городам – гордая, звонкая, эмоциональная и музыкальная. Язык, на котором хотелось петь.
Вскоре ее захватили запахи местных рынков и еды, столь необычные, сильные и интригующие, что не жалко посвятить их изучению даже полжизни! Неизвестные доселе специи и травы: шушан, авелук, урц – сливались со знакомыми, но здесь иначе звучащими запахами свежего хлеба, лепешек, абрикосов и мяса.
А потом она попала в сладкий плен вечернего застолья, поражающих своей звукописью песен, элегантных развернутых тостов и теплых взглядов дальней родни в компании с любимыми матерью и отцом. Уже вечером, перед сном, Аня плакала от эмоций, долгожданного воссоединения с этой землей и, конечно же, от счастья.
* * *
Ночью ей снился сон, страшный, цепкий, не отпускающий. Мама часто говорила, что от бабушки Анне достался особый дар – обостренное восприятие окружающего мира, взгляд, способный примечать вокруг все многообразие счастья и одновременно любую боль окружающих, и сердце, умеющее удерживать все это внутри, радоваться и сострадать.
В ту первую ночь в Армении Анна почувствовала слишком много подобного – и красоты и боли, – что уже не покинет ее никогда. Ей снился зимний день более чем двадцатилетней давности, день, когда жизнь и смерть поменялись местами.
* * *
Сегодня особенный день. Мариам ждала его почти шестьдесят лет, и только сейчас (на дворе 1988 год, подумать только!) она сможет осуществить мечту. Даже не мечту! Нет, мечта – это что-то из разряда личного, эгоистичного, необходимого именно тебе. Сегодня же свершится одно из ее предназначений как женщины. Так уж завелось в их роду, что много поколений подряд в день рождения ребенка старшая в семье женщина лепила для младенца глиняную игрушку. После свершения особых молитв фигурка считалась оберегом: люди верили, что он защищал человека с самого детства и до глубокой старости.
Говорят, очень давно именно такая фигурка, таящая в себе покровительство предков, спасла бабушку от горного селя, слизавшего со склона половину деревни, а деда Авата – уберегла от пуль в ту самую страшную войну.
– Уж я-то сделаю все как надо, – думала про себя Мариам, – и вложу в оберег все свое тепло, мудрость и любовь.
Рано утром ей сообщили о рождении внучки. Это был один из самых счастливых звонков в ее жизни. Окрыленная, Мариам уже собиралась в дорогу – туда, где ждет дочь, которая теперь тоже стала матерью, туда, где совершилось маленькое чудо и новая душа сошла в этот мир. В слезах счастья и благодарности, Мариам опустилась на колени и склонилась в молитве.
Она просила о здоровье – таком, чтобы до глубокой старости ноги внучки с легкостью поднимали ее на любые вершины, а глаза могли разглядеть оттуда каждое дерево и каждого человека внизу. Она просила о мудрости – такой, чтобы уметь радоваться солнцу, стоя на заснеженной горе, и сохранять внутри себя тепло и счастье, несмотря ни на какие ветра. А еще – молила о том, чтобы, спустившись с гор, внучка всегда возвращалась туда, где ее любят и ждут.
Выйдя из дома, Мариам направилась в гончарную мастерскую. С собой она прихватила лишь собственный оберег, который когда-то слепила для нее прабабушка, – глиняную сову, нахохлившуюся, с большим забавным клювом и выразительными, немного разными по размеру глазами. Женщина всегда удивлялась, как полуслепая прабабушка умудрилась создать столь красивый шедевр, и была благодарна ей до дрожи.
Мариам вошла в мастерскую. Внутри никого не было, кроме старого седого мастера с огромными, как у великана, руками. Глазурь, грязь и глина уже давно безвозвратно впитались в кожу на этих руках, отчего кисти еще сильнее казались принадлежащими какому-то горному великану, сторожу у входа в запретную мифическую страну.
Техника лепки была заранее отточена на многих черновых поделках. Мариам достала листок с наброском оберега – голубь, устремленный ввысь.
– Внучка родилась-таки? – услышала она грубый голос мастера за спиной. – Поздравляю! Ну что ж, не буду мешать, ты знаешь, что делать, следуй своей традиции. Я рад, что ты наконец стала счастливой.
Мужчина удалился. Мариам еще несколько раз посмотрела на черновик и приступила к подготовке глины. Впереди ее ждало много часов работы: лепка, сушка, обжиг… От предвкушения того, что вскоре бездушный глиняный комок превратится в живую фигурку, пошли мурашки по коже. Она приступила к труду.
* * *
Через пару часов заготовка появилась на свет: сделаны общие формы и черты, проработаны крылья и голова; осталось аккуратно продавить мелкие канавки и линии для окончательной прорисовки крыльев и перев. Женщина разогнулась, слегка размяв шею, вытерев пот со лба и посмотрев на часы.
Это случилось ближе к полудню. Пол вдруг резко ушел из-под ног, от внезапной качки Мариам дернула инструментом так, что от голубя отлетело крыло. Здание начало трясти, светильники на потолке зашатались, как детские качели. Пол будто стал жидким, бежать по нему – словно идти по воде. Невозможно. Здание мастерской превратилось в бесконечную комнату страха, которая сжималась и проваливалась сама в себя. Курящий на улице мастер увидел, как окна верхних этажей искривились и стали похожи на огромные открытые в ужасе глаза, из которых сыпали слезы разбитого стекла; вход, сдавленный по диагонали, напоминал рот, искаженный немым испугом. Через тридцать секунд здание перестало существовать.
Придавленная Мариам не сумела выбраться наружу. Зажатая со всех сторон смертью и обездвиженная, она не смогла сделать ничего, кроме как достать левой рукой совенка, что сопровождал ее всю жизнь, а в правой зажать однокрылого голубя из мягкой, еще влажной глины. Местные жители хорошо знают, что такое землетрясение, и потому Мариам поняла все сразу и почему-то легко приняла свою участь. Последнее чувство, что появилось в ее голове, было благодарностью – хотя бы за то, что самые любимые на свете дочь и внучка сейчас далеко, на равнине, куда никогда не доберется это зло.
Через несколько часов огромные руки гончарного мастера откопали погибшую женщину. Даже горный великан иногда не успевает вовремя прийти на помощь.
* * *
Это случилось седьмого декабря 1988 года. Одно из самых сильных землетрясений, разрушившие много городов на севере Армении. Тридцать секунд, которые унесли двадцать пять тысяч жизней.
Это случилось седьмого декабря 1988 года. В день, когда в далекой Москве маленькая Анна появилась на свет, а семья одновременно приобрела и потеряла родного человека. День, когда жизнь и смерть поменялись местами.
Проснувшись, пятнадцатилетняя девочка уже не смогла уснуть вновь. Она слышала эту историю от матери, но одно дело – знать, а другое – прочувствовать все самой. Именно в тот день она поняла, что связана с этой землей и этим народом навсегда, что любит его и хочет посвятить ему свою жизнь – его истории, его радости и боли. А еще Анна почувствовала, что любит бабушку Мариам всем сердцем, пусть никогда и не знала ее наяву. Не получив своего оберега, девушка приобрела гораздо больше – уверенность, что откуда-то сверху, выше самого Солнца, бабушка смотрит на нее, и этот ласковый взгляд уже не покинет ее никогда.
Глава 1
Я вырос в обычном провинциальном городке – такие россыпью, как грибы после назойливых осенних дождей, раскиданы по всей стране. Так уж заведено, что каждый из них гордится, что именно здесь, на этом полустанке или в этом доме, родился, умер, напился или просто подрался какой-нибудь известный музыкант либо артист. К слову сказать, гордостью за то, что именно в нашем городе преставился известный писатель, были пропитаны все местные жители, впрочем, самого классика из них мало кто читал, что не мешало им чувствовать себя причастными к чему-то выдающемуся и загадочному.
Школу я окончил крепким середнячком и умудрился пролететь сквозь все классы без единой драки или разбитого носа. Последним я особо гордился. За неимением лучшего, я решил поступить в местный колледж искусств, рассудив, что навыки организации культурно-массовых мероприятий пригодятся мне в жизни.
Именно там я и встретил Марию, одинокого преподавателя, неистово пытавшегося просветить беззаботных и недалеких студентов. Она была из тех, кто искренне верит в силу искусства и красоты:
– Искусство невозможно выразить в рациональных понятиях, – говорила нам Мария, – там, где предок человека впервые поднял кость как орудия труда, там, где он первый раз обронил слезу, оставляя позади погибших членов стаи, где обратил взор на Луну и приметил на ней жилище богов, – там и зародилось искусство, попытка выразить страх и преклонение перед этим миром и найти в нем место для самого себя.
Я довольно быстро заразился ее энтузиазмом. Помню фрагменты с изображениями животных из пещеры Ласко во Франции. До жути убедительные изображения быка, дышащего уверенной силой.
– Пятнадцать тысяч лет назад неизвестный художник нарисовал эту трагическую сцену, где пронзенный копьем бык из последних сил насмерть сразил охотника, – говорила Мария с нескрываемым восхищением, выводя на экран простые, но выразительные наскальные зарисовки.
– Мария, а почему половые органы людей и животных на этих изображениях так мощно прорисованы? Почему древние люди были столь озабоченны? – с еще большим восхищением отзывалась толпа студентов, указывая на сочные, гиперболически увеличенные изображения самых важных, по мнению древних художников, области тела и заставляя краснеть учителя.
Выглядело всё это, по правде сказать, весьма пикантно и откровенно. Не обращая внимания на шутки друзей, я решил выручить Марию и спросил:
– А что за птица нанизана на палочку рядом с убитым охотником?
– Ученые предполагают, что это его душа, – задумчиво отозвалась девушка.
Тем вечером, вернувшись домой, я долго думал: а как может выглядеть моя душа и куда она улетит, если я когда-нибудь встречусь с подобным быком? Много времени спустя, во время ожидания собственной участи в грязном подвале, мне предстояло вновь вспомнить об этой древней птице-душе, боясь расстаться с ней навсегда.
«Душа грустит о небесах. Она нездешних нив жилица…» – писал Есенин. Слишком поздно я понял, что, похоже, в моей жизни всё сложилось ровно наоборот, и именно небеса грустят о моей потерянной душе.
* * *
Это случилось пестрым весенним вечером. Я встретил Марию в магазине после учебного дня с лекциями по живописи и вызвался ее проводить: мне были приятны ее общество, голос, а также неторопливая, но чувственная манера общения.
– Скажите, почему вы здесь? – спросил я под конец разговора, прощаясь до завтра.
– Я живу в этом районе, – произнесла Маша очевидный ответ.
– Нет. Почему вы, умная, утонченная девушка, до сих пор остаетесь здесь, в этом городе, в этом колледже, где все мы только и делаем, что усмехаемся над вашей страстью к прекрасному и любим ваши лекции лишь за обилие голых людей на картинах?
Мария, кстати, и правда подозрительно часто говорил об эротизме – скрытым и явном – в искусстве разных лет, но чем это вызвано, я тогда не понимал. Она ответила не сразу. Я испугался, что обидел ее, и уже открыл было рот для извинений, но затем услышал:
– Я училась в Москве… и вернулась сюда только ради молодого человека. Оставила там карьеру и друзей, но нисколько не жалела об этом, ведь здесь, среди нищеты и дымящих труб, был он – тот, с которым хоть в ссылку! – она замолчала ненадолго, а потом обронила как бы невзначай: – У нас не сложилось, и с тех пор я одна… Бегаю по кругу в замкнутом колесе…
Я не знал, что ответить. Много сил уйдет, прежде чем я пойму: мужчина, если он задает вопрос, должен быть готов к ответу. Тогда же я еще не обладал должной чуткостью души, и все, что пришло мне на ум, – это обнять ее.
К тому моменту я уже встречался с девушками, ласкал и целовал их, но дальше этого никогда не продвигался. А еще я никогда не обнимал женщину, плачущую у меня на плече. Мы молча дошли до подъезда Маши, и после неловкой паузы она пригласила меня на чай. Квартира девушки расстраивала ветхостью и темнотой, но радовала идеальной чистотой и порядком. Повинуясь какому-то неконтролируемому, неподвластному страху инстинкту, я поцеловал ее после кружки чая с домашним пирогом: поцелуй был странный и неловкий, но искренний и словно бы ожидаемый с ее стороны. В ее выразительных глазах искрила тоска, сомнение, а еще – надежда… Я почувствовал напряжение в паху – возбуждение достаточно сильное, чтобы девушка могла ощутить его сквозь одежду. Мария осторожно, как ребенок, который хочет сунуть руку в клетку и погладить льва – хочет и боится, – прикоснулась рукой к моей груди и животу, не решаясь опуститься ниже. Ее глаза не отрывались от моих; там не было похоти, но горело желание вырваться из колеса одиночества – пусть и таким ненадежным способом.
Мы молча, с частым и жадным дыханием раздели друг друга. Каждый новый шаг становился немалым открытием. Я впервые увидел женскую грудь: мягкая, но упругая, она дарила неожиданно нежное ощущение при прикосновении, соски были темными и твердыми, как два камушка, и словно впивались в меня взглядом, гипнотизируя и маня. Я не торопился и со свойственной мне любознательностью изучал каждый сантиметр ее груди. Как оказалось, именно в подобной неторопливости и искренности в ласках нуждалась каждая женщина, с которой меня сводила судьба. Уже тогда мне нравилось фиксировать в памяти все черты женского тела, как художник, подмечая детали.
Грудь Маши была слегка изогнута в виде трамплина – в голове родилась милая и забавная ассоциация с лисим носиком. Робея, я поцеловал два прелестных носика и впервые познал вкус женской груди – терпкий, слегка горьковатый, но однозначно приятный.
– Я словно в дурмане, – тихо простонала девушка.
Не понимая, были ли это слова собственного оправдания либо комплимент мне, я не нашел иного ответа, кроме как опуститься ниже, знакомясь с телом моей первой девушки в жизни.
Дабы не смущать читателя (пока не смущать), я не стану продолжать. Я расскажу о многих аспектах близости с женщинами, но подробности любви с самой первой из них я оставлю себе и только себе. Скажу лишь, что, как и любой первый секс, он был неловок и скоротечен.
– Спасибо, – сказала моя муза, стыдливо прячась под одеялом, когда все закончилось.
– За что? – спросил ее личный Амур.
– За спасение от одиночества. За теплоту и внимание. За то, что помог вспомнить, как прекрасен может быть секс, но при этом не превратил его в дешевое порно.
Я не знал, чем ей ответить. Тогда я еще совсем не понимал, чего хотят женщины.
* * *
Провожая меня, Мария спросила у самого выхода:
– Дима, а что дальше?
– В смысле? – я выглядел дураком, да и был им на самом деле.
– Что сегодня произошло между нами и что будет дальше?
– Не знаю, – честно ответил я, – но ты мне очень нравишься, и, если ты не против, я бы хотел продолжить общение.
– Общение или только секс?
– Нет, не только секс.
– Хорошо. Мне было важно это услышать, – она поцеловала меня на прощание.
* * *
Так началась наша прекрасная двойная жизнь. Мария мастерски исполняла свою роль: днем – красивая, но отчужденно-холодная, вечером – мягкая, домашняя, открытая и искренняя. Это были странные, ни на что не похожие отношения: нас разделяла пропасть возраста, опыта и отсутствие внятной общей цели, но соединяли отчужденность от общества, сексуальное влечение друг к другу, а еще любовь к искусству и познанию. Так, каждый вечер, проведенный вместе, был непременно отмечен двумя событиями: порой нежным, а порой страстным сексом и долгими беседами обо всем на свете. С искренней жадностью, насытив тело, я подходил к ее стеллажам с книгами. Однажды, проводя пальцем по книжным корешкам (на которых, ровно как и на полках, никогда не было пыли – Мария уважала свои книги больше, чем иных людей), я наткнулся на тетради, исписанные вдоль и поперек красивым, образцово-каллиграфическим почерком.
– Заметки по философии? – с улыбкой я прочитал название, выведенное зеленым маркером.
– Да, я интересовалась когда-то, – она подошла, обнаженная, и обняла меня сзади.
– Можно открыть?
– Конечно.
Я заглянул внутрь тетради.
– А что за «парадокс лжеца»? – прочитал первую попавшуюся главу.
– Ох, Дима, зря ты это затеял, сейчас я начну умничать, и меня будет не остановить, – кокетливо подскочила ко мне Маша. – Это очень древний логический парадокс. Вот смотри. Я произношу очень простую фразу: «я лгу».
– И что же дальше?
– И всё, парадокс свершился! Если фраза, которую я произнесла, правдивая, это значит, что я всегда говорю ложь, что автоматически свидетельствует о том, что моя фраза лжива и я солгала, что лгу. То есть я говорю правду! Но это противоречит исходным предпосылкам о том, что утверждение «я лгу» верно. Если же исходить из предположения, что фраза не истинна, то мы вернемся к тому же противоречию. Получается, что ложь и правда тесно переплетены, и одно порождает другое.
– Получается, нос Пиноккио должен одновременно расти и уменьшаться?
– Да-да! – Маша захлопала в ладони. – Ты очень верно подметил!
Наблюдая за девушкой, я уже тогда задумался о том, что очень часто большой ум и одиночество идут рука об руку, но, конечно же, предпочел промолчать.
– А это? – спросил я, указывая на отдельно стоящую книгу в стороне.
– Этот труд посвящен реальной истории известных европейских сказок.
– А разве есть какие-то другие версии?
– Конечно, – с энтузиазмом, не знающим границ, она подхватила книгу, – и поверь, то, что ты читал в детстве, это очень облагороженная история. Например, ты помнишь Сказку о спящей красавице?
– Конечно, кое-кто именно этим вчера и занимался, – с огнем в глазах я намекнул, как прошлым вечером, дождавшись, когда Маша уснет, я забрался под одеяло и начал осыпать ее тело поцелуями.
Пробуждение от возбуждения – мое личное изобретение, чем я немало гордился.
– Я не об этом, дурачок! – она махнула рукой. – Вспомни: красавица укололась о веретено, после чего впала в вечный сон до тех пор, пока ее не поцеловал прекрасный принц. Знаешь, что было в старом оригинале? Много лет спустя после укола мимо домика, где спала красавица, проезжал король. Заглянув в дом, он сразу смекнул, какую выгоду можно извлечь из столь пикантной ситуации, и изнасиловал спящую бедняжку.
– Ты шутишь?
– Уверяю тебя, это правда. Как водится в таких ситуациях, девочка забеременела и, более того, родила прямо во сне. Кстати, разбудили ее именно дети, искавшие грудь.
– Какой ужас! Похоже, в средневековье процветал такой же разврат, как и сейчас?
– Я тебе еще не такое расскажу, – с жаром она принялась пересказывать мне знакомые с детства истории на новый лад.
Слушая философские речи голой Марии, я понимал, насколько нелепо и в то же время прекрасно выглядят наши отношения. Понемногу я начинал влюбляться.
* * *
Тайные встречи с Машей продолжались еще довольно долго. Как ни странно, неловкость между нами исчезла довольно быстро, каждый был искренен и не строил иллюзий. Искусству любви я обучался гораздо быстрее, что предметам в колледже. Я учился чувствовать Машу, подстраиваться под ее дыхание и настроение, был изобретателен и каждый раз предлагал иной угол обзора. Однажды, после очередного нежного секса, я подошел к уже знакомым книжным полкам. Там стояли книги по живописи, музыке, а еще много поэзии, классика, Библия.
– Маша, почему здесь так много Достоевского? Разве из его книг не сочится та самая беспросветная хтонь, которую ты так боишься? – спросил я, еще не доросший до подобной литературы.
Вместо ответа она молча встала и, обнаженная, взяла в руки том «Братьев Карамазовых», открыла заранее помеченную – видимо, любимую – страницу и начала цитировать:
– Что уму представляется позором, то сердцу – сплошь красотой. В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, – знал ли эту тайну или нет? Ужасно то, что красота еще не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол борется с Богом, а поле битвы – сердца людей.
Моя муза закончила читать и с вызовом посмотрела на меня:
– Разве это не гениально? Красота обладает созидательной силой, только если она служит добру, понимаешь? Достоевский вовсе не депрессивен, он учит нас жить, очищаться, духовно расти и делать правильный выбор.
– И какой выбор сделала ты? Исправили ли эти книги твою жизнь? – выпалил я. – Почему ты ничему не научилась из них и по-прежнему позволяешь себе оставаться несчастной? – я говорил искренне, желая Марии добра; уже не один месяц мое сердце сжималось, понимая, что ей не место здесь, не место даже рядом со мной.
Маша дерзко посмотрела на меня.
– Замолчи, – тихо попросила она.
– Извини, я не хотел…
– Дима, замолчи, пожалуйста.
Наступила тишина. Именно этот момент стал началом конца наших отношений. Не желая того, я вскрыл старые раны Маши, слишком точно и метко попав в центр боли.
В тот вечер я молча оделся, вышел и до сих пор не смог найти ответа, как бы все сложилось, если бы я остался там, рядом с близким сердцу человеком.
* * *
Как бы то ни было, вскоре мы помирились, но прежние отношения было не вернуть. Что-то надломилось в Маше после того разговора, как будто лед, на котором она стояла, уже очень давно таял, медленно, но невозвратно предвещая смену сезона. И я, вступивший на этот лед вслед за ней, слишком сильно перегрузил его, вызвав трещины по всей поверхности. Лед тронулся, она успела сойти на противоположный берег; я же остался там, где и был. В ее прошлом.
Нас больше не связывал секс, но осталась дружеская связь. Со временем я стал отмечать все большую и большую задумчивость во взгляде девушки. Наконец, Мария объявила, что уезжает в Москву. Настал мой черед обижаться и недоумевать:
– Как, почему и к кому ты уезжаешь?
– Я стала общаться со старыми друзьями, Дима… Поискала вакансии организатора частных выставок. Я нужнее там, вернее, здесь я точно никому не нужна, а там – может, и пригожусь. Там хотя бы есть надежда.
– Маша, я люблю тебя, – я простонал слова, которые следовало произнести гораздо раньше.
– Спасибо тебе. Ты помог мне поверить себя и в то, что я еще что-то значу. Спасибо тебе, Дима, – не обращая внимания на признание, только лишь и произнесла она.
Мы еще долго стояли и смотрели друг на друга, не решаясь отпускать навсегда.
Помимо самых нужных вещей, с собой она увезла любимые романы Достоевского.