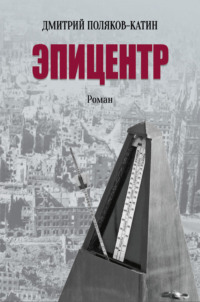Kitabı oxu: «Эпицентр»
* * *
© Поляков-Катин Д.Н., 2022
© ООО «Издательство „Вече“», 2022
* * *

Часть первая
1944 год (июль)

Берлин, Принц-Альбрехтштрассе, 8, Главное управление имперской безопасности (РСХА), IV управление, гестапо, 16 июля
С утренней корреспонденцией на стол начальнику IV управления РСХА Генриху Мюллеру легло нераспечатанное секретарем письмо с грифом «Вручить лично». Обратный адрес и имя отправителя на конверте отсутствовали.
У Мюллера болела голова и тянуло в области печени, вероятно, после румынского коньяка, испробованного им накануне в обществе вернувшихся с Балкан двух перевербованных агентов «Сигуранцы». Коньяк был дрянной, явно из какой-нибудь сельской винокурни, но Мюллер настолько вымотался за день, что осознал это только поутру, опрометчиво поверив этикетке с чеканным профилем Александра Македонского. «Проклятые цыгане, – мрачно думал он, – за пару лишних леев они черту натянут рога».
Не сдвигая с места лежавшие на столе локти, Мюллер повертел конверт в пальцах, зачем-то понюхал его, прищурившись, вгляделся в написанный от руки адрес и только потом вскрыл с помощью металлической линейки. Развернув выпавший из конверта лист, он быстро пробежал текст. Затем, после небольшой заминки, нацепил маленькие, круглые, в тонкой металлической оправе армейские очки и перечитал написанное медленно и внимательно.
В письме говорилось: «Группенфюрер! Имею Вам сообщить, что 20 июля в ставке „Вольфшанце“ будет совершено покушение на Адольфа Гитлера. Хочу также уведомить, что три дня назад уже была предпринята такая попытка, но она сорвалась по независящим от заговорщиков причинам. Группенфюрер! Еще есть время, чтобы предотвратить это чудовищное преступление. Верный член партии, патриот Германии. Пилигрим».
Мюллер уронил письмо на стол. В задумчивости он стал снимать очки, потянул зацепившуюся за ухо дужку и раздраженно сдернул их, повредив крепление в оправе.
Подобные депеши приходили на Принц-Альбрехтштрассе в изобилии, чаще всего на них просто не обращали внимания. Предупреждали о разном: о подозрительном соседе, все время что-то пишущем в своем углу, не исключено, антиправительственные листовки; о преступных ошибках генералов с подробным изложением путей исправления их просчетов; о том, что карточки пора отменить, так как все можно купить на черном рынке в Панкове; что фрау Зильде смеялась над ужимками Геббельса в киножурнале «Вохеншау», а герр Браун назвал его доводы идиотскими и высморкался в газету с портретом фюрера. Не было ни времени, ни ресурсов разбираться с подобной чепухой.
Это письмо не распечатали и не передали референтам лишь потому, что на конверте стоял гриф «Вручить лично» в виде штемпеля, принятого в системе РСХА.
Анонимки неравнодушных граждан о готовящемся покушении на фюрера поступали в гестапо всегда, а в последнее время их стало даже слишком много. Поначалу их пытались тщательно проверять, но ни одна так и не получила подтверждения. И хотя имелось распоряжение Гиммлера уделять такого рода доносам самое пристальное внимание, постепенно к ним стали относиться формально, в основном с целью подстраховаться на случай проверки.
Но в этом послании присутствовало что-то, мимо чего Мюллер не мог пройти. И в первую очередь – бумага. Бумагу такого, чуть голубоватого оттенка использовали исключительно в аппарате Главного управления имперской безопасности, точнее, с третьего по шестое управление: внутреннее СД, гестапо, крипо и СД Шелленберга. То есть человек, написавший письмо и поставивший штемпель на конверте, очевидно, работал в РСХА и, следовательно, мог владеть информацией исключительной достоверности.
Чутье полицейского подсказывало Мюллеру, что на сей раз все может оказаться по-настоящему серьезно. А если так, то действовать полагалось незамедлительно.
Он нажал кнопку коммутатора.
– Слушаю, группенфюрер, – раздался голос секретаря.
– Шольца ко мне, – бросил Мюллер.
Закурив, он поднялся, подошел к окну, открыл створку и присел на подоконник. С улицы внутрь душного кабинета вместе с птичьим трезвоном ворвался поток свежего воздуха, насыщенного ароматом роз, цветущих в садах напротив. Лето перевалило за экватор и устало катилось к августу с его пряной сыростью и долгожданной прохладой. Молодая женщина в темной шляпке с заброшенной кверху вуалькой умиротворенно катила перед собой детскую коляску. С мягким урчанием по улице друг за другим проплыли одинаковые служебные «мерседесы». Против здания тайной полиции в немом карауле выстроились грузные каштаны, помнящие кайзера Вильгельма. За одним из них, самым старым, Мюллер наблюдал весь год, усматривая в его сезонных переменах высокий смысл течения жизни, состоящей из воодушевляющих взлетов и обескураживающих падений.
По логике сейчас надо было немедленно доложить о полученном сигнале руководству. Вообще говоря, о том, что против фюрера вызревает какое-то преступление, было известно давно. Уже два года гестапо наблюдало за действиями заговорщиков в среде военных, были известны имена, места встреч, кого-то из них время от времени допрашивали, отстраняли от дел, кто-то даже сидел на предварительном следствии, но вся эта история тянулась вяло, осторожно, без огонька, в первую очередь, видимо, потому, что Гиммлер, имевший серьезные виды на армейское руководство, не хотел вносить еще больший разлад и в без того натянутые отношения с вермахтом. Мюллер четко осознавал, что рейхсфюрер не заинтересован в педалировании расследования, и как умный служака следовал хоть и не оформленной в прямое указание, но верно угаданной им линии непосредственного начальства.
Но теперь, когда до покушения, если верить сигналу, оставалось всего четыре дня, начальство следовало поставить в известность. Пепел с почти догоревшей сигареты, крепко зажатой в пальцах, посыпался на костюм, Мюллер с досадой выбросил ее в окно и стал отряхивать брюки. «Но какое начальство?» – задался он вопросом.
Ясно, что речь не шла о Кальтенбруннере – этот поднимет трезвон, а потом, когда ничего не произойдет, спустит собак на Мюллера. Докладывать надо было либо Гиммлеру, либо кому-то из окружения фюрера, с кем у Мюллера сложились доверительные отношения. Это мог быть начальник партийной канцелярии Борман или начальник рейхсканцелярии Ламмерс – с обоими шеф гестапо вел тонкую игру, поставляя им важную информацию из недр РСХА.
«Допустим, Гитлер будет убит, – размышлял Мюллер. – В этом случае Ламмерс теряет влияние. Борман – нет. Борман – партия. А Гиммлер – полиция, гестапо, Ваффен-СС. Они поладят. Потому что есть вермахт, который имеет свой интерес». От Гитлера устали, его смерть была бы благом для всех. Мюллера занимало одно: что будет после Гитлера? Он, как никто, понимал, что в политике правит тот, кто контролирует аппарат насилия. Именно он – позвоночник любого государства. И значит, идти через голову Гиммлера в данной ситуации было смертельно опасно.
А если покушения не будет? Если удастся его сорвать? Тогда Мюллер будет осыпан наградами – и можно забыть о послевоенной лояльности победителей. Он будет нужен только Гитлеру – покойнику, ведущему рейх в могилу.
Дверь бесшумно открылась, в проеме появился штурмбаннфюрер Шольц, одетый в неброский серый костюм с партийным значком на лацкане. Шольц был одним из немногих людей, кому шеф гестапо доверял практически всецело. Душа технократа – все-таки тоже душа. Несмотря на корректно-грубоватое отношение к подчиненным, Мюллер умел быть верным, и Шольц ценил это в нем.
Мюллер жестом указал место за боковым столом и сам уселся напротив.
– Он заговорил, – сказал Шольц.
– М-м?
– Лемке, радист, которого мы взяли. Обошлось без интенсивного допроса. Достаточно было намекнуть. Он сам все понял. И если верить его словам…
– Об этом позже, – оборвал его Мюллер и выложил перед ним письмо. – Взгляни-ка на это.
Он сунул в рот сигарету и, пока Шольц читал текст, сквозь пелену дыма напряженно изучал его лицо, которое ничего, кроме ровного интереса, так и не выразило. Единственным эмоциональным всплеском было задумчивое почесывание носа.
– Что скажешь? – спросил Мюллер, когда Шольц отложил письмо.
Тот поднял на него голубые глаза:
– Это же через четыре дня.
– Да. Так что ты скажешь?
– Очевидно, писано кем-то из наших. Бумагу такого цвета можно встретить только у нас.
– Верно. – Мюллер взял с письменного стола конверт и перекинул его Шольцу: – Вот еще.
– Угу, – согласился Шольц, разглядывая штемпель. – Тогда определенно РСХА. – Он вновь всмотрелся в текст и добавил: – Писал мужчина. Вероятнее всего, левой рукой, если, разумеется, он правша. И наоборот.
– Пожалуй. Твои действия?
Шольц помялся и заметил:
– Я думаю, надо доложить рейхсфюреру.
Повисла угрюмая пауза. Мюллер сел боком, навалился локтем на стол и тихо спросил, уставив на Шольца тяжелый, немигающий взгляд, пригвоздивший того к стулу:
– А зачем?
– Но это не обычная кляуза.
– Да, не обычная, – согласился Мюллер. – Но я спрашиваю – зачем? Что это даст?
– Я не понимаю, Генрих.
– А что тут понимать? Рейхсфюрер никогда не стремился вмешиваться в дела заговорщиков настолько, чтобы пресечь эту историю. А если он этого вообще не хочет? Если в его планы не входит им помешать? М-м?.. Думаешь, его обрадует вынужденная необходимость перейти к решительным действиям?
– Но мы ставим себя под удар.
– Мы подставляемся в любом случае. Но не это главное. Мой дед, простой мельник из Цвизеля, говорил: «Пусть лучше взбесится стая, чем вожак». Понимаешь меня? – Мюллер с силой выпустил дым из ноздрей и тяжело засопел, крепко сжав тонкие губы. Затем метнул в портрет Гитлера на стене пронзительный взгляд и продолжил: – Сейчас не тридцать пятый год, Кристиан. Нас бьют. И будут бить до тех пор, пока тут что-то не переменится в сторону… здравого смысла. Мой мудрый старик учил меня: «Не лезь в драку вожаков, если не хочешь стать одним из них». Очень скоро по нашим вожакам будут палить картечью. И у меня нет амбиций попасть в их число.
Уловив заминку, Шольц неуверенно спросил:
– Так что же делать?
– Ждать. И наблюдать. – Они посмотрели друг на друга и отвели глаза, как бывает, когда слова проникают вглубь и оставляют впечатление полного взаимопонимания. Вдруг Мюллер улыбнулся, как он умел, одними губами: – Отступим пока. И посмотрим из зала, кто возьмет на себя роль спасителя Германии. Тем более что ждать, если верить этой бумажке, осталось совсем недолго. А полиция, мой дорогой друг, нужна всем и всегда.
«А если это провокация? – вдруг подумал Мюллер и сразу ответил: – Чушь. Покушение сорвется – и я спрошу, хоть бы и у Ламмерса: почему те, кто устроил проверку, не предотвратили его? А в случае удачи – за мою лояльность будут платить все, даже военные». В архиве тайной полиции велись компрометирующие досье практически на каждого из бонз рейха, и они находились под полным и прямым контролем шефа гестапо. Мюллер не стал произносить этого вслух.
– Я понял, – сказал Шольц. – Уверен, что вы выберете лучшую стратегию. А что делать с этим? – Он указал на письмо.
– Возьми себе. – Мюллер встал, ладонью провел по лбу, словно хотел стереть боль в висках. Поднялся и Шольц.
– Бумагу эту надо списать, как будто ее и не было. Конверт пришел пустой, – распорядился Мюллер. – И постарайся выяснить, кто этот доброжелатель? Мне бы очень хотелось пожать его мужественную руку и посмотреть в глаза. Привлеки Земана и Броха. Но только так, чтобы ни тот, ни другой не узнали содержимого письма. Если вычислишь его в ближайшие сорок часов, дам тебе отпуск.
– Спасибо, Генрих. Я сделаю что смогу, без поощрения. Вы же знаете, я не бываю в отпусках.
– Напрасно. Мозгам, штурмбаннфюрер, надо время от времени давать отдых. Даже таким, как твои. Ну, да ладно, обойдемся ужином в «Энгельгарде». – Мюллер умолк. Веки его были воспалены и мелко подрагивали. Потом он сказал: – Найди мне его. Он либо дурак из партийной массовки, либо это осознанный намек на то, что он может сообщить нечто большее. Только поторопись. Как бы не было поздно. У меня к нему назрела пара насущных вопросов.
Они направились к двери.
– Минуту, – вдруг замер на месте Шольц, – у меня мелькнула идея. А что если подбросить то же самое в почту Кальтенбру… нет, лучше кому-то, кто близок рейхсфюреру?
– Ты имеешь в виду Шелленберга?
– А почему нет? Шелленберга, Вольфа. Только не Брандта, конечно. Оставить печать на конверте, а письмо переадресовать. И посмотреть, какая будет реакция?
– Ну, что ж, подумай об этом, Кристиан. – Мюллер мгновенно оценил преимущества предложенной Шольцем схемы: тот же Шелленберг обязательно доложит Гиммлеру, и можно будет понять, каковы намерения шефа СД, сколь велико его влияние на рейхсфюрера и каким сам рейхсфюрер видит свое будущее. – Только бумага должна быть обычная… нет, лучше школьная, в клеточку… Подумай об этом. Но – быстро. Времени нет. А пока, будем считать, что все изложенное в анонимке – чистой воды бред жертвы барабанщиков Геббельса. – Мюллер вновь провел рукой по лбу, встряхнул головой. – Кстати, что там за переполох в четвертом отделе? – поинтересовался он.
– Да вот, гауптштурмфюреру Штельмахеру из «оккупационного» дурной сон приснился. Вскочил среди ночи, выхватил из-под подушки пистолет и, видимо, ничего не соображая, всадил пулю в ягодицу своей любовнице, которая копошилась в темноте. Одевалась, наверное.
– Да? И что, жива любовница?
– Ничего страшного, сквозное, пустяки. Беда в том, что она… это жена Вайнеманна.
– О! Он же его начальник! – хмыкнул Мюллер. – Да-а, сюжет не для слабонервных. Казарменный водевиль какой-то.
– Вайнеманн желает выслать его в Варшаву.
– По мне, это мелко. Мог бы вызвать на дуэль. Впрочем, пусть разбирается сам, как хочет. Его жена. Как бы теперь он ее не подстрелил… – Мюллер замер, словно о чем-то внезапно вспомнил. – Ладно, так что ты там говорил про Лемке? Лемке сказал, что-то сказал…
– Ах, да, Лемке, связист. Мы его допросили. Он потёк. Ему мало что известно. Его держали в максимальном неведении, брали на сеанс, выдавали шифровку – и всё. Стучал, как дятел, получал деньги. Похоже на правду. Во всяком случае, я ему верю. Он даже не знает, на кого работает сеть. Но кое-что он все-таки сообщил.
– Ну?
Шольц посмотрел в глаза Мюллеру:
– Он сказал, что в нашем ведомстве роется крот.
Двумя месяцами ранее
Москва, Октябрьское Поле, южнее деревни Щукино, Лаборатория № 2, 10 мая
В среду, накануне совещания у Сталина, начальник 1-го управления НКГБ Павел Ванин решил съездить к Курчатову на место его непосредственной работы или, как говорили между собой, «на объект». Он вызвал служебную «эмку», но от водителя отказался – за руль сел сам, прихватив Валюшкина в качестве сопровождающего. Несмотря на возникшую путаницу в донесениях разведки по поводу предстоящей высадки союзников во Франции, настроение у Ванина приближалось к степени безотчетной радости, и он ничего не мог с этим поделать.
С самого утра солнце заливало все вокруг ослепительным светом с такой избыточной щедростью, что казалось, вот-вот, и в мире исчезнут тени. Распустившаяся лишь в начале мая черемуха приукрасила бедный пейзаж оживающего после третьей военной зимы города. Пьяный дух белоснежных цветков, усыпавших жидкие, чудом уцелевшие кустарники московских дворов, проникал в окна затхлых, перенаселенных квартир как знак выздоровления и надежды. Даже очереди, вечные, серые барельефы вдоль облупленных стен, тянувшиеся за хлебом, продуктами, карточками, к молочным бидонам и водоразборным колонкам, даже они как будто повеселели, словно с солнечными лучами и новым гимном Александрова, гремевшим из уличных репродукторов, к ним вновь вернулось нечто важное, крепко подзабытое из того, что почти уже скрылось в туманном прошлом.
Курчатов, отличавшийся педантичной пунктуальностью, точно рассчитал, сколько времени потребуется, чтобы доехать от площади Дзержинского до Щукино, и вышел к шлагбауму на проходной ровно тогда, когда автомобиль Ванина показался из-за поворота. Его долговязая фигура в просторной толстовке и легких, льняных брюках довоенного фасона была видна издалека, точно маяк, обозначающий путь на самый засекреченный объект страны под нейтральным названием Лаборатория № 2. Рядом с Курчатовым стоял молодой ассистент в наброшенном на плечи белом халате.
Предъявив документы, Ванин отогнал машину на стоянку, передал ключи Валюшкину и направился к Курчатову, приветливо раскинув руки.
– Здравствуй, Игорь Васильевич, здравствуй, дорогой. Вот посмотреть приехал, как ты тут с фашизмом воюешь.
– Давно пора, – просиял тот, пожимая руки Ванину. – А то ведь ты у нас такой редкий гость, Павел Михайлович. Падаешь, аки сокол с небес, внезапно. А мы тебя ждем. Сам знаешь, без твоей огневой поддержки нам в атаку ходить трудно.
– Поддержим, – заверил Ванин. – Из шкуры выпрыгнем, а поддержим.
Курчатов слегка приобнял Ванина и указал ему на дорожку вдоль рядка цветущих юных яблонь, ведущую к невзрачному трехэтажному корпусу с облезлым флигелем, именуемому сотрудниками «красным домом».
– Ну, идем, Павел. Покажу тебе наши позиции. В этом году ты у нас, считай, ни разу не бывал.
Они пошли к «красному дому», неспешно, тихо переговариваясь. Ассистент следовал за ними на деликатном расстоянии. Задержались возле сетки, натянутой между шестами.
– А это что у вас? – удивился Ванин.
– Ребята площадку сделали. Мы здесь в волейбол играем. А ты подумал?
– А я подумал, в футбол.
Оба рассмеялись. В глазах Курчатова вдруг загорелся азартный огонек.
– А давай сыграем? – предложил он. – Минут за десять я тебя общёлкаю.
– Да я для этой игры, кажись, ростом не вышел, – как бы нехотя отозвался Ванин, уже сбросивший ремень и закатывающий рукав гимнастерки. – Ты-то вон какой вымахал. К тому же я в сапогах, а у тебя вон ботиночки парусиновые. Фору давай!
– Ладно, раз так. Гасить не буду. Саша, – обратился Курчатов к ассистенту, – айда со мной! – И Ванину: – Дать тебе кого-нибудь из моих?
– Не надо. – Ванин повернулся к стоянке, на которой маялся бездельем Валюшкин, высматривая что-то под колесами «эмки», втянул нижнюю губу и свистнул. Валюшкин вскочил и обернулся. – Эй, Серега, давай сюда! – крикнул он. – Вторым будешь!
Края волейбольного поля были отмечены битым кирпичом. Курчатов подхватил забытый в траве видавший виды кожаный мяч, отошел на заднюю линию и легким взмахом прямой ладони отправил его на половину Ванина. Ванин взял мяч с обеих рук и мягким ударом передал Валюшкину, который засуетился и пропустил его между растопыренных пальцев. Последовала новая подача. Потом еще. Валюшкин, если и принимал пас, отправлял мяч в любом направлении, кроме как в сторону соперника. Наконец Ванину удалось блокировать резкий удар Саши и перехватить инициативу. Его подача удивила Курчатова: пытаясь принять слишком низкий пас, Саша кувыркнулся в траву. Валюшкин взвизгнул от восторга. «Да ты прямо Анатолий Чинилин!» – воскликнул Курчатов. Мяч вернулся к Ванину. Курчатов указал партнеру на край поля и сосредоточился. Удар – и принятый «на манжет» мяч взмыл ввысь. Курчатову страшно хотелось «погасить», но он сдержал себя, помня о форе, обещанной Ванину. Валюшкин опять пропустил подачу, и Ванин не смог сдержать ироничную улыбку.
Еще минут десять они взбивали пыль на волейбольной площадке, пока с досады на свою неловкость Валюшкин не саданул сапогом по мячу, отправив его под сетку прямиком на половину противника. Саша принял летящий мяч на внутреннюю часть стопы, отпасовал Курчатову, тот грудью остановил его и сильным ударом ноги вернул Ванину. Волейбол плавно перетек в футбол то на той, то на другой стороне поля. А когда, взмокшие, веселые, они бросили гонять мяч, то увидели в окнах «красного дома» множество лиц, с интересом наблюдающих за ними.
– Ну вот, – подвел черту Курчатов, – теперь бороду надо стирать.
– Будем считать, победила дружба, – улыбнулся Ванин, одергивая гимнастерку под ремнем. – Верно, Валюшкин? Давай к машине.
Резкими ударами ладоней Курчатов выбил пыль из штанин. Лицо его преобразилось, стало спокойно-собранным.
– Ладно, Павел Михайлович, идем уже, – сказал он. – Займемся делом.
За год, прошедший с момента учреждения Лаборатории № 2 – сверхсекретного института, экстренно созданного исключительно для разработки урановой бомбы, на пустыре бывшего Ходынского поля, когда-то служившего армейским стрельбищем для военных лагерей, внешне мало что изменилось. Ванин почему-то думал увидеть здесь какие-то заметные перемены. Но нет, всё та же усеянная старыми гильзами, разрезанная надвое оврагом пустошь с примыкающим массивом соснового леса; всё та же палатка из выцветшего, задубевшего на ветру армейского брезента, приспособленная под испытательную лабораторию; всё тот же недостроенный красный корпус института экспериментальной медицины, избранный Курчатовым для головного здания своей организации, к которому приладили второй флигель, а в апреле наконец-то соорудили над ним крышу. Среднюю часть здания заняли лаборатории, там же разместили кабинет Курчатова, в крыльях поселились сотрудники, подвал оборудовали под мастерские.
Всё, что смогла дать истекающая кровью страна.
Сцепив руки за спиной, Курчатов шагал впереди Ванина своей размеренной, слегка заплетающейся походкой и почти восторженно демонстрировал ему свои владения, словно это были не кирпичный барак с брезентовой палаткой, а, по крайней мере, научный зал Лондонского королевского общества.
– Ты думаешь, у нас тут одни старики? Академические крысы вроде меня? А вот и нет. Посмотри, какие орлы! Посмотри. Молодые, веселые, злые! Они у меня молодцы. Работают по двадцать часов в сутки. Здесь и спят. Да я тоже, признаться, частенько до дома не добираюсь.
– Спи у нас. Мы же тебе кабинет дали.
– Нет уж, у вас не очень-то и уснешь. Я лучше здесь, со своми. Кстати, вот познакомься, – подпихнул он худого парнишку лет тринадцати в коротком халате, измазанном углем, – наш сын полка, Кузьмич. Лаборант от Бога! Нет такой колбы, которая сбежит от него немытой.
Курчатов подобрал его на вокзале. Кузьмич стянул у него бумажник, но был схвачен. Мальчишку хотели сдать в милицию, однако Курчатов, узнав, что тот круглый сирота, потерявший родителей в первые месяцы войны, решил оставить его у себя.
Люди здоровались, Ванин пожимал протянутые руки и думал о том, как их мало, ничтожно мало. Семьдесят четыре человека, из которых лишь треть – научные сотрудники.
И тем не менее он был удивлен, сколько всего вместилось в столь незначительное пространство. Со слов Курчатова, одновременно эта горстка людей умудрялась вести не меньше пяти-шести направлений, каждое из которых было сопряжено с другими единой задачей – созданием действующего ураново-графитового котла для наработки «взрывчатки» будущей бомбы – оружейного плутония.
«Через пару недель приступим к опытам по выработке надкритических масс в системах на быстрых нейтронах», – похвастался кто-то из сотрудников, на что Ванин отреагировал значительным кивком головы, показав, что такая абракадабра для него не пустой звук, хотя это было не так.
Значительно большее впечатление на него произвел стенд на втором этаже здания с двумя боевыми винтовками, повернутыми дулами друг к другу. Чтобы понять физику «пушечного» подрыва бомбы, производился встречный выстрел, и в момент столкновения двух пуль, по специально разработанной методике, осуществлялось высокоскоростное фотографирование, разбивающее этот процесс на множество кадров. Для Ванина повторили опыт, и он ясно услышал, как с треском разряжались электрические конденсаторы скоростной фотографии. «Мы пришлем тебе карточки», – пообещал Курчатов.
В армейской палатке проводили испытания по определению чистоты поступавшего с Московского электродного завода графита. Работа велась круглосуточно. Днем разгружали грузовики с графитом, выкладывали из крупных брусков кубы и призмы с нейтронным источником в центре, а ночью, когда было меньше помех, вели измерения. Вот и теперь сотрудники лаборатории сооружали тяжелую пирамиду, которая должна была дотянуться до самого верха палатки. Ванин вспомнил Хартмана, своего агента в Берлине, который в прошлом году передал информацию о том, что немецкие физики переориентировались с тяжелой воды на сверхочищенный графит в качестве замедлителя нейтронов. Он не стал напоминать об этом Курчатову, но тот сам заговорил:
– Вовремя тогда пришел намек на графит. Побольше бы такой информации. Я говорил Васину: пусть завод займется очисткой. Он распорядился. Пришло четыре тонны. Смотрим – ну, не то! Грязный. Зольность и примеси бора в их графите увеличивают сечение захвата нейтронов на порядки. Я им говорю: убирайте примеси. А они – это невозможно, не понимаем, чего ты хочешь. Вот и приходится самим отбирать, поштучно. Глядишь, с партии один-два бруска подойдут более-менее, остальное – шлак. А надо, видишь ли, сотни тонн идеально чистого. Идеально.
– А там что? – Ванин кивнул на небольшой холмик с крышкой на петлях.
– Идем, покажу.
С загадочным видом Курчатов откинул крышку, и по крутой лестнице они спустились в погреб. Зажгли свет. В центре просторного помещения стояла большая бочка, наполненная водой.
– Хозяйство моего брата Бориса, – пояснил Курчатов. – Попробуем здесь, в этой вот штуке, извлечь плутоний. Смешно? Вот и мне смешно. А только – чем богаты…
Помогая себе руками, чтобы быть понятым, Курчатов постарался доходчиво изложить Ванину суть метода. Получилось, что в бочку с водой будет погружена колба, содержащая около десяти килограммов раствора солей урана, с нейтронным источником в центре. Пойдет излучение. Вода замедлит быстрые нейтроны источника до тепловой энергии, при которой они наиболее эффективно взаимодействуют с атомами урана. При благоприятном исходе промежуточный продукт накопится до насыщения уже через пару недель.
Ванин вежливо слушал его, следя не столько за ходом мысли, сколько за одержимостью ученого…
Скамейка была врыта в землю в ста метрах от «красного дома». Они сидели на ней и смотрели на овраг, покрытый ярко зеленой травой с полянами из желтых цветов одуванчиков, под линзой бледно-голубого неба. Над одуванчиками мелькали крылья бабочек и мотались, точно спросонья, тяжеловесные шмели, жужжание которых, то усиливаясь, то отдаляясь, разносилось по всей округе.
– Река где-то там? – спросил Ванин.
– Да, – махнул рукой Курчатов, – в той стороне. Закуришь?
– У тебя какие?
– «Казбек».
– Давай.
Курчатов достал коробок, чиркнул спичкой и дал прикурить Ванину. Тот затянулся и заметил:
– А ты седеешь.
– Это ничего. – Курчатов невесело усмехнулся. – Это даже красиво.
Они замолчали. Ванин сидел, уперевшись локтями в колени, и вертел на пальцах фуражку, удерживая ее изнутри за околыш.
– И что скажешь, комиссар? – спросил Курчатов. – Видал наши достижения?
Ванин молчал, зажав в зубах папиросу.
– Ты знаешь, Павел, я оптимист. Наукой вообще должны заниматься только оптимисты. Только дух, устремленный ввысь, способен воспринимать хаос как поприще. Но буду с тобой откровенен: год прошел, а мы мало чем можем похвастаться. На одном оптимизме далеко не уедешь. При одинаковых задачах условия, в которых трудятся физики Германии и США, заметно отличаются от наших… мягко говоря. Лос-Аламос, институт кайзера Вильгельма… Я не говорю о бытовых проблемах, это чепуха. И за мозги наших ученых я абсолютно спокоен. Те же Гуревич и Померанчук, как говорится, на кульмане раскатали теорию гетерогенной сборки котла. – Его пальцы непроизвольно стали мять папиросу. – Но вот материально-техническая база, возможности, они должны быть усилены в десятки, нет, в сотни раз. С этой кустарщиной пора кончать. Такими темпами мы ничего не успеем… Я докладывал Молотову, но он, как мне кажется, занят другими вопросами. Если бы немцы, американцы увидели это… – Он кивнул в сторону «красного дома».
– Всё так, всё так, – устало согласился Ванин. – Не буду скрывать, они нас в расчет не берут. У них ведь тоже агентура. Гонятся друг за другом.
– Может, оно и к лучшему?
– Может быть. По всему выходит, что мы здорово отстаем. А, Игорь Васильевич?
Папироса в пальцах Курчатова посыпалась, он достал из пачки другую. Лицо его потемнело.
– Так.
– И что будем делать?
– Возражать будем. Все, что идет из разведупра и от вас, жизненно важно. Но у нас зачастую даже нет технической возможности проверить полученные данные, только одна теория. У меня много полномочий, но мало возможностей. Отозвал вот с фронта шестьдесят специалистов, а получил только двадцать шесть – остальные или погибли, или пропали без вести. Идет война, бойня, и люди не понимают, не могут понять, чего мы от них хотим? Делают, конечно, выполняют приказ, но не понимают. Надо делать танки, самолеты, пушки – все для фронта, все для победы. А я к ним с какими-то трубами, электроустановками, графитом, с опытами какими-то непонятными – чепухой, одним словом. Как назойливая муха. И не скажешь им… – Он смолк и ударил себя кулаком по колену: – Это не катастрофа. Разруха – вот что это такое! Не так надо, Павел, не так… Что-то разнылся я сегодня, не находишь?
– Это ничего. Можешь. – Ванин выпустил дым через ноздри и загасил окурок. – Ты вот что, будь осторожнее. Поберегись. Народу у тебя мало, а сигналы наверх идут.
– Да знаю я. И кто доносы пишет, тоже знаю.
– Так чего ж ты его не уберешь?
– Зачем? Работает он хорошо, с отдачей. Толк от него есть. А пишет… так заставили, наверно. Да и пишет, думаю, так, вполсилы, чтоб отвязались. Парень-то дельный.
– Ну-ну, тебе видней. – Ванин сделал глубокий вдох. – А вид отсюда – как у нас в Ожогино. Просторы.
– Ожогино, это где?
– Село такое. Шатровская волость Ялуторовского уезда Тобольской губернии. Село Ожегино. Я ж деревенский, там родился.
– А я – в городке Сим Челябинской области. Слыхал?
– Знаю. Отец – лесник, мать – учительница. Беспартийный. Женат. Сорок лет.
– Сорок один.
Они рассмеялись.
– Поеду, пожалуй, – вздохнул Ванин. – Хорошо у тебя тут, но… дел невпроворот. Завтра у Верховного встретимся?
– Погоди, – встрепенулся Курчатов, – у нас же вон там огороды. Выращиваем сами, что растет. Я скажу ребятам пакет картошечки нашей тебе насыпать.
– Спасибо, не откажусь.
Прошла секунда, другая… минута. Ванин не пошевелился.
– Забавно, – тихо сказал Курчатов, задрав подбородок. – Я им выдаю гипотезы на основании ваших донесений, пытаюсь их применить к нашим исследованиям, а они как зачарованные смотрят мне в рот, будто я гений какой-то.
Молчание – лишь тонкое цвирканье какой-то невидимой птички.
– Они смотрят мне в рот, – еще тише добавил он. – А я смотрю в их глаза. И вот я думаю: это – Бетховен? Чайковский? Бах? – Курчатов покачал головой. – Нет. Это – Равель. Да, Равель. «Болеро».