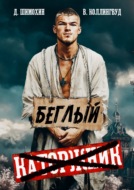Kitabı oxu: «Беглый»
Глава 1
…Он медленно поднял руку, подавая знак своим солдатам. Другая его рука так же медленно потянулась к кобуре револьвера на поясе…
Сердце пропустило удар, а потом заколотилось где-то в горле. Узнал. Это конец. Драться с его солдатами и конвоем позади – самоубийство. Бежать – не успеем. Оставалось одно – говорить. Лгать так, чтобы он если не поверил, то хотя бы засомневался или решил не связываться.
Прежде чем Рукавишников успел отдать команду или выстрелить, я, стараясь, чтобы голос не дрожал, выехал чуть вперед, насколько позволяло пространство, и, приняв по возможности бравый, но уважительный вид, обратился к нему:
– Здравия желаю, Ваше Благородие! Разрешите обратиться?
Рукавишников замер, его рука застыла на полпути к револьверу. Он смерил меня ледяным, изучающим взглядом. Усмешка на его губах стала шире, но холоднее. Он явно наслаждался моментом.
– Говори, – бросил он коротко, не опуская руки от кобуры. Его солдаты напряженно следили за нами, готовые к действию.
– Курило, надзиратель с корийских приисков нынче, Ваше Благородие, – отрапортовал я, выдумывая на ходу.
– Сопровождаем груз горного офицера Попова из Нерчинска на Кару. Были с ним в Нерчинске по делам службы, он там и остался пока, а нам велел его вещи на Кару доставить. Вот, по пути решили завернуть – у одного из наших, – я неопределенно кивнул в сторону Хана, который как раз бледнел, – тут неподалеку родичи живут. С дозволения офицера Попова, конечно.
Я говорил ровно, глядя офицеру прямо в глаза, стараясь излучать служебное рвение и некоторую усталость от дороги. Краем глаза я видел, как мои спутники замерли, стараясь не дышать. Даже контрабандисты уловили суть игры и приняли подобающе угрюмый вид. Хан оставался невозмутим, как степной идол.
Рукавишников медленно опустил руку от револьвера, но взгляд его оставался острым и подозрительным.
– Надзиратель, говоришь? – протянул он, явно не веря. – Не из конвоируемых ли ты сам недавно был, голубчик? И офицер Попов… Какой именно Попов?
– Был, Ваше Благородие, нынче же надзирателем стал, – я позволил себе легкую улыбку. – Дорога длинная, пыльная. А офицер Попов – Иван Петрович, из управления Нерчинского горного округа. Помощник господина Разгильдеева. Нам велено его пожитки на Кару доставить, пока он в Нерчинске делами занимается. Мы люди служивые нынче, приказ выполняем.
Рукавишников прищурился. Он явно колебался. Моя уверенность, упоминание конкретного имени и звания, дерзкое заявление о пути на Кару – все это сбивало с толку. Он все еще узнавал меня, я это видел, но доказать с ходу ничего не мог.
– Вещи Попова, значит? – он обвел взглядом наши скромные пожитки и тюки контрабандистов. – А ну-ка, покажь, что везете! Солдаты, досмотреть!
Вот он, критический момент.
– Слушаюсь, Ваше Благородие! – с готовностью ответил я, но тут же добавил, понизив голос до доверительного тона. – Можем и показать, дело нехитрое, только… Офицер Попов уж больно трепетно к своим вещам относится. Характер у Ивана Петровича, сами понимаете… Не дай бог, узнает, что без него или без его прямого указания его сундуки вскрывали да вещи перетряхивали… Осерчает ведь, Ваше Благородие. А ну как жалобу напишет по инстанции? Оно вам надо, из-за простого любопытства с начальством окружным отношения портить? Мы люди маленькие, нам велено доставить в сохранности и побыстрее, мы и везем. А вскрывать – то только по его личному приказу…
Я замолчал, внимательно глядя на реакцию Руковишникова. Я играл на его возможном нежелании ввязываться в бюрократические дрязги с другим офицером из-за какой-то партии «надзирателей» с подозрительными рожами.
Рукавишников несколько секунд молчал, обдумывая ситуацию. Его взгляд скользнул по нашим напряженным лицам, по невозмутимому Хану, по тюкам. Он все еще не верил, но мой намек на возможные неприятности по службе, видимо, достиг цели. Рисковать своей карьерой из-за подозрения, которое еще надо доказать, он, похоже, не хотел. Или, может, решил проверить мою историю позже, связавшись с Нерчинском.
– Ладно, – наконец процедил он сквозь зубы, и в его голосе слышалось откровенное сожаление, что приходится нас отпускать.
– Проваливайте! Но если лжете, голубчики… найду ведь. В Сибири народу мало.
Он так и не убрал руку с кобуры, давая понять, что расслабляться рано.
– Рады стараться, Ваше Благородие! – бодро ответил я, стараясь скрыть вздох облегчения.
Я тронул поводья, стараясь не показывать спешки. Мои спутники последовали моему примеру. Мы медленно двинулись мимо патруля, чувствуя на спинах тяжелый, пристальный взгляд Рукавишникова. Он смотрел нам вслед, пока мы не скрылись за поворотом дороги.
Только тогда напряжение немного отпустило.
– Пронесло… – выдохнул Софрон, вытирая пот со лба.
– Еле-еле, – пробормотал я, чувствуя, как дрожат руки.
Левицкий же наконец выдохнул, он как Руковишникова увидал, сразу за спины спрятался, что-бы не маячить.
Да и как его сюда занесло? Может с новой партией арестантов прибыл.
Хан молча кивнул и пришпорил коня. Мы поспешили за ним, подгоняемые не только пылью дорог, но и ледяным взглядом офицера Рукавишникова, который теперь наверняка будет искать нас с удвоенной энергией. Путь в Китай стал еще более желанным и еще более опасным.
Встреча с Рукавишниковым подхлестнула нас почище любого кнута. Мы гнали лошадей почти без отдыха, сворачивая с больших дорог на едва заметные тропы, которые указывал Хан. Бурят двигался с какой-то сверхъестественной уверенностью, словно читал эту землю, как открытую книгу. Страх погони сидел в нас так глубоко, что даже короткие привалы для кормежки лошадей и скудной трапезы казались непозволительной роскошью. Тит, которому Левицкий кое-как перевязал раненое плечо, стоически терпел боль. Остальные молчали, каждый погруженный в свои невеселые думы.
Через несколько дней бешеной гонки, когда кони наши уже откровенно выдыхались, а мы сами едва держались в седлах от усталости, Хан наконец объявил, что мы приближаемся к условленному месту близ Нерчинска. Это была не сам город, а скорее одна из тех полулегальных заимок, где велась тайная торговля. Сюда, по словам Чижа, должен был заглянуть караван Лу Синя.
Под покровом ранних сумерек мы достигли нескольких приземистых строений. Чиж и Щербак, оставив нас с Ханом и лошадьми чуть поодаль, скрылись в одном из домов. Ожидание тянулось мучительно. Наконец, они появились, ведя за собой невысокого, старого китайца в темном халате и маленькой круглой шапочке. Это был он – Лу Синь.
Он молча оглядел нас цепким взглядом.
– Эти люди, господин Лу, – начал Чиж, выступая посредником, – хотят идти с вашим караваном. Говорят, есть чем платить. Им очень надо покинуть здешние места.
Я шагнул вперед, держа наготове облюбованный слиток.
– Господин Лу Цинь, – обратился я, стараясь говорить четко. – Мы просим вашего содействия. Мы заплатим.
Лу Цинь перевел на меня свои узкие глаза. С нашей последней встречи его русский не улучшился, он говорил отрывисто, с сильным акцентом, часто помогая себе жестами.
– Мой караван… большой… идет… Байян-Тумэн, – произнес он, кивая. – Много людей… опасно. Ваша плата?
Я протянул ему серебряный слиток, который мы заранее отделили – увесистый кусок примерно в триста граммов.
– Вот. Чистое серебро. За всех нас.
Лу Цинь взял слиток, внимательно осмотрел, повертел в руках, даже чуть царапнул ногтем. Его лицо оставалось непроницаемым. Затем он кивнул, и на его лице появилось нечто вроде одобрения.
– Хорошо… Добро серебро. Два дня стоять будем. Потом… путь. Трудный путь.
Чиж тут же пояснил:
– Господин Лу говорит, караван отправляется послезавтра на рассвете. Идет он во Внутреннюю Монголию, а там и в Байян-Тумэн. Предупреждает, что дорога нелегкая. До этого времени можете тут передохнуть. Мы поможем с припасами.
– Погоди, а разве не в Манжурию, – влез Изя.
– Нет, в Манжурии делать нечего они редко кого к себе пускают и с торговлей там так себе нынче. Через Монголию пойдем, во внутреннюю, это считай что и есть Китай, только граница там и чиновники императора сидят, – тут же пояснил Чиж.
Изя же покивал.
За оставшееся время мы, с помощью Чижа и Щербаком, действительно смогли немного подготовиться. На местном торжище, где сновали самые разные личности, мы обменяли еще часть серебра на необходимые вещи: сухари, вяленое мясо – «джерки», как их называли здесь, – немного пшена, плиточный чай и соль. Прикупили себе по плотному китайскому ватнику – наша одежда совсем износилась и бросалась в глаза. Сафар раздобыл у местного лекаря-бурята какие-то травы и мазь для Тита.
Два дня пролетели быстро. Караван Лу Циня был внушителен: больше полусотни вьючных лошадей и несколько верблюдов, груженых тюками с чаем, тканями, пушниной. Сопровождали его с десяток вооруженных китайцев и несколько местных кочевников, видимо, нанятых в качестве проводников и охраны. Хан, Чиж и Щербак также примкнули к каравану – их сотрудничество с Лу Цинем, похоже, было постоянным.
На рассвете третьего дня караван, скрипя и покачиваясь, начал свой долгий путь на юг, в сторону монгольских степей. Нас определили в середину растянувшейся колонны. Никто не задавал нам вопросов, но и дружеских улыбок мы не видели – обычная деловая отстраненность. Мы ехали, смешавшись с остальными, ощущая одновременно и огромное облегчение от того, что выбрались из непосредственной опасности, и глухую тревогу перед неизвестностью. Впереди лежала чужая земля, другие порядки, а за спиной, мы это знали, оставался неумолимый Рукавишников, который наверняка уже поднял тревогу.
Ночь сомкнулась над Забайкальем плотным, чернильным бархатом. Редкие звезды холодно мерцали в бездонной вышине, а ущербный месяц, словно стыдливая девица, то и дело прятался за наплывающие облака. Путь был один – за реку, в Китай. Отступать некуда.
– Пришли, – глухо буркнул Щербак, и караван из десятков людей останавился у самой кромки в густых камышах и переплетенного ивняка.
Перед нами черной, маслянисто поблескивающей лентой извивалась Аргунь. Тихий плеск воды о берег едва нарушал ночную тишину. Тот берег, тонул во мраке, казался бесконечно далеким и чужим.
Щербак достал из-за пазухи небольшой фонарь с жестяной заслонкой. Приоткрыв ее на мгновение, он трижды моргнул тусклым желтоватым светом в сторону реки. Мы замерли, затаив дыхание, вслушиваясь в ночь. Минута тянулась за минутой. Тишина.
– Може, не ждут? Передумали? – нервно прошептал Изя, плотнее кутаясь в свою дырявую армячину. – Ой-вэй, холод собачий, я таки замерз, как цуцик на морозе…
– Цыц! – зло шикнул на него Софрон, не оборачиваясь.
И тут из речной темноты, словно ответный вздох, донесся такой же тройной световой сигнал, только огонек был зеленоватым.
– Порядок, – удовлетворенно хмыкнул Щербак, пряча фонарь. – Ждут. Сейчас подойдут.
Вскоре из мрака бесшумно, выплыли пять приземистых, грубо сколоченных плота. На каждом стояло по двое угрюмых мужиков с длинными шестами в руках. Их лица едва угадывались в темноте, но вид у них был суровый и нелюдимый, самый что ни на есть разбойничий.
– Наши люди, – пояснил Чиж шепотом, чтобы слышали только мы. – Плотогоны. Днем лес по Аргуни сплавляют, а ночами, знамо дело, подрабатывают… оказии разные через реку тягают. Надежные ребята, Лу Синя знают, не первый год с ними ходим.
Началась торопливая, но предельно тихая погрузка. Наших лошадок пришлось заводить на качающиеся плоты чуть ли не силой, они храпели, упирались, прядая ушами, чуя холодную воду и ненадежную опору под копытами.
Тит и Сафар, кряхтя от натуги, перетаскивали тяжелые, неудобные мешки с нашим серебром.
Я с Захаром и Софроном помогали грузить тюки контрабандистов – чай, какие-то рулоны ткани, пушнину – все то, что вез Лу Синь. Левицкий, бледный, но собранный, стоял чуть в стороне, крепко сжимая в руках одно из наших ружей – мы предусмотрительно держали их наготове. Изя Шнеерсон суетился под ногами, спотыкался, что-то бормотал себе под нос, но тоже пытался таскать какие-то мешки полегче.
– Не приходилось таким в Одессе заниматься, Изя? – не удержался я от вопроса, видя его неуклюжесть.
– Ой, я вас умоляю, Курила! – всплеснул он руками. – Контрабанда – это таки у греков бизнес! А я порядочный еврей, торговал себе мануфактурой, пока эти бандиты не пришли…
– Быстрее, живее! – торопил Щербак, нервно оглядываясь на темный русский берег. – Не ровен час, нагрянут…
Его слова оказались пророческими. Едва последний тюк был уложен, и плотогоны, оттолкнувшись шестами от вязкого, чавкающего грязью берега, отошли на несколько саженей, как на том берегу, откуда мы только что отчалили, замелькали беспокойные огни факелов. Тишину разорвал властный, зычный крик:
– Сто-ой! Стрелять буду! А ну, к берегу!
– Казаки! – выдохнул Щербак. – Засада! Пронюхали, ироды!
Глава 2
Берег напротив пылал мечущимися факелами, выхватывавшими из тьмы не меньше десятка конных силуэтов. Грянул первый, недружный залп. Пули со злым визгом пронеслись над самыми нашими головами, смачно шлепаясь в черную воду. Одна из лошадей на плоту истошно, почти по-человечьи, взвизгнула, забилась и тяжело рухнула на бревна, сраженная шальной пулей. Две другие, обезумев от страха и грохота, дико заржали, рванулись, обрывая недоуздки, и с громким всплеском кинулись в воду, быстро исчезая в темноте по течению.
– Кони! Пропали кони! – в отчаянии крикнул Чиж.
– Черт с ними, с конями! Греби! Навались! – заорал я, перекрывая шум и треск выстрелов.
– Захар! Софрон! Сафар! К ружьям! Огонь по вспышкам! Не дать им целиться!
Завязалась короткая, яростная перестрелка. Мы палили почти наугад, в сторону мечущихся на берегу огней. Казаки отвечали. Их пули свистели совсем рядом, глухо стучали по бревнам плотов, вздымали вокруг нас фонтанчики воды.
Плотогоны, отборно матерясь, изо всех сил налегали на длинные шесты и неуклюжие весла. Те из нас, кто не стрелял, помогали им. Левицкий, позабыв свое дворянство, с неожиданной сноровкой орудовал тяжелым сибирским ружьем с сошками, методично посылая пулю за пулей в сторону берега. Изя забился за мешки с серебром, съежившись и бормоча что-то на идише, похожее на молитву.
– Серебро! Серебро держи! Не упусти! – хрипло крикнул Захар, когда плот сильно качнуло, и вода окатила нас ледяными брызгами. Тит тут же грудью прикрыл драгоценные мешки.
Наконец, течение подхватило наши неуклюжие посудины, вынесло на стремнину, быстро унося от опасного берега. Стрельба с той стороны стала реже, пули ложились все дальше. Казаки, видимо, поняли, что упустили нас. Их злые крики и ругань еще доносились по воде, но уже слабее, бессильнее.
– Ушли… Кажись, ушли… – выдохнул Софрон, опуская дымящееся ружье. Руки его заметно дрожали от пережитого.
– Лошадок жалко… Одну убили, две уплыли… – с горечью проговорил Захар.
– Живы остались – и то хлеб, – буркнул я, перезаряжая свое ружье на всякий случай. – Серебро цело?
– Цело, Курила, цело! Все как в аптеке у Розенблюма! – отозвался Изя из-за мешков, вновь обретая дар речи. – Таки целее всех живых!
Плоты медленно ткнулись в илистый берег.
Здесь нас уже ждали несколько невысоких, молчаливых фигур в темных ватниках и остроконечных соломенных шляпах – люди Лу Синя, как коротко пояснил Чиж. По-русски они, кажется, не понимали ни слова. Нас должны были повести дальше, до Бухэду. Чиж и Хан остались с нами. Щербак же, крепко стиснув мою ладонь своей мозолистой пятерней, полез обратно на плот.
– Ну, бывайте, бродяги! Может, свидимся еще. Мир тесен, особенно здесь!
– Спасибо за помощь, Щербак, – кивнул я. – Не забудем.
Оставшихся лошадей, по заверению Чижа, пришлось оставить – взамен должны были выделить иной транспорт. Один из китайцев молча указал нам рукой направление – вглубь темной, незнакомой земли. Свои пожитки пришлось взвалить на плечи. Мы двинулись вперед по узкой и скалистой тропе между холмами, оставляя позади реку Аргунь, казачий кордон, Россию.
Впереди лежала чужая земля, непонятная, полная неизвестности, но дающая хрупкую надежду.
Примерно через час ходу мы вышли к месту стоянки каравана.
Зрелище было впечатляющим и совершенно не похожим на то, что мы привыкли видеть в Забайкалье. Несколько десятков огромных, флегматичных двугорбых верблюдов, навьюченных тюками и переметными сумами, стояли или лежали на утоптанной земле, лениво пережевывая жвачку. Между ними суетились погонщики – смуглые, скуластые монголы в потертых стеганых халатах и меховых шапках с лисьими хвостами. Их резкая, гортанная речь смешивалась с низким ревом верблюдов и фырканьем низкорослых, но коренастых монгольских лошадок.
Воздух был густо пропитан запахом пыли, верблюжьего пота, кислого кумыса и едкого дыма от костров, сложенных из аргала – высушенного верблюжьего навоза.
Хан коротко переговорил со старшим караванбаши, указав на нашу разношерстную компанию. Тот окинул нас равнодушным, чуть прищуренным взглядом и молча кивнул. Кажется, наше присутствие было согласовано заранее и не вызвало у него ни удивления, ни интереса.
Нам выделили пару свободных лошадок, а мешки с нашим серебром под бдительным присмотром Тита приторочили к одному из верблюдов.
С первыми лучами солнца караван тронулся на восток, вглубь Маньчжурии. Путь лежал через холмистую степь, покрытую редкой, жесткой, уже начинающей желтеть травой и низким, колючим кустарником. Пыль стояла столбом.
Мелкий, желтоватый песок, поднятый сотнями копыт и ног, висел в воздухе серой завесой, забивался в глаза и нос, скрипел на зубах. Верблюды шли медленно, величаво покачиваясь из стороны в сторону, словно корабли в этом пыльном степном море.
Мы старались держаться вместе, чуть поодаль от основной массы каравана. Левицкий с нескрываемым любопытством аристократа разглядывал и монголов, и их странных, горбатых животных. Изя Шнеерсон то и дело охал, отплевывался и причитал:
– Ой-вэй, ну и пылища! Таки вся Одесса бы чихнула от того, что уже попало в мой бедный нос! Когда мы уже приедем куда-нибудь, где можно будет таки по-человечески умыться?
Софрон и Захар ехали молча внимательно озираясь по сторонам. Сафар, казалось, чувствовал себя в этой степной вольнице как рыба в воде, его узкие глаза спокойно и внимательно следили за дорогой. Тит ехал рядом с нашим верблюдом, не спуская глаз с драгоценного груза.
Местность поначалу мало отличалась от привычного нам Забайкалья – те же невысокие сопки с мягкими очертаниями, поросшие лесом, те же превосходные луга на пологих склонах. Вдали иногда мелькали стада грациозных антилоп-дзеренов. Левицкий, в котором проснулся охотничий азарт, предложил было подстрелить парочку на ужин, но Хан лишь усмехнулся:
– Дзерен близко не подпустит. На полверсты не подойдешь. Из ружья не достать.
Мы приуныли – дичи хотелось, но с нашим гладкоствольным оружием это было действительно нереально.
Ночи здесь были теплее, чем на том берегу Аргуни. Степь расцвела ковром из алых маков и нежно-розового тамариска. На привалах мы разбивали лагерь неподалеку от монголов Хана, чей опыт внушал уважение. У костров варили густой чай – с молоком, солью и кусочками бараньего жира. Ели вяленую баранину, пресные сухие лепешки и сладкие круглые пончики-баурсаки, жаренные в кипящем жиру. Однажды вечером, когда мы сидели у огня, поднялся сильный ветер. Он завывал в степи, трепал полы наших одежд, задувал пламя костра.
– Сильный ветер – плохо, – заметил Хан, глядя в темнеющее небо. – В степи буря – страшное дело. Лет двадцать назад, сказывали старики, тут обоз китайский шел. Пятнадцать телег, высоких таких, на двух колесах. Их на станции Чоглу-чай предупредили – буря идет, переждите. А возчики торопились, отмахнулись, мол, в телегах не страшно. Уехали… Так и не доехали до следующей станции. Буря телеги подхватила, как пушинки, и унесла вместе с людьми и скотом. Никого не нашли потом.
Перед нами расстилалась бесконечная, однообразная степь, лишь изредка всхолмленная пологими сопками. Характерной чертой пейзажа стали невысокие, оплывшие земляные конусы с темными норами у подножия – жилища тарбаганов, или сурков-байбаков, как их звали у нас. Их было несметное множество, вся степь казалась изрытой ими. Почва под ногами изменилась: теперь это был преимущественно крупнозернистый красноватый гравий и мелкая галька, среди которых порой поблескивали интересные камни – Левицкий даже подобрал пару мутноватых агатов.
Однообразно потянулись дни нашего путешествия. Караван обычно выходил в полдень и плелся под палящим солнцем до самой полуночи, когда спадавшая жара и яркие звезды делали путь чуть менее мучительным. Проходили мы так в среднем по пятьдесят верст ежедневно. Темп задавали верблюды – неторопливый, медитативный, убаюкивающий. Чтобы размять ноги и хоть как-то развеяться от монотонности, днем мы с Левицким или Софроном большей частью шли пешком впереди каравана и стреляли попадавшихся птиц, в основном каких-то степных жаворонков да куропаток, которые шли на ужин, внося приятное разнообразие в наш рацион.
Но настоящей напастью стали вороны. Не наши, европейские, относительно осторожные, а местные – черные, крупные, с мощными клювами и поразительной наглостью, вскоре сделавшиеся нашими отъявленными врагами. Еще в начале пути я заметил, что несколько этих птиц подлетали к вьючным верблюдам, садились на вьюк и затем что-то тащили в клюве, улетая в сторону. Сначала мы не придали этому значения, но вскоре Захар, проверявший провиантские мешки, обнаружил пропажу.
– Гляди-ка, Курила, – подозвал он меня, показывая на прореху в плотной мешковине, – пернатые черти дыру проклевали! Сухари таскают, ироды!
Оказалось, нахальные птицы расклевали один из мешков и таскали оттуда сухари. Спрятав добычу, вороны снова являлись за поживой. Когда дело разъяснилось, ближайших воров перестреляли. Но это мало помогло: через время явились новые похитители и подверглись той же участи. Подобная история повторялась почти каждый день. Мы старались укрывать съестное тщательнее, но эти бестии умудрялись находить лазейки.
Самое досадное и нелепое произошло на третий день пути. Не проехали мы с утра и пяти верст, как услышали отчаянный, какой-то не свойственный нашему силачу жалобный крик. Обернувшись, мы увидели престранное зрелище:
Тит, спрыгнув со своего верблюда, бегал по степи, спотыкаясь, и размахивал огромными ручищами, разгоняя стаю нахальных ворон, круживших над ним. Лицо его было растерянным и почти плачущим.
– Стреляйте, вашшлагородь, стреляйте! – заметив Левицкого с ружьем, чуть не плача, кричал он. – Лови ее, проклятую! Она спёрла!
Подбежав ближе, мы увидели на земле мешок с нашим серебром, который, видимо, немного развязался. На мешковине виднелась свежая дыра, проделанная мощным клювом. Оказалось, ворона расклевала мешок и стырила один из небольших, но увесистых слитков, лежавший с краю. Она уже взмыла в воздух и летела прочь, в клюве у нее что-то тускло блеснуло.
Увы, нам пришлось с ним распрощаться:
Левицкий, пока целился, ворона была уже далеко.
– Ушла, тварь пернатая! – сплюнул Софрон.
– Ой-вэй, кусочек нашего гешефта улетел! Прямо в небо! – запричитал Изя.
– Чтобы ей пусто было, этой птичке!
Тит стоял посреди степи, понурив голову, растрёпанный, огромный и несчастный.
Мы потеряли часть нашего сокровища из-за нелепой случайности. Вообще, нахальство воронов в Монголии превосходит всякое вероятие. Эти, столь осторожные у нас птицы, здесь до того смелы, что воруют у монголов провизию чуть не из палатки. Мало того, садятся на спины пасущихся верблюдов и расклевывают им горбы до крови. Глупое животное только кричит да плюет на мучителя, который, то взлетая, то снова опускаясь, пробивает сильным клювом большую рану.
Монголы, считающие грехом убивать птиц, не могут отделаться от воронов, неизменно сопутствующих каждому каравану. Положить что-либо съедобное вне палатки невозможно: оно тотчас же будет уворовано.
Дорогой от нечего делать я разговорился с одним из погонщиков-монголов, молодым парнем по имени Бату, который немного знал русский – выучил в Кяхте. Он рассказал мне про караванную торговлю. Оказалось, что перевозка чая из Калгана в Кяхту приносит огромные барыши хозяевам верблюдов. В среднем, каждый верблюд за два зимних рейса зарабатывает около 50 рублей серебром – немалые деньги.
Расходы же на погонщиков невелики. Бату пожаловался, что верблюды часто приходят в негодность: стирают пятки до хромоты или сбивают спины от небрежного вьюченья. В первом случае им подшивают на рану кусок кожи, и хромота проходит; со сбитой же спиной верблюд в том году уже не годен к извозу.
– При таких заработках твой народ должен быть богатым? – спросил я.
Бату горько усмехнулся.
– Заработки есть. Но редкий увозит домой несколько сот рублей. Все остальные деньги переходят к китайцам. Те обманывают мой моих соплеменников самым бессовестным образом.
– И как же? – заинтересовался я.
– Навстречу каравану выезжают китайцы и приглашают хозяина остановиться у них даром, оказывая всяческое внимание. В другое время китаец и говорить то не станет. Соплеменник доверяет хитрому китайцу рассчитаться за чай, который берет на извоз. Это и нужно. Получив деньги, он обсчитывает и предлагает товары по двойным ценам. Часть денег идет на подати, взятки, часть пропивается, и в конце концов мои соплеменники уезжают с ничтожным остатком. Еще часть он отдает в кумирни жрецам, так что возвращается домой почти с пустыми руками!
Я слушал его и думал о том, как похожи методы обмана во все времена и у всех народов. И о том, как важно нам самим не попасть впросак, когда придет время сбывать наше серебро.
Степь казалась мирной, но мы нутром чуяли опасность. И она пришла неожиданно, глубокой ночью, когда лагерь спал тревожным сном. Меня разбудило неясное движение, тихий шум – фырканье лошадей, приглушенные шаги. Рядом завозился Софрон, солдатской чуйкой тоже уловивший неладное.
– Что там? – шепотом спросил он, рука его уже нащупывала приклад ружья.
– Тихо! – прошипел я, вглядываясь в темноту за пределы тусклого круга света от догоравшего костра. Луны не было. В тенях, там, где стояли верблюды и наша единственная оставшаяся лошадь, мелькали какие-то фигуры. Невысокие, быстрые, двигались почти бесшумно. Сомнений не было. Конокрады! Или, как их тут называли, хунхузы – местные бандиты, промышлявшие грабежом караванов и угоном скота.
– Тревога! – заорал я во все горло, вскакивая на ноги. – Хунхузы! Скот угонят!
Лагерь мгновенно взорвался криками и суматохой. Монголы Хана выскочили из своего войлочного шатра с ружьями и луками. Наши тоже вскочили, хватаясь за оружие – ружья, ножи, что было под рукой. Несколько теней уже отделились от стада, вели за собой упирающихся верблюдов и пару монгольских лошадей. Наших, к счастью, не тронули – видимо, не успели. Раздался свист стрел – монголы открыли огонь. Я увидел, как один из хунхузов вскрикнул и упал, скорчившись. Остальные, не обращая внимания, пытались быстрее увести добычу.
– Сафар, Тит – за мной! – скомандовал я, выхватывая нож – в темноте стрелять было рискованно, можно было попасть в своих. – Остальные – прикрыть! Не дай им уйти! Захар, Софрон, Левицкий! Огонь по тем, кто отходит!