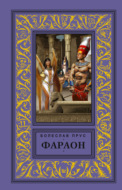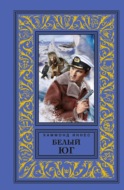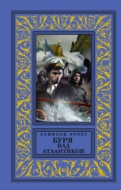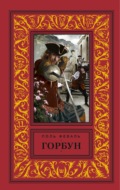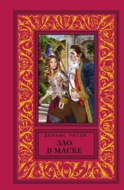Kitabı oxu: «Сокровища Черного Бартлеми»


BLACK BARTLEMY’S TREASURE
© Перевод, ЗАО «Центрполиграф», 2025
Пролог
Француз рядом со мной умер еще на рассвете. Его израненное, закованное в кандалы тело при каждом взмахе огромного весла бессильно покачивалось вперед и назад, в то время как мы, его менее удачливые товарищи по галере, тянули из последних сил, чтобы попадать в такт.
Я видел, как умерли уже двое рядом со мной, но смерть до сих пор обходила меня стороной, несмотря на боль от ударов кнута, несмотря на изнурительный труд и тяжкие испытания, силы мои все прибывали. Мышцы на руках и ногах, почти почерневших от палящего солнца, сделались твердыми и узловатыми, в моем теле, покрытом рубцами от ударов кнута, все еще теплилась жизнь – моя душа не желала уступать смерти. Но казалось, я и не мог умереть – обретя тем самым блаженный покой и положив конец бесчисленным страданиям, – как сделал этот француз, который среди всех этих несчастных, что были вокруг, был единственным, с кем я хоть как-то подружился. Он умер, как я уже сказал, на рассвете, умер так тихо, что я сначала подумал, что он только потерял сознание, и мне стало жаль его, но, когда я все понял, жалость сменилась горечью.
И вот, изо всех сил налегая на тяжелое весло, я сквозь сжатые зубы произносил молитву, которую часто повторял и раньше; а молил я вот о чем:
«О Боже праведный! За все мои нескончаемые страдания, за кровавые удары кнута и горькие муки дай мне силы отомстить, отомстить, о Господи, врагу моему!»
Так я молил, хрипло и тяжело дыша, и пот катился с меня струйками, а я уставился в голую спину того, кто греб впереди меня, – когда-то это был огромный, толстый малый, а теперь кожа у него свисала бесчисленными складками повсюду, где были следы ударов кнута, местами свежие и кровоточащие, многократно пересекавшиеся между собой и образующие рисунок на манер кружева.
«О Господи! Воздай по справедливости врагу моему! И если уж мне нельзя умереть, то дай мне дожить до того, когда буду отомщен; за мои муки и страдания позволь мне увидеть его страдания. Господи! Ведь Ты справедлив. Так дай же мне, справедливый Боже, дай мне силы отомстить!»
Солнце поднималось все выше и выше над нами, обжигая наши голые спины и тем самым причиняя нам новые мучения, пробуждая боль старых ран и добавляя к ним новую, еще более острую.
То и дело раздавалось щелканье бичей надсмотрщиков, а за ним пронзительный крик содрогающейся плоти – крик, в котором не было ничего человеческого, переходящий в вой и теряющийся в шуме и суматохе, царивших на огромной трехмачтовой галере. Но сквозь гул хриплых голосов матросов, сквозь лязг оружия и тяжелый топот ног, сквозь скрип и треск длинных весел всегда был еще один звук, он то усиливался, то стихал, но никогда не прекращался, монотонный и негромкий, подобный звуку завывающего в верхушках деревьев ветра, тихий протяжный стон – это был крик нашей боли, когда мы, несчастные страдальцы, из последних сил старались вести огромный галеас «Эсмеральда» по заданному курсу.
К тому же весло, к которому я был прикован вместе с тремя другими невольниками, сильно треснуло, но матросам удалось укрепить его прочной полосой из железа шириною около шести дюймов. И вот случилось так, что я мог доставать до этой полосы и с каждым взмахом весла, день за днем, беспрестанно, так что это даже вошло у меня в привычку, тереться об этот железный обруч звеньями моей цепи, отчего они сделались гладкими и блестящими.
Губы мои еще продолжали шептать слова молитвы, когда, случайно взглянув на одно из этих звеньев, я заметил нечто такое, отчего сердце бешено заколотилось в груди и кровь забушевала у меня во всем теле; это была всего лишь крохотная, не толще волоска, едва заметная глазу черточка, выступившая на гладкой поверхности звена цепи; но, когда я коснулся его, эта черточка-волосок разрослась и увеличилась: стоило мне лишь резко дернуть – и я свободен. Это привело меня в такой восторг, что мне стоило большого труда сдержаться, и, когда я немного времени спустя поднял глаза к небесам, вспыхнувшим розовым светом зарождающегося дня, мне показалось, что Бог все же услышал мою молитву.
Вскоре в центральном проходе с хлыстом в руках появился не кто иной, как этот проклятый португалец Педро, старший надсмотрщик, и, издалека завидев поникшее тело француза, тотчас же разразился ругательствами на своем отвратительном языке и с размаху щелкнул хлыстом. Они так часто упражнялись, что теперь стали очень искусными в обращении с этими самыми хлыстами, настолько искусными, что могли одним ловким ударом нанести вам такую глубокую рану, какая бывает только от удара ножом и которую не смог бы вынести никто, не закричав при этом от жгучей, нестерпимой боли.
– Ах ты, ленивая собака! – заорал он. – Ты что же это, вздумал валяться тут и храпеть в свое удовольствие, когда Педро на борту?
И при этих словах длинный хлыст со свистом взлетел над французом и, как выстрел, обрушился на его голую спину.
И вот он (который, казалось, был мертв) вдруг пошевелился. Я видел, как дернулось покрытое рубцами тело, глаза открылись, бессознательно, невидяще вращаясь, и мертвенно-бледное лицо исказилось в чудовищной муке; но в тот же момент черты страдания на нем разгладились, безумные глаза озарил чудесный свет, и, издав протяжный радостный крик, он упал лицом вниз прямо на древко весла и повис на нем. И тут же этот проклятый Педро вновь взялся за свой хлыст и принялся бить усердно, прямо с удовольствием, но, видя, что француз не шевелится и кровь почти уже не течет, вскоре остановился и приказал всем нам прекратить грести. Этой внезапной передышки мне было достаточно, чтобы понять, как сильно затекли мои больные конечности, особенно левое запястье и лодыжка, на которых кандалы образовали огромные язвы.
Ветер почти стих, и поднялись эти жаркие тошнотворные испарения, это удушающее зловоние, подобного которому не сыскать на земле, за исключением, пожалуй, этой плавающей преисподней, такое, что если человек почувствовал его однажды, то уже не забудет никогда.
Через некоторое время вернулся Педро с одним из матросов и, убедившись разными способами, что француз и в самом деле мертв, они разрубили кандалы у него на руке и на ноге, при этом им пришлось освободить и меня (так как мы с ним были прикованы одной цепью), и, привязав к его ногам огромное пушечное ядро, приготовились бросить его за борт.
И тут, увидев, что никто не следит за мной, я разломил пополам треснувшее звено и освободился, если не считать тяжелой цепи, сковывавшей мне ногу. Наклонившись, я поднял эту цепь и затаился, готовясь броситься к фальшборту, но вдруг, в этот самый миг вспомнив, сколько страданий перенес, находясь в руках проклятого Педро, я повернулся и, обмотав вокруг руки разорванную цепь от весла, стал подкрадываться к тому месту, где он стоял и наблюдал за матросами. Он стоял ко мне спиной, и, когда повернулся, я был уже в ярде от него; увидев меня, он издал крик и занес хлыст, но прежде, чем удар успел обрушиться на меня, я прыгнул и ударил его. Мой обмотанный железом кулак пришелся ему прямо промеж глаз. Он лежал, а я смотрел на его разбитое, ставшее месивом лицо и думал, что надсмотрщик Педро больше никогда не будет истязать людей.
Затем, не собираясь быть насмерть забитым хлыстами или проткнутым насквозь, я повернулся и прыгнул к борту корабля, но цепь на ноге мешала мне и причиняла чудовищную боль, и прежде, чем я успел взобраться на фальшборт, на меня напали сзади. Так что мне пришлось повернуться к ним, чтобы встретить смерть лицом к лицу в борьбе и не дать им повалить меня на колени, не дать множеству рук схватить и тащить меня, бесчувственного от невыносимых побоев, со связанными руками и совершенно беспомощного, тащить через палубу на корму, где, открытый для всеобщего обозрения, был установлен столб для бичевания. Но я все сражался, извергая на них всевозможные проклятия, французские, испанские и английские, все самые отвратительные ругательства, каким только научился на галере, ибо для меня лучше было погибнуть сразу, чем преодолевать те муки и страдания, что выпали на мою долю. И все же они не собирались меня убивать (так как рабы были в цене, а я был здоровый и сильный), вот почему я перестал сопротивляться, позволил им разрубить мои кандалы и привязать меня к столбу, что они и бросились делать. Они еще не закончили, когда с топ-мачты раздался громкий окрик, и сразу же началась ужасная суматоха: люди забегали в разных направлениях, смеясь и крича что-то друг другу, одни застегивали на ходу доспехи, другие бросились к орудиям, и все поворачивали взоры и указывали в одном направлении; но, оглянувшись и изогнувшись, насколько мог, из-за высокой переборки я не смог увидеть никакого другого паруса.
Вдруг все голоса разом смолкли, и на корме появился капитан Дон Мигель в черных доспехах. Он долго и пристально смотрел вдаль, туда, откуда дул ветер, и облаченной в латную рукавицу рукой подал знак, по которому помощники сразу забегали: одни – чтобы обойти длинные шеренги аркебузьеров, другие – чтобы проверить, как ставят паруса и прочие снасти.
И за ужасающим щелканьем хлыстов послышались стоны и вопли и выкрикиваемые проклятия, и сразу же длинные весла заработали в более быстром ритме. Со своего места, к которому был прикован, я мог сверху видеть несчастных, обнаженных страдальцев, которые все как один раскачивались, изо всех сил стараясь попадать в такт.
В течение, наверное, получаса продолжалось преследование, и потом вдруг весь корабль содрогнулся от залпа одной из передних пушек; и сразу же, когда огромный галеас, послушный движению руки Дона Мигеля, сменил курс, я увидел на расстоянии каких-нибудь пол-лиги с наветренной стороны возвышающуюся корму корабля, который мы преследовали, чьи размеры постепенно увеличивались по мере того, как мы догоняли его, пока наконец он не стал виден совсем отчетливо. Это был небольшой корабль, и по его строению я понял, что он, без всякого сомнения, английский, даже если бы не увидел на его бизань-мачте развевающийся английский флаг. И тут меня одолела острая тоска, одолела настолько, что его высокие, побитые бурями борта, его возвышающиеся мачты и потрепанные, все в заплатах паруса приняли вдруг смутные и неясные очертания.
Уже трижды взревели наши орудия, а он (хоть и был уже настолько близко, что я мог различить каждую его снасть) никак не отвечал на наши залпы. Немного времени спустя наши пушки смолкли, и тогда, посмотрев вокруг, я увидел Дона Мигеля, стоявшего у румпеля, и его спокойный взгляд был, как всегда, направлен в сторону противника; и тут я понял его смертоносный замысел, и мне стало страшно за английский корабль, и, затаив дыхание, я принялся молиться, потому что у нас на борту было оружие куда более страшное, чем любая пушка, когда-либо отлитая, – длинный острый подводный таран.
Английское судно было теперь так близко, что я мог разглядеть зияющие дула его орудий, а его высокие закругленные борта, казалось, возвышались теперь над нами. Наблюдая за ним с полным жалости и страха сердцем, я увидел, как из-за ограждавших кормовую часть судна перил показалась голова, очень круглая голова, на которой была красная матросская шапка. Показался клуб дыма, раздался залп, и один из помощников Дона Мигеля, вскинув руки, закачался и рухнул, гремя доспехами. Когда я вновь посмотрел туда, где была красная шапка, она уже исчезла. Но Дон Мигель ждал, молчаливый и спокойный, как всегда. Вдруг он сделал знак рукой, я увидел, как зашевелился рулевой, спеша выполнить его приказ, воздух огласился громкими командами, весла по правому борту пришли в движение, левый борт сильно качнулся, и огромная «Эсмеральда», развернувшись почти во всю свою длину, двинулась прямо на борт противника.
Никогда не видел, чтобы подобное было проделано лучше, и я стиснул зубы и стал ждать оглушительного треска, от которого английский корабль должен был пойти ко дну, но… о, чудо! Его скрипящий корпус развернулся по ветру, который теперь дул изо всех сил, и, накренившись вправо, он ушел с курса под правильным углом, и оба судна, как и прежде, пошли параллельным курсом. Но мы подошли уже настолько близко, что, когда проходили мимо, я услышал ужасающий треск наших весел, которые одно за другим начали ломаться о его борт, отбрасывая тех, кто был посажен грести, в шевелящиеся окровавленные груды.
И теперь из всех английских пушек вырывалось ревущее пламя, воздух огласился криками и стонами и треском расщепляемой древесины, и сквозь клубы дыма я мог разглядеть, что многие из наших солдат лежат в искаженных, немыслимых позах, а другие, стеная, ползут на четвереньках; но на залитые кровью скамьи гребцов я не осмеливался взглянуть.
Бой делался все горячее, все громче становились шум и суматоха и непрекращающийся грохот пушек, и посреди всего этого вышагивал взад и вперед Дон Мигель, спокойный, как всегда, и клинок его длинной рапиры сверкал то там, то здесь, указывая, куда направить огонь.
В небо поднимался густой, плотный дым, но сквозь образующиеся в нем просветы я то и дело мог мельком видеть пробитый, почерневший борт английского корабля и беспорядок и неразбериху, царившие на наших палубах. Дважды ядро пробило доски прямо рядом со мной, а один раз ударило в сам столб, к которому я был привязан, и в какой-то момент у меня даже появилась надежда освободиться, потому что, как бы я ни боролся, двигаться все равно не мог, и это приводило меня в полнейшее отчаяние, потому что я был уверен, что в дыму и неразберихе мне бы удалось нырнуть за борт незамеченным и, может быть, даже добраться до английского корабля.
Медленно и постепенно наш огонь ослабевал, одна за одной пушки смолкали, и вместо их пальбы теперь были другие, более отвратительные звуки, звуки человеческих страданий. И вот когда я стоял так и глаза мои резало от горелого пороха, а в ушах все грохотало, до меня вдруг дошло, что палуба как-то странно накренилась. Сначала я не обратил на это особого внимания, но с каждой минутой крен все увеличивался, и тогда я понял, что мы тонем и, более того (судя по углу погружения), идем кормой вниз.
И вот, побуждаемый той жаждой жизни, которая сидит в каждом из нас, я изо всех сил стал стараться освободиться, но, увидев вскоре всю бесплодность этого, я поддался отчаянию и, оставив всякие попытки, огляделся по сторонам, так как дым уже рассеялся. Огромный галеас представлял собою поистине ужасающее зрелище: палубы его были разворочены, повсюду валялись груды мертвых тел, искореженные снасти и пушки, все было забрызгано и залито кровью, а на разбитых вдребезги скамьях гребцов, заваленных окровавленными трупами, среди тел большей частью уже безмолвных еще шевелилось несколько, громко и пронзительно кричащих.
На корме не оставалось никого, кроме меня и тех, кто погиб, а впереди оставшиеся в живых дрались между собой, чтобы первыми залезть в шлюпки, и везде царили смятение и беспорядок.
Так наблюдая за тем, что происходит вокруг, я заметил Дона Мигеля, лежавшего среди обломков разбитой пушки; лицо его было обращено в мою сторону и было таким же, каким я видел его сотню раз, только теперь на щеке его была кровь. И в этот момент его взгляд, прямой и открытый, встретился с моим. Какой-то миг он лежал бездвижно, потом лицо его дернулось от невероятного усилия, и он медленно приподнялся на локте, огляделся вокруг и снова посмотрел на меня. Потом я увидел, как рука его сползла вниз и стала слабо нащупывать кинжал, висевший у него на поясе, – и все же с третьей попытки ему удалось вытащить лезвие, и он пополз в мою сторону. Медленно, с большим трудом он продвигался, превозмогая боль, и я услышал, как однажды он даже застонал, но он не останавливался, пока не приблизился на расстояние удара; а поскольку он был тяжело ранен и вдобавок сильно ослаб, то был просто вынужден на некоторое время сделать передышку. И когда его спокойные глаза встретились с моими, я собрался с духом, чтобы, если нужно, не дрогнув, встретить удар. Он опять поднялся, медленно занес руку, кинжал сверкнул и опустился, своим острым лезвием перерезая веревки, которыми я был связан, я напрягся и освободился, и теперь стоял как во сне, глядя в эти спокойные глаза. Затем, подняв слабую руку, он указал на разорванные в клочья паруса английского корабля, стоявшего совсем близко, и, положив голову на руку, будто очень устал, он вздохнул; и я понял, что вместе с этим вздохом жизнь оставила его.
Я повернулся и увидел, что нахожусь в одном прыжке от перил, ограждающих кормовую часть судна, и, не взглянув назад, на кровавое опустошение, прыгнул за борт.
Обжигающая морская вода, казалось, колола меня мириадами острых игл, но ее сладостная прохлада была удивительно приятной для моего выжженного солнцем тела, когда, вынырнув на поверхность, я быстро поплыл к английскому кораблю, невзирая на боль, причиняемую мне цепью.
Подплыв к его высокой корме, я увидел свисающие оттуда спутанные снасти и канаты, по которым рассчитывал взобраться на борт, и там заметил человека в красной матросской шапочке, который сидел на обломках одной из кормовых пушек и, помогая себе зубами, завязывал рану на руке; увидев меня, он вытаращил на меня свои голубые глаза и кивнул.
– Добро пожаловать, парень! – произнес он, перевязав наконец руку так, как ему хотелось. – Понимаешь ли ты, парень, добрую английскую речь?
– Так точно, – ответил я.
– Тогда почему бы тебе не быть свидетелем, что я был само терпение и милосердие? Будь свидетелем, что я сдерживал огонь и не стрелял так долго, как только может истинно милосердный человек, ведь я знал, что может понаделать бортовой залп, попав в битком набитые гребные скамьи – сам-то я тоже был когда-то гребцом на одной из этих чертовых испанских посудин, – и я сдерживал огонь до тех пор, пока проклятый корабль не подошел совсем близко и пока меня не полоснуло, – однако и милосердию есть предел. Я Тимоти Спенс, капитан «Тигра», возвращаюсь в лондонский порт, потеряв после боя пятерых отличных товарищей. А ты парень что надо! Иди на нос к боцману, ты его сразу узнаешь – у него нет уха по правому борту. Вот что, парень, попроси у него себе какую-нибудь одежду прикрыть наготу, и… О-о! А вот и твой проклятый корабль!..
Обернувшись, я увидел, как острый нос «Эсмеральды» поднимается все выше и выше, и с протяжным булькающим ревом огромный галеас кормой вниз пошел ко дну, чтобы навсегда сокрыть там от людских глаз свой позор.
Так я, на борту «Тигра», пустился в плавание с капитаном Тимоти Спенсом, свободный человек после пяти лет мучений.
Глава 1
Что приключилось в Пэмбери-Хилл
Была ненастная ночь с дождем и ветром, который свирепо бушевал, наполняя окрестности дикими завываниями, время от времени раздавались раскаты грома, и молнии, рассекая мрак, били прямо в грязную дорогу, извивающуюся меж высоких, поросших травой и деревьями склонов. Ветер кружил сломанные сучья, которые ударяли меня в темноте, и огромные ветви простирали невидимые руки, чтобы схватить меня, но я упорно продолжал свой путь, ибо каждый шаг приближал меня к тому моменту, моменту мести, о которой я так молил и ради которой жил. И вот с непокрытой головой, радостно открытой навстречу непогоде, сжимая крепкий посох, который я сделал себе из кола изгороди, я взбирался по крутому склону Пэмбери-Хилл.
Достигнув наконец вершины, я вынужден был остановиться, чтобы перевести дыхание и укрыться, насколько это было возможно, с наветренной стороны, потому что здесь, на возвышенности, дождь хлестал меня еще больше, а ветер сбивал с ног с удвоенной силой.
И вот, стоя так в кромешной завывающей тьме, спиною к склону и обратив лицо навстречу буре, я услышал какой-то странный звук, пронзительный и прерывистый, который доносился до меня в промежутках между ревущими порывами ветра, звук, появлявшийся и исчезавший, который то был слышен отчетливо, то становился неясным и отдалялся, и я гадал, что бы это могло быть. Вдруг кривая вспышка молнии рассекла пополам ревущий мрак, и я увидел в ослепительном свете черный столб с перекладиной, на котором скрипели ржавые железные цепи, а на них висело нечто черное, сморщенное и мокрое от дождя, нечто вызывающее ужас и, болтаясь из стороны в сторону от порывов неистового ветра, казалось, так и старалось освободиться и свалиться мне прямо на голову.
И вот, вслушиваясь в этот мрачный скрип цепей, я погрузился в размышления. Этот ужасный предмет, подумал я, когда-то был человеком, здоровым и сильным, таким же, как я, но этот человек преступил закон (как намеревался сделать и я), и вот теперь его тело будет висеть здесь на цепях, пока не сгниет, как может произойти в один прекрасный день и с моим собственным телом. И когда я вслушивался в пронзительный звон его оков, меня пронизало отвращение, и я содрогнулся. Но дрожь прошла, и, исполненный тщеславной гордости, я ударил посохом о грязную землю у моих ног и поклялся себе, что ничто на свете не помешает мне осуществить мою справедливую месть, и тогда – будь что будет; и раз мой отец умер не своей смертью и принял чудовищные мучения, так пусть та же участь постигнет врага рода моего; и за те страдания, которым он подверг меня, пусть он тоже узнает страдания. Я вспомнил, какой длительной и смертельной была наша наследственная вражда, которая передавалась из поколения в поколение, мрачная, запятнанная кровью история жестоких обид, столь же жестоко отплачиваемых. «Ненавидеть, как Брэндон, и отомстить, как Конисби!» Эти слова с незапамятных времен стали поговоркой в наших южных краях; и теперь он был последним из своего рода, как я из своего, и я выбрался бы даже из преисподней, только бы сделать так, чтобы эти слова могли осуществиться. Скоро, всего через несколько часов, с враждой будет покончено раз и навсегда, и род Конисби будет навеки отомщен. Размышляя таким образом, я обратил внимание, что буря уже не свирепствует вокруг, а гремят только цепи на виселице. Я посмотрел наверх и, подняв посох, постучал им по этому черному сморщенному предмету и принялся громко и неистово хохотать, но тут все осветилось ярким светом вспыхнувшей молнии, раздался такой удар молнии, от которого затряслась земля, и налетел шквал ревущего ветра, и вдруг наступила благоговейная тишина; и в этой тишине я услышал шепот:
– О боже милостивый!
Где-то в темноте, совсем близко плакала женщина. Невольно я обернулся в ту сторону, тщетно пытаясь разглядеть что-либо в ночи, но тут снова вспыхнула молния, и я увидел завернутую в плащ с капюшоном фигуру, жавшуюся к обочине дороги, и, когда вспышка погасла и снова наступила темнота, проговорил:
– Женщина, это виселица напугала тебя или я? Если виселица, тогда иди поскорее прочь, если я – не бойся.
– Кто вы? – раздался едва слышный голос.
– Всего лишь скромный путник, столь же безобидный, как и этот бедняга, что болтается там наверху.
Темная фигура приблизилась, и сквозь неистовый шум бури до меня донесся ее голос, который страстно молил:
– Сэр… сэр, не поможете ли вы одному человеку, которому грозит страшная беда и опасность?
– Тебе?
– Нет… не мне, – задыхаясь, проговорила она, – Марджори, моей бедной храброй Марджори. Они остановили мою карету… эти пьяные люди. Не знаю, что случилось с Грегори, но я выпрыгнула и скрылась от них в темноте, но Марджори… они утащили ее… вон там на тропинке горит огонь… Я шла за ними и видела… О, сэр, ведь вы спасете Марджори… ведь вы настоящий мужчина… – И она схватила меня за изорванный рукав и стала трясти в отчаянной мольбе. – Вы спасете ее?.. Ведь это хуже, чем смерть! Скажите… скажите!
– Веди! – молвил я, подчиняясь ее настойчивой просьбе.
Пальцы, сжимавшие мой рукав, разжались, и, взяв меня за руку и не произнеся больше ни слова, она повела меня в кромешной тьме, пока мы не вышли на более защищенное от дождя и ветра место. Я заметил, что рука, так уверенно сжимавшая мою, была маленькой и нежной, и по ней, а также по ее голосу и речи я понял, что она принадлежит к высокому сословию. Но мое любопытство не пошло дальше, и я не задал ей ни одного вопроса, ибо в моем мире не было места для женщин. Так она торопливо вела меня, несмотря на темноту, словно прекрасно знала место, пока я не заметил тусклый свет, исходивший из открытого решетчатого окна, насколько я мог судить, небольшой придорожной таверны. Тут моя спутница вдруг остановилась и указала на свет.
– Идите! – прошептала она. – Идите… нет, сначала возьмите вот это! – сказала она и сунула мне в руку небольшой пистолет. – Быстрее! – торопила меня она. – Пожалуйста, быстрее… а я буду молиться, чтобы Бог сохранил и защитил вас.
Ни слова не говоря, я оставил ее и направился туда, откуда шел луч света.
Приблизившись к решетчатым створкам, я помедлил, чтобы взвести курок и проверить запал, потом, подкравшись к открытой решетке, заглянул вовнутрь.
За столом сидели трое мужчин и хмуро смотрели друг на друга. Это были отчаянного вида парни со злобными лицами, покрытыми шрамами, одежда их отдавала запахом моря; позади них, в углу жалась от страха девушка миловидной наружности, но ужасающе бледная, плащ ее был порван грубыми руками, и так она, притаившись в углу, расширенными от страха глазами не отрываясь смотрела на стакан с игральными костями, который с силой тряс один из них. Это был здоровенный волосатый детина с огромными кольцами в ушах, он стоял, гремел игральными костями и улыбался, а его приятели хрипло осыпали его бранью. Наконец волосатый детина сделал бросок, и, когда три зловещих головы склонились над костями, я перемахнул через окно, держа пистолет в одной руке, а тяжелый посох в другой.
– Что здесь происходит? – спросил я.
Все трое отпрянули в стороны и изумленно уставились на меня.
– Чего тебе? – прорычал один.
– Во-первых, ваше оружие – выкладывайте его на стол, да поживее!
Один за другим они вытащили из-за пояса оружие, и я выбросил его в окно.
– Ну что ты?! – воскликнул один из негодяев, длинный и худой, с повязкой на одном глазу и весело подмигивая мне другим. – Что ты, приятель, разве собака собаку кусает?
– Конечно, – сказал я, – и притом охотно!
– Да ну, приятель, – проговорил другой, низенький и толстый, с круглыми блестящими глазками, у которого было только одно ухо, – ты полегче, полегче. Мы всего лишь трое несчастных матросов… ну, любим маленько подвыпить да маленько подраться, приятели, одним словом… да вот для развлечения славная девчушка у нас… мы, как видишь, совсем безобидные, чтоб мне ко дну пойти! Хочешь, присоединяйся, поделимся – все будет честно.
– Конечно, я присоединюсь к вам, – вымолвил я, – но сначала ты, с кольцами, открой дверь!
Тут волосатый детина прорычал проклятие и хотел схватить тяжелую пивную кружку, но сразу получил такой сильный удар посохом под дых, что свалился на пол и лежал, с трудом дыша.
– Ну что ты, приятель, – льстивым голосом заговорил толстый, глазки его при этом так и бегали, – зачем же так грубо? Брешь мне в борт и чтоб я затонул!
– Открой дверь! – приказал я.
– Охотно… охотно! – сказал он, не сводя глаз с моей дубины, и, осторожно подойдя к двери, вытащил задвижки и распахнул ее.
– Женщина, – проговорил я, – беги!
Не говоря ни слова, девушка выпрямилась, схватила свой порванный плащ и выбежала. Тогда высокий и худой сел и принялся грязно ругаться по-английски и по-испански, толстый оскалил зубы в ухмылке, а тот, что был с кольцами в ушах, прислонившись к стене, держался за живот и стонал.
– Вот так-то, будешь знать, как задираться! Ну что теперь? – мягко поинтересовался толстый.
– А что, – сказал я, – по-моему, все было честно.
– Да, но она же убралась, отдала швартовы, как видишь, чтоб ее черти взяли! – проговорил толстый, улыбаясь, но при этом дьявольски прищурив глаза.
– Вот, посмотрите-ка, – сказал я, выложив на стол четырехпенсовик, – это все, что у меня есть, так что выворачивайте карманы.
– Карманы?! – пробормотал толстый. – Господи, да что же это? Сначала нас эта красотка обвела вокруг пальца, потом ты из Абнера вышиб весь дух, а теперь хочешь ограбить бедных, несчастных матросов, которые и руки-то на тебя не подняли! Стыдно, приятель!
– Чтоб ты сдох! – прорычал одноглазый и плюнул в мою сторону.
Я занес свою дубину, и, так как он поднял руку, удар пришелся ему по локтю, и он принялся ругаться, корчась от боли; и, пока я смеялся над его корчами, толстый бросился (причем на удивление проворно) и разбил светильник; и, отступив к окну я услышал, как грохнула решетка и раздался звон разбитого стекла. Последовала долгая напряженная тишина, когда каждый из нас затаился, сдерживая дыхание, и поскольку из разбитого окна все еще доносился шум бури, то по сравнению с ним здесь, внутри, было просто тихо. Стоя так в темноте и прислушиваясь к малейшему шороху, ожидая, не раздастся ли где-нибудь звук осторожно крадущихся шагов, чтобы направить туда очередной удар, убрав пистолет и переложив посох в правую руку, я вытащил матросский нож с широким лезвием, который всегда носил с собой, и стал настороженно ждать, но до меня доносился только отдаленный гул ветра. Вдруг слева слабо скрипнула половица, и, резко повернувшись, я взмахнул по сохом и, почувствовав, что попал, сразу же услышал неистовый крик и звук нетвердых шагов шатающегося человека.
– Защищайтесь, негодяи! – воскликнул я. – У меня просто руки чешутся с вами разделаться. Защищайтесь! – И, повернувшись спиной к стене, я стал ждать, что они набросятся на меня.
Но вместо этого послышался хриплый шепот, который тут же был заглушен пронзительным криком женщины, а за ним звучный голос:
– Эй вы, там, на борту! Ну-ка посветите! Огня, пьяные свиньи!
И тут последовала лавина самых страшных морских ругательств, сопровождающихся громким криком, еще более истошным, чем прежде. И в то время как отчаянный женский визг все еще прорезал воздух, рядом со мной началось столпотворение, вопли, крики и лавина топочущих ног, с грохотом опрокинулся стол, и в кромешной тьме вокруг меня слышались сыпавшиеся градом удары. И так они яростно дрались наощупь, а я тоже дрался, и, как мне показалось, довольно успешно, орудуя в темноте своей дубиной, пока не получил случайный удар, от которого я зашатался и полетел головой вперед прямо в выбитое окно, и упал на мокрую траву. Какое-то мгновение я лежал почти без сознания и чувствовал, как ветер с дождем приятно освежают меня.
Вдруг в кромешной тьме, где-то совсем рядом, я услышал такое, отчего сразу же вскочил на ноги. Это был шум отчаянной борьбы, хриплый мужской смех и жалобные всхлипывания и мольбы женщины. Я потерял свою палку, но все еще сжимал нож и, держа его наготове в правой руке, а левую выставив вперед, стал медленно продвигаться в ту сторону, откуда раздавались эти звуки. Мои пальцы наткнулись на волосы, длинные и мягкие женские локоны, помню, какими шелковистыми они были на ощупь, потом моя рука скользнула дальше и коснулась ее пояса, а на нем нащупала крепко обхватившую его руку. И тогда я вонзил нож прямо под эту руку и дважды повернул лезвие. Он замычал и, выпустив девушку, бросился на меня, но получил такой удар кулаком, что упал, а я навалился на него сверху и, чувствуя, что он пытается встать на колени, снова бросил его в грязь, а потом запрыгнул на него обеими ногами, как я обычно делал, когда дрался с такими же невольниками, как я, в корабельном трюме. Увидев, что он больше не шевелится, я оставил его, не сомневаясь, что его песенка спета. Но, отойдя, я почувствовал, как меня передернуло, потому что, хотя мне и приходилось драться с такими же, как я, обнаженными невольниками, которые были моими товарищами, я в жизни не убил ни одного человека.