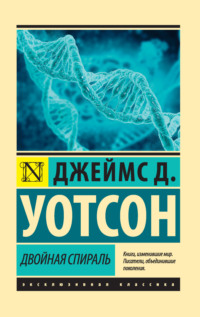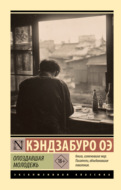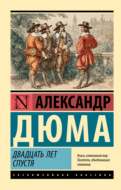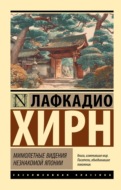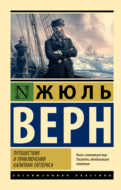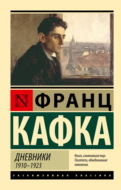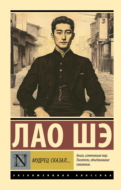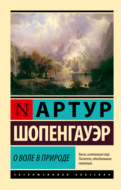Kitabı oxu: «Двойная спираль», səhifə 3
2
До моего приезда в Кембридж Фрэнсис лишь иногда задумывался о дезоксирибонуклеиновой кислоте (ДНК) и о ее роли в наследственности. Но вовсе не потому, что считал ее неинтересной. Напротив, он оставил физику и заинтересовался биологией после того, как в 1946 году прочитал книгу «Что такое жизнь?» знаменитого физика-теоретика Эрвина Шредингера. В этой книге очень элегантно излагалось убеждение, согласно которому гены – это ключевые компоненты живых клеток и для понимания сути жизни мы должны понять, как функционируют гены. Когда Шредингер писал свою книгу (1944), господствовало представление о том, что гены – это особый тип белковых молекул. Но почти в то же время бактериолог О. Т. Эвери проводил в нью-йоркском Рокфеллеровском институте эксперименты, которые показали, что наследственные черты могут передаваться от одних бактерий другим посредством очищенных молекул ДНК.
Учитывая тот факт, что ДНК, как было известно, содержится в хромосомах всех клеток, эксперименты Эвери заставляли предположить, что все гены состоят из ДНК. Если это так, то, по мнению Фрэнсиса, «Розеттским камнем», который поможет раскрыть тайну жизни, должны стать вовсе не белки: именно ДНК окажется тем ключом, который покажет нам, каким образом гены определяют, помимо других признаков, цвет наших волос и наших глаз, и, вероятнее всего, наши умственные способности, и, возможно, даже нашу способность развлекать других.
Конечно, оставались и такие ученые, которые считали, что доказательств в пользу ДНК недостаточно, и предпочитали считать гены молекулами белка. Фрэнсиса мнение этих скептиков не волновало. Многие из них были всего лишь брюзгливыми глупцами, поставившими не на ту карту. Нельзя стать успешным ученым, не поняв, что, вопреки всеобщему убеждению, которое поддерживают газеты (и матери самих ученых), большинство людей науки – не только узколобые зануды, но и откровенные глупцы.
Тем не менее Фрэнсис тогда не был готов полностью погрузиться в мир ДНК. Сама по себе важность этого вопроса не казалась ему достаточной причиной, чтобы отказаться от области белков, в которой он проработал всего два года и только-только начинал ее осваивать. Кроме того, его коллеги по Кавендишской лаборатории интересовались нуклеиновыми кислотами лишь помимо прочего, и даже при наилучших финансовых обстоятельствах потребовалось бы года два-три, чтобы создать новую исследовательскую группу, которая занималась бы преимущественно рентгенографическими исследованиями структуры ДНК.
Кроме того, такое решение могло бы привести к неловкой ситуации в личном плане. В то время работа над молекулярным строением ДНК в Англии практически была частной вотчиной Мориса Уилкинса – бакалавра из Лондонского королевского колледжа9. Как и Фрэнсис, Морис был физиком, и он также пользовался методом дифракции рентгеновских лучей как основным средством своих исследований. Было бы весьма неудобно, если бы Фрэнсис вдруг занялся проблемой, над которой несколько лет работал Морис. Дело осложнялось еще и тем, что оба они, почти ровесники, были знакомы друг с другом и до повторной женитьбы Фрэнсиса часто обедали или ужинали вместе, обсуждая научные вопросы.
Было бы намного проще, если бы они проживали в разных странах. Из-за сочетания английского уюта – все важные люди в Англии если не состоят в родстве, то уж, как кажется, знают друг друга – и английского представления о «честной игре» Фрэнсис не мог позволить себе заняться проблемой Мориса. Во Франции, где понятия о честной игре, очевидно, не существует, такого затруднения не возникло бы. В Соединенных Штатах его тоже не существует. Невозможно даже представить себе, чтобы кто-нибудь в Беркли не занимался работой первостепенной важности только потому, что первым ею занялся кто-то из Калтеха (Калифорнийского технологического института). В Англии же подобное в порядке вещей.
Хуже того, Морис постоянно разочаровывал Фрэнсиса тем, что, похоже, относился к ДНК без особого энтузиазма. Ему как будто даже нравилось работать не спеша и принижать вес важных аргументов. Вопрос тут был не в отсутствии ума или здравого смысла. Морис явно обладал и тем и другим; не зря же он первым взялся за ДНК. Просто Фрэнсису никак не удавалось втолковать Морису, что нельзя медлить, когда у тебя в руках такой динамит, как ДНК. И вдобавок становилось все труднее отвлекать Мориса от мыслей о его ассистентке Розалинд Франклин.
При этом он вовсе не был влюблен в Рози, как мы называли ее за глаза. Напротив – почти с самого первого ее появления в лаборатории Мориса они начали выводить друг друга из себя. Морису, новичку в методе дифракции рентгеновских лучей, требовалась профессиональная помощь, и он понадеялся, что Рози, опытный кристаллограф, ускорит его исследования. У Рози же на этот счет было совсем иное мнение. Она считала, что ДНК – это тема ее самостоятельной работы, и не желала воспринимать себя как ассистентку Мориса.
Я подозреваю, что в начале Морис надеялся на то, что Рози остынет. Однако нетрудно было заметить, что приструнить ее нелегко. Она намеренно не подчеркивала свои женские качества. Несмотря на сильные черты лица, ее нельзя было назвать некрасивой, и она могла бы даже увлечь кого-нибудь, если бы хоть немного интересовалась своей одеждой. Она никогда не красила губы, чтобы оттенить свои прямые черные волосы, и в тридцать один год одевалась как английская школьница или «синий чулок». Легко было вообразить, как ее разочаровавшаяся мать внушает ей мысли о профессиональной карьере, которая спасет умную девушку от замужества с каким-нибудь недалеким мужчиной. Но в ее случае это было не так. Ее аскетический образ жизни нельзя было объяснить влиянием родителей – она росла в достаточно благополучной и образованной семье банкира.
Было ясно, что Рози либо уйдет, либо ее нужно будет поставить на место. Первый вариант казался предпочтительнее, поскольку в силу ее воинственного характера Морису было бы трудно сохранить за собой господствующее положение, которое позволило бы ему без помех размышлять о ДНК. Конечно, временами он признавал обоснованность ее жалоб: в Королевском колледже было две комнаты для сотрудников, одна для мужчин, а другая для женщин, – определенно пережиток прошлого. Но это от него не зависело, и не так уж было приятно выслушивать упреки в том, что в женской комнате царит запустение, а деньги тратятся на то, чтобы ему и его приятелям было уютнее пить кофе по утрам.
К сожалению, Морис не находил благовидного предлога для того, чтобы избавиться от Рози. Во-первых, ей дали понять, что предоставили ей эту должность на несколько лет. Кроме того, нельзя было отрицать, что она обладает проницательным умом. Если бы только она умела сдерживать свои эмоции, то могла бы и в самом деле помочь ему. Но просто надеяться на улучшение отношений было своего рода рискованной игрой, поскольку знаменитый химик Лайнус Полинг из Калифорнийского технологического института вовсе не руководствовался британскими понятиями о «честной игре». Рано или поздно Лайнус, которому только что исполнилось пятьдесят лет, должен был устремиться к самой важной из научных наград. Сомневаться в его интересе не приходилось. Все говорило нам о том, что Полинг не был бы величайшим химиком, если бы не понял, что именно молекула ДНК – самая ценная из всех молекул. Более того, имелись явные доказательства. Морис получил письмо от Полинга с просьбой прислать ему рентгенограммы кристаллизованной ДНК. После некоторых колебаний Морис ответил, что хочет тщательнее изучить их, прежде чем предавать огласке.
Все это расстраивало Мориса. Он не затем ушел в биологию, чтобы обнаружить, что она для него так же персонально неприемлема, как и физика с ее атомными последствиями. Из-за того, что Лайнус с Фрэнсисом наступали ему на пятки, Моррис иногда с трудом мог заснуть. Но Полинг по крайней мере находился в шести тысячах миль, да и Фрэнсиса отделяла от него двухчасовая поездка на поезде. Главной проблемой, таким образом, оставалась Рози. Он не мог отделаться от мысли, что лучшее место для феминистки – в чьей-нибудь другой лаборатории.
3
Именно Уилкинс первым заинтересовал меня рентгеновскими исследованиями ДНК. Это произошло в Неаполе, на небольшой научной конференции, посвященной структурам крупных молекул в живых клетках. Дело было весной 1951 года, когда я еще не знал о существовании Фрэнсиса Крика. Я уже занимался ДНК, потому что после защиты докторской приехал в Европу на стажировку для изучения ее биохимии. Мой интерес к ДНК вырос из возникшего на последнем курсе колледжа желания узнать, что же такое ген. Позже, в аспирантуре Университета Индианы, я надеялся, что для разгадки тайны гена изучать химию мне, может быть, и не понадобится. Отчасти такая надежда объяснялась ленью, поскольку в Чикагском университете я интересовался в основном птицами и избегал изучения тех разделов химии или физики, которые мне казались хотя бы в средней степени трудными. Биохимики в Индиане поначалу поощряли мои занятия органической химией, но после того, как я умудрился подогреть бензол на бунзеновской горелке, меня освободили от занятий по настоящей химии. Безопаснее выпустить доктора-недоучку, чем подвергаться риску очередного взрыва.
Так что мне не пришлось заниматься химией до тех пор, пока я не отправился в Копенгаген на постдокторантуру под началом биохимика Германа Калькара. На первых порах поездка за границу показалась мне идеальным выходом, учитывая отсутствие у меня каких бы то ни было новейших сведений из области химии, чему в немалой степени способствовал мой научный руководитель, микробиолог итальянского происхождения Сальвадор Лурия. Он питал отвращение к большинству химиков, особенно к той их конкурирующей породе, что водится в джунглях Нью-Йорка. Калькар же был человеком явно цивилизованным, и Лурия надеялся, что в его европейской компании я овладею инструментами, необходимыми для проведения химических исследований, без того, чтобы попасть под влияние нацеленных лишь на получение прибыли химиков-органиков.
В то время эксперименты Лурии по большей части были связаны с размножением бактериальных вирусов (бактериофагов, или, для краткости, фагов). На протяжении нескольких лет среди самых прозорливых генетиков бытовало подозрение о том, что вирусы являются разновидностью чистых генов. В таком случае лучший способ узнать, что такое ген и как он воспроизводится, – это изучать свойства вирусов. А так как простейшие вирусы – это фаги, то с 1940 по 1950 год стало появляться все больше ученых («фаговая группа»), которые изучали фагов в надежде в конечном счете выяснить, каким образом гены управляют наследственностью клеток. Во главе этой группы стояли Лурия и его друг, немец по происхождению, физик Макс Дельбрюк, в то время профессор Калифорнийского технологического института. Если Дельбрюк продолжал надеяться, что проблема будет решена с помощью чисто генетических трюков, то Лурия все чаще задумывался о том, что верный ответ удастся получить только после того, как будет установлено химическое строение вируса (гена). В глубине души он понимал, что невозможно описать поведение чего-то, если неизвестно, что это такое. Понимая, что он никогда не заставит себя изучить химию, Лурия не нашел ничего умнее, как отправить к химику меня, своего первого серьезного ученика.
Выбор между специалистом по белкам и специалистом по нуклеиновым кислотам не составил труда. Хотя на долю ДНК приходится лишь примерно половина массы бактериального вируса (другая половина – белок), эксперименты Эвери указывали на то, что основным генетическим материалом является именно ДНК. Поэтому важным шагом на пути к пониманию того, как воспроизводятся гены, могло стать выяснение химического строения ДНК. Тем не менее, в отличие от белков, о химии ДНК было известно очень мало. С ней работали отдельные химики, и генетикам почти не за что было ухватиться, кроме того факта, что нуклеиновые кислоты представляют собой очень большие молекулы, построенные из более мелких блоков-нуклеотидов. Кроме того, работавшие с ДНК химики почти все были органиками, которые не интересовались генетикой. Ярким исключением был Калькар. Летом 1945 года он приехал в лабораторию Колд-Спринг-Харбор в Нью-Йорке, чтобы прослушать курс Дельбрюка по бактериальным вирусам. Поэтому Лурия и Дельбрюк надеялись, что копенгагенская лаборатория станет тем местом, в котором объединенные методы химии и генетики наконец принесут реальные биологические плоды.
Но их план обернулся полным провалом. Герман нисколько меня не вдохновил. В его лаборатории я испытывал такое же равнодушие к химии нуклеиновых кислот, как и в Штатах. Отчасти оно объяснялось тем, что я не понимал, каким именно образом проблема, которой он в то время занимался (метаболизм нуклеотидов), может привести к чему-то непосредственно интересному для генетики. Также стоит заметить, что несмотря на то, что Герман был вполне цивилизованным, понять его было невозможно.
Тем не менее я понимал английский близкого друга Германа, Оле Молее. Оле только что вернулся из Штатов (из Калифорнийского технологического института), где увлекся теми же фагами, которые были темой моей диссертации. По возвращении он оставил свои прежние исследования и полностью занялся фагами. На то время он был единственным датчанином, работавшим с фагами, и поэтому очень обрадовался, когда я и Гюнтер Стент, специалист по фагам из лаборатории Дельбрюка, приехали заниматься исследованиями у Германа. Вскоре мы с Гюнтером стали регулярными посетителями лаборатории Оле, расположенной в нескольких милях от лаборатории Германа, и через несколько недель уже принимали активное участие в экспериментах Оле.
Поначалу я мучился угрызениями совести, занимаясь обычными исследованиями фагов с Оле, поскольку стипендию мне дали именно для того, чтобы я изучал биохимию у Германа; строго говоря, я нарушал эти условия. Более того, не прошло трех месяцев после моего приезда в Копенгаген, как меня попросили составить план на предстоящий год. А это было непросто, потому что никаких планов у меня не было. Оставался единственный безопасный выход: попросить о продолжении работы под началом Германа еще на год. Было бы рискованно заявлять, что я так и не смог заставить себя увлечься биохимией. К тому же я не видел причин, по которым мне могли бы не разрешить изменить мои планы после продления. Поэтому я написал в Вашингтон, сообщая, что хотел бы остаться в стимулирующей обстановке Копенгагена. Как и ожидалось, стажировку мне продлили. Казалось вполне разумным позволить Калькару (которого некоторые члены комитета по распределению стипендий знали лично) обучить еще одного биохимика.
Оставался вопрос, как к этому отнесется сам Герман. Вдруг он стал бы возражать против того, что я слишком редко бываю с ним. Правда, он отличался рассеянностью почти во всем и мог этого еще просто не заметить. К счастью, страхам этим не суждено было сбыться. Благодаря одному неожиданному событию совесть моя оказалась чиста. Однажды в декабре я приехал на велосипеде в лабораторию Германа, предвкушая еще одну очаровательную, но совершенно невразумительную беседу. Но на этот раз я понял Германа. Ему было необходимо поделиться важной новостью: он порвал с женой и надеялся получить развод. Новость эта скоро перестала быть тайной – об этом сообщили всем сотрудникам лаборатории. Несколько дней спустя стало ясно, что мысли Германа какое-то время не будут заняты наукой – возможно, до конца моего пребывания в Копенгагене. Так что тот факт, что ему не нужно обучать меня биохимии нуклеиновых кислот, казался даром свыше. Я мог каждый день ездить в лабораторию Оле, зная, что гораздо лучше вводить в заблуждение комитет по распределению стипендий, нежели заставлять Германа говорить о биохимии.
Кроме того, временами я бывал доволен своими текущими экспериментами с бактериальными вирусами. За три месяца мы с Оле закончили серию экспериментов, проследив судьбу частицы бактериального вируса, когда она размножается внутри бактерии, образуя несколько сотен новых вирусных частиц. Полученных данных было достаточно для вполне приличной публикации, и по обычным меркам я мог бы вообще прекратить всякую работу до конца года, не опасаясь при этом обвинений в безделье. С другой стороны, я, совершенно очевидно, не сделал ничего, что помогло бы нам понять, что такое ген или как он воспроизводится. И не понимал, как это можно сделать, пока не стану химиком.
Поэтому меня обрадовало предложение Германа поехать весной на зоологическую станцию в Неаполе, где он решил провести апрель и май. Поездка в Неаполь представлялась очень даже разумной. Не делать ничего в Копенгагене, где не бывает весны, не имело никакого смысла. С другой стороны, неаполитанское солнце могло бы помочь узнать что-то о биохимии эмбрионального развития морских животных. Там же я мог бы спокойно читать книги по генетике. А когда устану, то, возможно, взяться и за учебник биохимии. Немедля я написал в Штаты, прося разрешения сопровождать Германа в Неаполь. С обратной почтой из Вашингтона пришло приободряющее письмо с разрешением и пожеланием приятного путешествия. К нему был приложен чек на 200 долларов на дорожные расходы. И я, испытывая легкие угрызения совести, отправился в солнечные края.
Pulsuz fraqment bitdi.