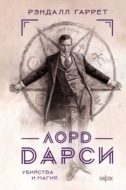Kitabı oxu: «Литания Длинного Солнца»
Gene Wolfe
LITANY OF THE LONG SUN
This is an omnibus edition comprising the novels
NIGHTSIDE THE LONG SUN, copyright © 1993 by Gene Wolfe,
and LAKE OF THE LONG SUN, copyright © 1994 by Gene Wolfe.
Опубликовано с разрешения наследников автора и агентства Вирджинии Кидд (США)
при содействии Агентства Александра Корженевского (Россия).
© Д. Старков, перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет за собой уголовную, административную и гражданскую ответственность.
* * *
Предложение за предложением, Джин Вулф пишет так хорошо, как никто в современной научной фантастике. Он передает атмосферу иных времен и мест с помощью смеси архаичной лексики и футуристической науки, которая одновременно успокаивает и тревожит.
The New York Times Book Review
История, наполненная ослепительными деталями и тайнами, с персонажами в богатых традициях Диккенса. Это обязательно нужно прочитать дважды. Вулф всегда более многогранен, чем вы думаете.
New Scientist
* * *
Темная сторона Длинного Солнца
Эта книга посвящается Джо Мэйхью – в силу как минимум дюжины разных причин
I
Мантейон на Солнечной улице
Просветление застигло патеру Шелка во дворике для игры в мяч, и, разумеется, после этого жизнь его никак не могла остаться прежней. Впоследствии, по обыкновению рассказывая о нем себе самому – вполголоса, в безмолвии ночи, а также в беседе с майтерой Мрамор (она же – майтера Роза), он описывал пережитое вот как: казалось, некто, постоянно держащийся позади, стоящий, если можно так выразиться, за обоими его плечами, внезапно прервав многозначительное многолетнее молчание, заговорил, зашептал разом в оба уха. Как вспоминалось патере Шелку, старшие мальчишки снова повели в счете, Бивень, вскинув руку, подпрыгнул, потянулся за совсем несложным мячом, и…
Тут-то в ушах и зазвучал загадочный шепот, и все, что сокрыто, сделалось видимым.
Впрочем, хоть каким-то смыслом из всего этого, прежде сокрытого, обладало немногое, да и взаимной связи между его слагаемыми не чувствовалось никакой. Он, юный патера Шелк (вон та нелепая заводная кукла), взирал на открывшееся откуда-то со стороны, точно на сцену театра механических кукол, у которых в одночасье кончился завод:
– вот рослый Бивень с застывшей навеки азартной улыбкой на губах тянется за мячом…
– а вот покойный патера Щука, бормоча молитву, режет горло пятнистому кролику, приобретенному самолично, на собственные сбережения…
– и умершая женщина из отходящего от Серебристой улицы переулка, окруженная соседями по кварталу…
– и россыпи огоньков у всех под ногами, словно огни больших городов низко-низко в ночных небесах (и – о, теплая кроличья кровь, обагрившая ледяные ладони патеры Щуки)…
– и величавые здания, венчающие Палатин…
– и майтера Мрамор, играющая с девочками, а рядом – майтера Мята, жалеющая, что не осмелилась присоединиться к игре (и престарелая майтера Роза за уединенной молитвой, взывающая к Сцилле-Испепелительнице в чертогах под озером Лимна)…
– и Перышко, сбитый с ног толчком Бивня, вопреки имени грузно падающий наземь, однако застывший в полете, не успев достичь крылокаменной мостовой, изрядно выщербленной, хотя крылокамню положено бы продержаться до самого завершения круговорота…
– и Вирон, и озеро, и чахнущие на корню посевы, и иссыхающая смоковница, и распахнутый во все стороны бездонный простор небес… все это наряду со многим другим, прекрасное и отталкивающее, кроваво-красное, сочно-зеленое, лазурное, желтое, белое, бархатно-черное с примесью прочих известных красок и даже красок, вовсе ему неведомых…
Однако что это все? Пустяки! Главное – голоса, по голосу на каждое ухо (хотя патера Шелк нисколько не сомневался: их больше, гораздо больше, да вот беда, ушей у него всего пара), а прочее – балаган, бессмыслица, явленная ему в истинном виде, развернутая перед ним, дабы он осознал, сколь она драгоценна, хотя ее сверкающим механизмам требуется кое-какая наладка, причем налаживать их суждено ему, ибо ради этого он и рожден на свет.
Об остальном он порой забывал, хотя некоторое время спустя снова отчетливо вспоминал все, всю грубую правду, облаченную в ризы достоверности, однако ни на миг не забывал этих голосов (вернее, одного-единственного голоса) и слов, ими (вернее, им) сказанных; ни на миг не забывал сего горького урока, хотя раз или два пробовал, старался о нем позабыть, позабыть слова, обрушившиеся на него, пока летел наземь Перышко, бедняжка Перышко, сбитый с ног; пока с алтаря струйкой стекала горячая кроличья кровь; пока Первые Поселенцы занимали дома, приготовленные для них здесь, в привычном, издавна знакомом Вироне; в то время как жаркий ветер, рожденный где-то на той стороне круговорота, подхватил, всколыхнул лохмотья умершей, отчего та словно бы встрепенулась, пробуждаясь от сна, и дунул еще сильнее, крепче, неистовее, едва часовой механизм, в действительности не останавливавшийся ни на мгновение, вновь завертелся, возобновил ход.
– Я вас не подведу, – ответил он голосам и почувствовал, что это ложь, однако голоса приняли ответ с одобрением.
И тут…
И тут!..
Левая рука его, взмыв кверху, выхватила мяч из ладони Бивня.
Стремительный разворот, и черный мяч, пущенный патерой Шелком, пронесшись над площадкой, словно черный грач, угодил прямо в кольцо на том краю площадки. Смачно шлепнувшись о брызнувший голубоватыми искрами камень «дома», мяч отскочил назад и миновал кольцо еще раз.
Бивень бросился было наперехват, однако патера Шелк толчком отправил его наземь, вновь поймал мяч и что было сил запустил им в кольцо. Второй дубль!
Куранты счетчика прозвонили обычный победный пеан из трех нот, и под их перезвон на изношенном сером табло отразился финальный счет: тринадцать – двенадцать.
«Тринадцать – двенадцать… что ж, счет в самый раз, – подумал патера Шелк, пряча в карман штанов поданный Перышком мяч. – Для старших мальчишек проигрыш в один мяч не слишком обиден, зато младшие просто в восторге».
По крайней мере, последнее сомнений уже не вызывало. Сдержав желание цыкнуть на расшумевшихся ребятишек, патера Шелк подхватил и усадил на плечи двоих, самых крохотных.
– Возвращаемся к урокам, – объявил он. – Все возвращаемся в классы. Малая толика арифметики пойдет вам только на пользу. Перышко, будь добр, брось Ворсинке мое полотенце.
Перышко, один из старших среди младшего возраста, так и сделал, а Ворсинка, мальчуган, восседавший на правом плече патеры Шелка, сумел, хоть и не слишком ловко, подхватить полотенце, не уронив.
– Патера, – отважился подать голос Перышко, – а ведь ты сколько раз говорил: хоть какой-то урок заключен во всем на свете.
Шелк, кивнув, утер полотенцем лицо, взъерошил и без того изрядно растрепанную золотистую шевелюру. Подумать только: он удостоился прикосновения бога! Самого Иносущего – ведь Иносущий, пусть и не принадлежит к Девятерым, тоже, вне всяких сомнений, бог! Бог, ниспославший ему – ему – просветление!
– Патера?
– Я тебя слушаю, Перышко. О чем ты хочешь спросить?
Однако просветления ниспосылаются теодидактам, а он вовсе не святой-теодидакт, вовсе не ярко раскрашенный образ в златом венце на страницах Писания! Как может он сказать этим ребятишкам, что посреди игры в мяч…
– Если так, чему учит наш выигрыш?
– Что нужно держаться. Стоять до конца, – отвечал Шелк. Все его мысли по-прежнему были заняты наставлениями Иносущего.
Одна из петель калитки, ведущей во двор для игры, давным-давно треснула; двоим из мальчишек пришлось приподнять створку, чтобы со скрипом, со скрежетом распахнуть калитку. Уцелевшая петля наверняка тоже вскоре сломается, если не принять меры…
Многие теодидакты не проповедовали вообще (по крайней мере, так рассказывали в схоле). Другие проповедовали только на смертном одре, и сейчас Шелк, пожалуй, впервые понял отчего.
– Вот мы держались до самого конца, но все равно проиграли, – напомнил ему Бивень. – Ты ведь больше, тяжелее меня. Больше любого из нас.
Шелк, согласно кивнув, улыбнулся:
– Разве я говорил, что цель в одной только победе?
Бивень раскрыл было рот с намерением что-то сказать, но так и не проронил ни слова и, судя по взгляду, крепко о чем-то задумался. У калитки Шелк, спустив с плеч Королька с Ворсинкой, отер полотенцем мокрый от пота торс и сдернул с гвоздя черную нательную рубашку, снятую перед игрой. Солнечная улица тянулась параллельно солнцу, на что и указывало ее название, и в этот час жара вокруг, как обычно, царила адская. Стоило Шелку нехотя накинуть рубашку на голову, в нос шибануло запахом собственного пота.
– Вот ты, например, – заметил он, устремив взгляд на Ворсинку, – проиграл, когда Бивень отнял у тебя мяч, однако выиграл вместе со всей нашей командой. О чем это нам говорит? Чему учит?
Малыш Ворсинка смущенно потупился.
– Что выигрыш и проигрыш – еще не все, – ответил за него Перышко.
Казалось, свободным черным ризам, надетым поверх рубашки, не терпится запахнуться наглухо.
Как только пятеро мальчишек затворили за собою калитку во двор, над Солнечной улицей замаячила бледная, расплывчатая тень летуна. Мальчишки вскинули головы, устремили полные неприязни взгляды к небу, а двое-трое из самых младших нагнулись в поисках подходящих камней, хотя путь летуна пролегал втрое, если не вчетверо выше верхушки самой высокой, статной из башен Вирона.
Шелк тоже, замедлив шаг, с давней неистребимой завистью уставился ввысь. Имелись ли среди мириадов других мимолетных видений и летуны? Вроде бы да… однако ему было явлено столькое!
В слепящем сиянии незатененного солнца несоразмерно огромные, полупрозрачные крылья летуна сделались почти незаметными. Казалось, жутковатая, угольно-черная на фоне залитого кипучим золотом небосвода фигура – руки раскинуты в стороны, ноги вытянуты, сведены вместе – мчится по небу вовсе без крыльев.
– Если летуны принадлежат к роду людскому, швырять в них камнями – несомненное злодеяние, – напомнил Шелк подопечным. – Если же нет, вам надлежит задуматься: возможно, они пребывают много выше нас не только в сем, темпоральном, но и в духовном круговороте… пусть даже подглядывают за нами, в чем я лично сомневаюсь, – словно бы спохватившись, добавил он.
Быть может, они тоже достигли просветления, отчего и способны летать? Быть может, кто-то из богов или богинь – к примеру, Иеракс либо его отец, сам правящий небом Пас, – одарил их, своих любимцев, искусством полета?
Рассохшиеся, перекошенные двери палестры не желали отворяться, пока Бивень не одолел щеколду в мужественной борьбе. Первым делом Шелк, как обычно, отвел младших мальчишек к майтере Мрамор.
– Мы одержали славную победу, – сообщил он ей.
Майтера Мрамор в притворном унынии покачала головой. Ровный овал ее лица, отполированного до блеска бессчетными протираниями, блеснул в свете солнца, падавшем внутрь из окна.
– А мои девочки, патера, увы, проиграли… бедняжки. Сдается мне, большие девчонки майтеры Мяты становятся все сильней, все проворнее с каждой минувшей неделей. Не кажется ли тебе, что наша милосердная Мольпа могла бы прибавить проворства и моим малышкам? Похоже, она совершенно о сем позабыла.
– Сдается мне, твои малышки, к тому времени, как наберутся проворства, сами станут большими.
– Должно быть, так оно и есть, патера. Сама-то я маленькой хваталась за любую возможность, любой случай отвлечься от уменьшаемых с вычитаемыми да поболтать – о чем угодно, лишь бы подольше не возвращаться к занятиям…
Сделав паузу, майтера Мрамор окинула Шелка задумчивым взглядом. Мерный кубит в ее изношенных, натруженных стальных пальцах согнулся упругой дугой.
– А ты, патера, побереги себя нынче днем. Должно быть, уже изрядно устал, все утро лазая по верхам да играя с мальчишками… гляди, не свались невзначай с крыши.
– С починкой крыши на сегодня покончено, майтера, – широко улыбнувшись, заверил ее Шелк. – После мантейона я собираюсь свершить жертвоприношение… личное, от себя.
Старая сиба склонила блестящую сталью голову набок, будто бы приподнимая бровь.
– В таком случае мне очень жаль, что мой класс не сможет принять в сем участия. Думаешь, без нас твой агнец доставит Девятерым больше радости?
Тут Шелк едва не поддался соблазну рассказать ей обо всем сию же минуту, но вместо этого лишь еще раз улыбнулся, перевел дух и затворил дверь.
Большинство старших мальчишек уже скрылись в классе майтеры Розы. Оставшимся Шелк взглядом велел следовать на урок, но Бивень задержался, шагнул к нему.
– Позволь поговорить с тобой, патера. Всего минутку, не больше.
– Ну, если всего минутку…
Однако мальчишка не вымолвил ни слова.
– Выкладывай, Бивень, – велел Шелк. – Уж не зашиб ли я тебя, не сыграл ли против правил? Прошу прощения, если так. Я не нарочно.
– А правда, что…
Прервав вопрос в самом начале, Бивень умолк, опустил взгляд к растрескавшимся половицам.
– Говори же, будь добр. Говори либо потерпи с вопросом до моего возвращения. Так будет даже лучше.
Взгляд рослого мальчишки скользнул к выбеленной известью стене из глинобитного кирпича.
– Патера, а правда, что нашу палестру и ваш мантейон под снос пустить собираются? Что вам придется переселиться куда-то еще или остаться вовсе без крыши над головой? Отец мой вчера слышал, будто… скажи, патера, правда это или нет?
– Нет.
Окрыленный надеждой, Бивень поднял взгляд, однако столь категорическое отрицание лишило мальчишку дара речи.
– И наша палестра, и наш мантейон простоят здесь еще год, и другой, и третий, и так далее.
Внезапно вспомнив о подобающей осанке, Шелк выпрямился, расправил плечи.
– Ну как? Успокоил я твою душу? Мало этого, они вполне могут стать крупнее, известнее прежнего. Надеюсь, так оно и произойдет. Возможно, кто-либо из богов или богинь вновь обратится к нам через Священное Окно, как сделал однажды Пас в юные годы патеры Щуки… сие мне неведомо, хоть я и молюсь об этом каждый день. Однако к тому времени, как я состарюсь подобно патере Щуке, у жителей нашего квартала по-прежнему будет и собственная палестра, и собственный мантейон. В этом можешь не сомневаться.
– Я только хотел сказать…
– Твой взгляд уже сказал обо всем, – кивнув, оборвал мальчика Шелк. – Благодарю тебя, Бивень. Благодарю. Я знаю, что, оказавшись в нужде, могу рассчитывать на тебя, а ты поможешь мне всем, чем только сумеешь помочь, чего бы это ни стоило. Однако, видишь ли, Бивень…
– Что, патера?
– Я знал все это заранее.
Рослый мальчишка часто-часто закивал.
– И еще, патера, вся прочая мелюзга готова сказать то же самое. Таких, кому точно можно довериться, дюжины две. Если не больше.
Все это Бивень протараторил, вытянувшись в струнку, точно страж на параде, и Шелк, слегка пораженный новым прозрением, осознал, что непривычная прямизна мальчишки – подражание его собственной, а ясные карие глаза Бивня поблескивают почти вровень с его глазами.
– Ну а потом, – продолжал Бивень, – таких еще поприбавится. И новых ребят, и взрослых.
Шелк, вновь кивнув, мимоходом отметил, что Бивень сам уже вполне взрослый, с какой стороны ни взгляни, и притом образован куда лучше многих из взрослых людей.
– А еще, патера, не думай, пожалуйста, будто я злюсь из-за… из-за того, что ты с ног меня сбил, ладно? Толкнул жестко, конечно, но в том-то вся и забава!
Шелк отрицательно покачал головой:
– Нет, просто таков уж один из приемов этой игры. Становящийся забавным лишь в том случае, когда некто маленький сбивает с ног противника куда большего, чем он сам.
– Все равно. Ты, патера, был лучшим их игроком. Если б не играл в полную силу, подвел бы их, а так ведь нечестно. Все, мне пора, – подытожил Бивень, оглянувшись на распахнутую дверь в класс майтеры Розы. – Спасибо тебе, патера!
В Писании имелся стих касательно игр и преподаваемых ими уроков – уроков, вне всяких сомнений, важнее любых наставлений майтеры Розы, однако Бивень уже переступал порог класса.
– «Сколь ни верны весы, сооруженные рукой человеческой, дуновенье богов уравняет легкую чашу с тяжелой», – пробормотал Шелк ему вслед.
Фразу он завершил сокрушенным вздохом, понимая, что пусть на секунду, но опоздал с цитатой, и Бивень также опоздал к началу урока. Конечно, Бивень скажет майтере Розе, что задержал его он, патера Шелк, однако майтера Роза непременно накажет мальчишку, не опускаясь до выяснений, правда сие или нет.
С этими мыслями Шелк отвернулся от двери в класс. Задерживаться, слушать, чем обернется дело… к чему? Попробуй он только вмешаться, Бивню достанется куда сильнее. Как мог Иносущий остановить выбор на этаком растяпе? Возможно ли, чтоб о его слабости и скудоумии не ведали сами боги?
Если не все, то хоть некоторые…
Заржавленный денежный ящик мантейона пустовал уж который день, о чем Шелк был прекрасно осведомлен, однако ему требовалась жертва, причем не абы какая. Пожалуй, родители одного из учеников смогут ссудить ему пять, а то и десять долей карточки… а унижение, сопряженное с необходимостью просить взаймы у таких бедняков, – это авгуру только на пользу. Увы, решимости Шелку хватило ненадолго: стоило только, затворив непокорную дверь палестры, направиться к рынку, возникшие в воображении слезы детишек, лишенных привычного ужина из кружки молока с краюшкой черствого хлеба, смыли, унесли ее всю без остатка. Нет, так не пойдет. Придется торговцам предоставить ему кредит.
Придется, двух мнений не может быть. Когда он приносил в дар Иносущему хоть одну, хоть самую пустяковую жертву? Ни разу! Ни разу за всю жизнь, однако ж Иносущий в память о патере Щуке открыл ему безграничный кредит. Очевидно, именно так – лучше всего именно так! – и следовало расценить сегодняшнее событие. Естественно, расплатиться с Иносущим за все эти знания и за оказанную честь в полной мере он не сумеет вовеки, сколь долго бы ни усердствовал. Стоит ли удивляться, что…
Мысли Шелка неслись вскачь, длинные ноги ускоряли, ускоряли шаг с каждой минутой.
Да, верно, торговцы не верят в долг никому. Ни на единую долю. И авгуру в кредит не поверят, а уж авгуру, служащему в мантейоне беднейшего из городских кварталов, – тем более. Однако Иносущему отказать нельзя, а значит, придется им на сей раз уступить. А самому Шелку потребуется держаться с ними твердо, предельно твердо. Напомнить им, что в свое время Иносущий, как известно, почитал их последними среди людей – и, согласно Писанию, однажды (вселившись в некоего счастливца и ниспослав ему просветление) собственноручно задал им жестокую порку. И хотя Девятеро по праву могут похвастать…
На Солнечную с ревом свернул, помчался вдоль улицы, распугивая пеших прохожих, стремительно огибая хлипкие, скрипучие повозки с терпеливыми серыми осликами, черный пневмоглиссер гражданского образца. Воздушные сопла машины вмиг подняли с мостовой целую тучу раскаленной удушливой пыли, и Шелк, подобно всем остальным, отвернулся в сторону, прикрыв нос и рот краем риз.
– Эй, ты, там! Авгур!
Пневмоглиссер затормозил, опустился на выщербленную мостовую. Едва рев двигателей поутих, обернувшись тоненьким, жалобным воем, пассажир – рослый, весьма преуспевающий с виду толстяк, восседавший за спиною пилота, поднялся на ноги и щегольски, замысловато взмахнул тростью.
– Очевидно, ты это мне, сударь? Я не ошибся? – откликнулся Шелк.
Преуспевающий с виду толстяк в нетерпении поманил его к себе.
– Поди сюда!
– Именно так я и намерен поступить, – заверил его Шелк и широким, уверенным шагом переступил через дохлого пса, гниющего в сточной канаве, вспугнув целую стаю жирных мух с глянцевитыми, отливающими синевой спинками. – Правда, случаю, сударь, куда более приличествует обращение «патера», однако сим упущением я, так и быть, готов пренебречь. Если угодно, можешь обращаться ко мне «авгур». Видишь ли, у меня к тебе дело. Весьма серьезное дело. Ты послан ко мне одним из богов.
Услышав все это, преуспевающий с виду толстяк опешил никак не менее Бивня, сбитого Шелком с ног.
– Мне настоятельно необходимы две… нет, три карточки, – продолжал Шелк. – Три карточки. Можно и больше. Немедля. На святое дело. Для тебя расход невелик, а боги тебе улыбнутся. Будь добр, поспеши.
Преуспевающий с виду толстяк утер взмокший от пота лоб обширным носовым платком оттенка спелого персика, отправившим в бой со зловонием улицы волну густого, чересчур приторного аромата духов.
– Вот уж не думал, что Капитул позволяет вам, авгурам, промышлять этаким образом, патера.
– Попрошайничеством? Разумеется, не позволяет. В этом ты, сударь, совершенно прав. Попрошайничество нам настрого запрещено. Однако попрошаек ты можешь наблюдать на каждом углу и посему должен бы знать, на что они обыкновенно жалуются прохожим, а я веду речь совсем не о том. Я вовсе не голодаю, и голодающих детишек у меня нет. Твои деньги нужны мне не для себя, но для бога, для Иносущего. Ограничивать поклонение поклонением Девятерым – серьезнейшая ошибка, а я… впрочем, это не важно. Иносущий должен получить от меня подобающий дар еще до нынешней за́тени. Это важнее всего на свете. Поспособствовав сему, ты наверняка удостоишься его благосклонности.
– Я, – начал было преуспевающий с виду толстяк, – хотел не…
Шелк повелительно вскинул кверху ладонь.
– Нет! Ни слова более, – провозгласил он, подступив ближе и впившись пристальным взглядом в раскрасневшееся, потное лицо преуспевающего на вид толстяка. – Деньги! По крайней мере три карточки, сию минуту! Я предлагаю тебе великолепную возможность заручиться благосклонностью Иносущего. Сейчас ты утратил ее, однако еще способен избежать его недовольства, если только не станешь более мешкать. Ради собственного же блага подавай сюда три карточки, да поспеши, не то тебя постигнут ужасные, немыслимые злосчастья!
– Приличным людям даже глиссер в этом квартале останавливать противопоказано, – проворчал преуспевающий с виду толстяк, потянувшись к порткарту на поясе. – Я ведь просто…
– Если пневмоглиссер твой собственный, три карточки тебе вполне по карману. А я вознесу за тебя молитву… столько молитв, что в итоге ты, может статься, достигнешь…
Вздрогнув при одной мысли об этом, Шелк оборвал фразу на полуслове.
– Захлопни пасть, мясник, лохмать твою!.. Дай Крови слово сказать! – прохрипел пилот. – Какие будут распоряжения, хефе? С собой его прихватить?
Кровь, отрицательно покачав головой, отсчитал три карточки и развернул их веером. Полдюжины оборванцев, случившихся неподалеку, остановились, разинули рты, уставились на блестящее золото во все глаза.
– Значит, тебе, патера, три карточки требуются? Ладно, вот они. Только чего ты собрался просить для меня у богов? Просветления? Вы, авгуры, вечно только о нем и трещите. Но мне на него плевать. Мне узнать кое-что нужно. Ответь на пару-другую вопросов – и забирай их, все три. Вот, видишь? Хочешь, роскошную жертву богам от себя лично преподнеси, а хочешь, потрать, на что заблагорассудится. Что скажешь? Согласен?
– Ты не ведаешь, чем рискуешь. Если…
Кровь пренебрежительно хмыкнул:
– Зато ведаю, что ни один из богов не подходил ни к одному из Окон в нашем городе с самой моей молодости, патера, сколько б вы, мясники, ни завывали у алтарей… а большего мне знать не требуется. На этой улице должен быть мантейон, так? В том месте, где к ней под углом примыкает Серебристая. Я в этой части вашего квартала ни разу не был, но расспросил кой-кого и вот такой получил ответ.
– Все верно, – кивнув, подтвердил Шелк, – а я – авгур этого мантейона.
– Стало быть, старый олух мертв?
– Патера Щука? – Шелк поспешил начертать в воздухе знак сложения. – Да, патера Щука пребывает подле богов вот уже почти год. Ты знал его?
Кровь, будто не слыша вопроса, кивнул собственным мыслям.
– Ишь ты! В Майнфрейм, стало быть, отошел, а? Ладно, патера. Я – человек не религиозный и даже не корчу из себя такового, но обещал своей… э-э… словом, обещал одной особе заглянуть в ваш мантейон и вознести за нее пару-другую молитв. И на пожертвование не поскуплюсь, понимаешь? Я ж знаю: она непременно спросит, пожертвовал ли я на мантейон. Эти три карточки – не в счет. Найдется там сейчас кому меня внутрь впустить?
Шелк вновь кивнул.
– Уверен, майтера Мрамор либо майтера Мята с радостью тебя примут. Найти их обеих ты сможешь в палестре, по ту сторону дворика для игры в мяч, – пояснил он и, сделав паузу, призадумался. – Майтера Мята довольно застенчива, хотя с детишками управляется просто чудесно. Обратись лучше к майтере Мрамор. Ее класс – первый справа. Думаю, оставить учеников под присмотром одной из старших девочек примерно на час она сможет.
Кровь сдвинул развернутые веером карточки, сложил стопкой, словно собираясь вручить их Шелку.
– Знаешь, патера, не шибко-то я в восторге от этих, химических… Кто-то мне говорил, будто у вас есть еще майтера Роза. Может, к ней обратиться или ее с вами больше нет?
– О да, она по-прежнему с нами, – ответил Шелк, надеясь, что голос не выдаст уныния, охватывавшего его всякий раз при мысли о майтере Розе. – Однако майтера Роза уже в преклонных летах, и мы, сударь, стараемся по мере возможности беречь ее бедные ноги. Уверен, майтера Мрамор справится ничуть не хуже.
– Справится, это уж точно, – проворчал Кровь и снова, беззвучно шевеля губами, пересчитал карточки. Казалось, его пухлые, унизанные перстнями пальцы нипочем не желают отлипать от тоненьких, точно папиросная бумага, сверкающих прямоугольничков. – Минуту назад ты, патера, собирался рассказать мне о просветлении. Предлагал за меня помолиться.
– Да, – горячо подтвердил Шелк, – и от слов своих не отказываюсь.
Кровь рассмеялся:
– Не стоит хлопот. Но вот что мне любопытно, а прежде настолько удобного случая расспросить об этом одного из вашей братии не представлялось. Разве просветление – не почти то же самое, что одержимость?
– Не совсем, сударь, – глубокомысленно закусив нижнюю губу, проговорил Шелк. – Видишь ли, сударь, в схоле нам преподали простые, вполне удовлетворительные ответы на все подобные вопросы. Чтоб сдать экзамен, ответы надлежало вызубрить наизусть, и сейчас я с трудом одолел искушение процитировать их тебе заново. Однако в действительности эти вещи – то есть просветление и одержимость – отнюдь, отнюдь не просты. По крайней мере, просветление: об одержимости мне известно не так уж много, а некоторые из самых авторитетных иерологов держатся мнения, будто сие явление потенциально возможно, но фактически не существует.
– Ну, отчего же? Говорят, в таком случае бог надевает человека, словно рубашку. Ну, если некоторым из людей такое под силу, то уж богу-то наверняка!
Заметив, как Шелк переменился в лице, Кровь снова расхохотался:
– Похоже, ты мне не веришь, патера?
– Я никогда не слышал о таких людях, сударь, – ответил Шелк, – однако твоих утверждений, что они существуют, оспаривать не стану, хотя сие и кажется невероятным.
– Ты еще молод, патера. Не забывай об этом, если хочешь избежать кучи ошибок, – проворчал Кровь и искоса взглянул на пилота. – Эй, Гризон, куда смотришь? Займись-ка этими путтами: нечего им лапать мой глиссер грязными лапами!
– Ну а просветление…
Шелк почесал щеку, припоминая кое-что.
– Ну, с этим, по-моему, сложностей быть не должно. Тут попросту вдруг узнаешь кучу всякого, чего не знал раньше, разве не так? – Сделав паузу, Кровь пристально взглянул в лицо Шелка. – Такого, чего не можешь объяснить… либо мог бы, хотел бы, да не позволено, а?
Мимо проследовал патруль стражи: пулевые ружья за спинами, левые руки покоятся на эфесах сабель. Один из стражников, повернувшись к Крови, почтительно коснулся козырька зеленой фуражки, залихватски сдвинутой набекрень.
– Объяснить сие нелегко, – отвечал Шелк. – Одержимость неизменно чему-либо учит – порой доброму, порой дурному. По крайней мере, так говорили наставники в схоле, хотя мне лично в это не верится… Ну а в просветлении заключено гораздо, гораздо большее. Я бы сказал, все, что под силу выдержать теодидакту.
– Именно это с тобой и произошло, – негромко резюмировал Кровь. – Просветленностью из вашей братии похваляются многие, но у тебя вроде бы все честь по чести, что ни слово, то лилия с языка. На тебя вправду снизошло просветление… по крайней мере, сам ты искренне так полагаешь. Думаешь, что снизошло.
Шелк невольно подался назад, едва не сбив с ног одного из зевак.
– Я не называл себя просветленным, сударь.
– И не надо: у тебя, можно сказать, на лбу все написано. Так. Я тебя выслушал, а теперь послушай меня. Эти три карточки – не даяние на священную жертву или на что там еще. Я за ответы на вопросы тебе плачу, и вот этот из них последний. Расскажи-ка, и сию же минуту, что есть такое «просветление», когда оно на тебя снизошло, а главное, почему. Карточки – вот, видишь? – добавил Кровь, вновь развернув сверкающие прямоугольнички веером. – Объясни, патера, что да как, и они твои.
Шелк, поразмыслив, выдернул карточки из пухлых пальцев.
– Что ж, как пожелаешь. Просветление есть постижение всего в той же мере, в какой оно ведомо ниспославшему просветление божеству. Истинное постижение самого себя и всех прочих. В этот миг все, что ты прежде считал постигнутым, предстает перед тобой в новом, истинном свете, и тебе становится ясно: до сих пор ты не понимал ничего вообще.
Зеваки забормотали, зашушукались между собой, тыча пальцами в сторону Шелка. Кто-то махнул рукой, подзывая проходящего мимо носильщика с тачкой.
– Только на миг, – уточнил Кровь.
– Да, только на миг. Но память-то сохраняется при тебе. Постигнутое не забывается.
Внезапно вспомнив о карточках, по-прежнему зажатых в руке, Шелк спохватился и – как бы кто из придвинувшейся вплотную толпы оборванцев не выхватил! – сунул деньги в карман.
– Ну а когда же оно снизошло на тебя? Неделю назад или год?
Шелк покачал головой, поднял взгляд к солнцу и обнаружил, что тонкая черная линия тени достигла его края.
– Сегодня. Часа еще не прошло. Мяч… я в мяч играл с ребятишками…
Рассказ об игре в мяч Кровь пресек нетерпеливым взмахом руки.
– Словом, тут оно и снизошло. Все вокруг будто бы замерло… сам не знаю, на миг, на день, на год или еще на какое-то время, и всерьез сомневаюсь, что окажусь прав, какой бы срок ни назвал. Может статься, он оттого и прозывается Иносущим, что пребывает вне времени. Вне времени вообще.