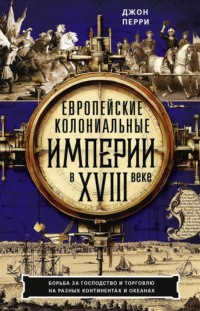Kitabı oxu: «Европейские колониальные империи в XVIII веке. Борьба за господство и торговлю на разных континентах и океанах»

© Перевод, ЗАО «Центрполиграф», 2025
© Художественное оформление, ЗАО «Центрполиграф», 2025
Введение
Люди создавали империи испокон веков. Когда одна организованная группа людей или их правители подчиняла другие группы, инородцев или их правителей, превращая их в своих подданных, данников или подчиненных союзников, или когда она отправляла часть своих людей жить в отдаленные места и впоследствии сохраняла контроль над этими поселениями, она создавала империю. На самом деле использование этого слова в таком смысле относительно ново. Когда Генрих III заявлял, что его владение в Англии должно быть империей, то думал не о своем владычестве, скажем, над Уэльсом, а всего лишь о том, что считает себя правителем, над которым нет правителей. Однако с конца XVIII века нормальным в Англии стало использование этого слова для описания определенного типа политической организации, сверхгосударства, состоящего из метрополии и зависимых территорий. Именно в таком смысле используется слово «империя» в этой книге.
Существенной особенностью всех империй – в этом смысле слова, – не считая просуществовавших совсем недолго, является связь метрополия – зависимая территория, поэтому можно выделить три главных элемента. Первый и самый очевидный – господство, контроль. Это изначально и есть смысл слова imperium. В самых важных вопросах метрополия или скорее правительство метрополии – посредством всевозможных консультаций, модификаций или обходных маневров, продиктованных обычаями или обстоятельствами, – принимает окончательное решение и отдает приказы. Его приказы могут быть или не быть действенными. Народ зависимой территории может возражать и оказывать давление, может уклоняться, тянуть время или игнорировать их, и, если его сопротивление становится открытым, постоянным и успешным, империи приходит конец. Вторым элементом является прибыль, выгода, которую получает метрополия от своих отношений с зависимыми территориями. Она может доставаться правительству метрополии, ее гражданам или и тем и другим. Прибыль может иметь форму реальной дани, получаемой обществом или частными лицами, привилегированного положения в торговле внутри империи, стратегических преимуществ над внешними врагами. Она может измеряться всего лишь эмоциональным удовлетворением от ощущения собственной власти (даже иллюзорной) или сознанием выполнения своей цивилизационной, прозелитической миссии, поскольку связи внутри империи являются не только экономическими, но также эмоциональными и политическими. Третий элемент – это услуги, которые метрополия оказывает зависимым территориям. Они могут представлять собой просто некоторую степень защиты от других хищников, но часто включают в себя что-то большее: например, оборону, поддержание порядка и стабильности, весь комплекс управления. Правительство метрополии может предоставлять зависимым территориям преимущества, или предполагаемые преимущества религии метрополии, идеологические откровения, технические навыки, политическое искусство, общую культуру. Более бедным и слабым зависимым территориям она может предоставлять финансовые субсидии, как это делало большинство правительств европейских империй в середине XX века. Эти услуги могут приветствоваться или не приветствоваться, но все имперские правительства считают их предоставление до определенной степени необходимыми для оправдания своей власти.
Средние декады XX века примечательны тем, что это было время распада или заката крупных империй, управлявшихся из центров Западной Европы. Этот процесс дал повод для большой риторической и последующей семантической путаницы. Производные от слова «империализм» и «империалист» для многих людей перестали иметь непосредственную связь с империями и приобрели неизбирательное значение «злоупотребления». Само слово «империя», если не считать его употребления в сфере истории, приобрело негативную коннотацию. И в отношении империй, которые распались, и в отношении тех, которые выжили и расширились, в обиход вошли искусные эвфемизмы. Термины «содружество» и «союз» служили Великобритании и Франции соответственно прикрытием для отказа от обязанностей империи. С другой стороны, в азиатских доминионах России то же самое слово «союз» обозначало, по сути, ту же имперскую организацию, в рамках которой все важные решения исходили из Москвы. Португальцы предложили еще один вариант: продолжая фактически сохранять империю, они сделали вид, что считают свои колонии неотъемлемыми провинциями Португалии. Еще большая путаница возникла из-за широко распространенного, но ошибочного представления, что империя, в которой метрополия отделена от своих зависимых территорий большим расстоянием по морю, является более «имперской», чем та, которая содержит непрерывную часть суши. Очевидно, что во многих аспектах морские империи существенно отличаются от сухопутных, но эти отличия касаются организации и частностей, а не сущности господства. Сибирь такая же колония поселений (включая пенитенциарные поселения), как Австралия. Португальские управляющие в Центральной Африке не обязательно более чужеродны (за исключением, конечно, цвета кожи), чем русские на Камчатке или в Казахстане, и они находятся там намного дольше. Они просто более уязвимы для нападений. Даже британцы в Индии были не намного более чужими и, вероятно, никогда не были такими же нежеланными и деспотичными, как китайцы сегодня в Тибете, хотя китайцы просто жестоко и эффективно восстановили ослабевшую власть, которая существовала веками и была признана самими британцами. Тот факт, что многие империи распались в недавнем прошлом, не должен вводить нас в заблуждение. Политические разновидности «империи» продолжают существовать под завесой вербальных уловок и, похоже, не перестанут существовать никогда.
Эта книга посвящена определенной стадии роста определенной группы империй, большинство из которых с тех пор распались или, по-видимому, распадутся. Большая часть европейских правительств без особого сопротивления смирились с утратой своих колониальных империй в неприкрытой политической форме. Они расформировали штат своих колониальных сотрудников и назначили им пенсию или убедили государства-преемники обеспечить пенсией своих гражданских колониальных служащих. Распад этих империй – особенно самой большой из них, Британской, – стал результатом скорее отказа от своих прав, чем революций. Решения об отказе принимались спешно. На самом деле в промежутке между двумя мировыми войнами во многих колониях имели место осторожные предварительные действия в сторону большей степени внутреннего самоуправления, но до реализации таких шагов дело так и не дошло. В Британской империи, где подобные действия зашли дальше всего, существовала известная формула «статус доминиона», но правительство не предлагало немедленно предоставить его Индии, не говоря уже о таких зависимых территориях, как Ямайка или Золотой Берег. По окончании Второй мировой войны большинство представителей администрации с оптимизмом думали скорее о развитии, чем о передаче власти, видя в нем панацею от всех проблем территорий, за которые они отвечали. Конечно, ощущалось также давление в другую сторону. Существовал местный национализм, более-менее европейского типа, который в значительной степени был продуктом европейского образования. В империи образование часто играло роль троянского коня. Имела место агитация со стороны отдельных политически амбициозных жителей колоний, желавших получить власть, которой они не надеялись добиться при европейском правлении. Однако, поскольку эти агитаторы хотели еще и денег на развитие и не были уверены, что смогут получить и то и другое, их деятельность часто не имела четких целей. Наконец, в некоторых местах происходили настоящие вооруженные восстания. На стороне самой империи существовали скрытые тенденции и опасения относительно правомерности имперского правления, усиливавшиеся в Англии неприятными воспоминаниями о Бурской войне. Все же главным фактором, повлиявшим на решение об отказе от прав, стало изменение баланса между выгодой и услугами, между преимуществами, которые метрополия получала от владения колониями, и ожидаемыми услугами, которые она должна была им оказывать. Европейские государства, ослабевшие и обедневшие в ходе войны, не могли позволить себе огромные траты, которые требовали их колонии, если хотели выстоять в экономических условиях XX века. Еще меньше они могли позволить себе огромные военные затраты – совершенно непропорциональные ценности этих территорий, – которые потребовались бы при необходимости силового подавления широкомасштабного восстания в колонии. Но даже в нормальных условиях цена и усилия по поддержанию хорошего управления по стандартам XX века превышали преимущества империи. Такие выводы были неприятными. С ними смирились неохотно, повинуясь здравому смыслу. Populus Romanus repente factus est alius1 – умные европейцы внезапно захотели, иногда очень сильно, передать власть практически любым возможным претендентам, и передать ее так быстро, как только можно при поддержании видимости стабильности. В этом отношении Великобритания обладала важным преимуществом, у нее был опыт, полученный в результате множества предыдущих экспериментов с местным самоуправлением. На большинстве британских территорий нынешняя передача власти прошла мягко, организованно и даже торжественно. Столкновения, если таковые были, начались позже.
Отказ империи от своих прав носил политический характер. Одномоментно он не вызвал существенных экономических и культурных изменений. Когда колонии перестали быть колониями, добыча сырья в них и колониальные рынки промышленных товаров остались доступными, хотя в некоторых случаях они уже были настолько незначительными для экономики метрополии, что отказ от них не стал серьезной потерей. Некоторые бывшие колонии начали создавать свои собственные локальные империи, но значительно большее число остались зависимыми от бывших метрополий, поскольку для их экономического развития нужен был капитал и знания. В других случаях, избавившись от зависимости от одной метрополии, они стали клиентами другой. Некоторые крупные западные государства, особенно Соединенные Штаты Америки, чьи политические традиции предполагают стойкие подозрения в отношении империализма, с беспокойством обнаружили, что втянуты в широкомасштабные предприятия и обязанности квазиимперского типа. Культурно процесс «вестернизации», которому способствовали европейские империи, распространение европейских языков и усиленное развитие средств связи, продолжился.
Политически отказ империи от своих прав означал крупные изменения. В течение многих лет большая часть обитаемой поверхности земли входила в ту или иную империю, управлявшуюся одним из европейских центров. Небольшие группы европейцев отвечали за управление, экономическое благосостояние и развитие и хорошее политическое поведение миллионов людей на зависимых территориях по всему миру, преимущественно в тропиках. Потом в течение нескольких лет европейские правительства устранились от почти всех своих обязанностей, оставив своих бывших подданных защищаться и управляться самостоятельно с разной степенью успеха. И все же основные политические структуры не исчезли бесследно, революции никогда не бывают тотальными. Без европейских колониальных империй современный мир, возможно, стал, а возможно, и не стал лучше, но безусловно это общество, созданию которого они помогли в значительной степени. История их создания и развития, как и их заката и падения, заслуживает внимания и благодаря своему историческому интересу, и как ключ к пониманию современного мира.
Колониальное стяжательство характерно для всей Европы. В то или иное время между серединой XV века и серединой XX каждое европейское государство, имевшее выход в Атлантику (а иногда и не имевшее), обзавелось заморской территорией, даже если это был маленький островок в Вест-Индии, барракун в Африке или торговая станция где-нибудь на Востоке. Однако среди всего множества европейских национальных групп, участвовавших в этом, пять стояли особняком: португальцы, испанцы, голландцы, англичане и французы. Эти пять групп проявляли активность в течение большей части всего пятивекового периода. Все они действовали на разных континентах и на всех основных океанах, все имели обширные и весьма разнообразные территориальные владения, все удерживали контроль по меньшей мере над некоторыми из них в течение долгого времени. Естественно, эти масштабные, разбросанные по миру империи отличались друг от друга не только географически, но и по своей социальной и экономической структуре и по стилю управления. Однако общее между ними было более существенным, чем различия. Они составляли, так сказать, одно семейство. Ни одна из них не была творением династического завоевания или результатом большого переселения народов. Все они зародились благодаря действиям маленьких групп частных лиц, которые стремились получить землю, заниматься торговлей или грабежом. Европейские правительства санкционировали, поощряли и впоследствии старались контролировать их, но редко выступали инициаторами. Каждая империя имела в своем составе огромное число различных предприятий и поселений и, как следствие, разнообразие присущих им интересов. В своей гетерогенности эти империи были похожи друг на друга. Все они являлись морскими империями скорее по воле обстоятельств, чем в результате политики или выбора. Крупные государства Западной Европы часто вели между собой жестокие бои за землю. Они устраивали большие войны и раз за разом разоряли свои народы, чтобы передвинуть границы на несколько миль дальше в том или ином направлении. Но их силы были слишком равны, чтобы одно государство могло завоевать другое, и ни одно не обладало достаточной силой, чтобы решительно продвинуться вглубь Евразии. Только по морю некоторые из них могли расшириться до масштабов империи. Искусство мореплавания и воинственность позволили европейцам действовать на территориях, находящихся далеко от их родных мест. Существование империй, которые они создавали, зависело от регулярного и надежного судоходства. Во всех из них количество, мощность и скорость доступных им кораблей накладывали ограничения на коммуникации и, следовательно, на эффективность контроля из центра. Во всех морская сила была жизненно важной для защиты от грабежа и расчленения. Возможно, не случайно, что закат этих европейских империй совпал с падением эффективности их морской мощи. Все эти империи находились под сильным влиянием коммерческих соображений. В некоторых случаях доминион был приобретен в интересах торговли, в других торговля развилась благодаря наличию доминиона, но везде главной целью политики являлось упорядоченное регулирование торговли в соответствии с определенными экономическими принципами или допущениями. Правительство каждой метрополии пыталось – с разной степенью решимости и успешности – развивать экономику империи, служащую исключительно интересам своих подданных и способствующую росту исключительно ее собственной мощи и доходов. Однако ни одна из империй никогда не была эффективно изолирована от других. Они постоянно взаимодействовали друг с другом в форме прямого подражания, скрытой миграции и торговли, коммерческой конкуренции, иногда вынужденной кооперации, а часто открытой войны. Они росли со сходными целями, действовали сходным образом и распадались по сходным причинам.
Можно возразить, что, хотя строители европейских империй шли примерно одинаковыми путями, делали они это в совершенно разное время. Безусловно, испанцы создали обширную империю в Америке и разработали сложный механизм управления ею намного раньше, чем там появились первые поселения англичан и французов. Торговые флотилии португальцев совершали регулярные походы на Восток и охранялись гарнизонами и грозными военно-морскими силами почти на сто лет раньше, чем первые английские и голландские торговцы обошли Каппский полуостров. Конечно, Европа Ришелье была не такой, как Европа Карла V. Тем не менее в истории европейской экспансии в целом прослеживается общий хронологический паттерн. Существовало три основные стадии: первая – ознакомление, время неуверенных начинаний, покрывавшее, вероятно, первые два века. В течение этого периода европейцы сначала учились рассматривать мир как целое, все моря – как единое море и рисовали примерные очертания Земли, которую мы знаем. Они посетили большую часть обитаемых регионов земного шара – почти все, которые доступны со стороны моря, – и обосновались на постоянной основе в тех местах, где селиться было относительно легко, очевидно, полезно и где они не встречали большого сопротивления.
Мир оказался слишком мал для нескольких вздорных авантюристов, бороздивших моря. С территориальным ростом империй и еще более быстрым ростом коммерческих систем они то и дело вступали в борьбу за самые продуктивные плантации и самые многообещающие центры торговли. Такая страна, как Англия, уже в конце XVII века агрессивно проталкивала свои ремесленные и промышленные товары, а колониальная система, подобная испанской, упрямо сохранявшая стагнирующую коммерческую монополию, с трудом могла сосуществовать с ней без конфликта. В то же время английские и французские коммерческие планы в Испанской Америке были несовместимы между собой. Точно так же в своих планах в отношении экспансии на Востоке оба правительства и торговые компании временами отдавали предпочтение мирной и выгодной торговле перед дорогостоящим вооруженным господством, но часто они обнаруживали – или их убеждали в этом агенты, – что без господства невозможно вести торговлю, которая их устраивает. В результате вторая стадия в истории морских империй была стадией конфликтов, стадией действий по расширению, стадией восстаний и смены курса. С коммерческой точки зрения и правительство, и деловые люди стали больше заинтересованы в количестве и меньше в стоимости единицы товара. К началу XVIII века даже самые консервативные имперские правительства начинали понимать, что небольшие проценты с большого объема колониальной торговли приносят больше дохода, чем большие проценты с маленького объема, и намного больше, чем грубые попытки обложить свои колонии примитивной данью. Коммерческие компании обнаружили, что намного выгоднее продавать большое количество экзотических товаров по низким ценам для массового потребления, чем поставлять ограниченное количество на люксовый рынок по ценам, которые поддерживаются искусственно и со временем все более сложно, благодаря монополии. Политически с течением времени правительства становились все более заинтересованы в эффективном и рациональном администрировании и как способе повышения дохода, и как самоцели. Колониальные должности стали рассматриваться больше как места службы, чем как места получения прибыли для их держателей. В конце XVIII века общественное мнение, а с ним и политика отражали повысившееся чувство ответственности за подчиненные расы, даже за рабов, и началось новое религиозное, преимущественно протестантское, прозелитическое движение. Во многих колониях-поселениях повысилась эффективность управления и возросло внимание со стороны метрополии, поскольку местные народы были последним, что интересовало поселенцев, и раздражение, вызванное усилением контроля, в некоторых местах побуждало к мятежам. Первое успешное колониальное восстание в Северной Америке против британского правительства на первый взгляд казалось катастрофой, крупной неудачей империи. Последующее развитие событий в Соединенных Штатах действительно подчеркнуло то, о чем говорили передовые экономисты: что достижение независимости колониями, каким бы болезненным оно ни было для власти и престижа метрополии, совсем не обязательно наносит урон ее экономическим интересам и что торговля на удаленных территориях не всегда зависит от господства. Вновь созданное сильное государство, если оно процветающее и политически стабильное, может предоставить промышленно развитой метрополии огромный и растущий рынок без проблем и затрат на обеспечение имперского надзора. Однако европейские государственные деятели не сразу это поняли, и требования восставших колоний выполнялись далеко не всегда.
Третьей стадией было промышленное доминирование. XIX и начало XX века стали периодом быстрого роста населения в Западной Европе и быстрого развития промышленных технологий. Теперь предприниматели ехали за моря и все чаще в тропики, чтобы найти не только экзотические товары для потребительского рынка, но и сырье для своих производств. Они сбывали дешевые товары промышлен ного производства в местах, которые раньше производили вручную все, что им нужно. По мере роста числа фабрик они стремились создавать также новые колонии-поселения, способные принимать людей, лишившихся своего места в результате экономических изменений на родине. Конечно, эти идеи были не новы, но теперь они применялись в беспрецедентном масштабе. Огромная экономическая и военная мощь, которую давали машины, позволила европейцам добраться в те места, куда они раньше не могли проникнуть или не считали это выгодным. Во многих местах деловая активность, которая в Европе считалась нормальной, могла осуществляться – или так считалось – только под европейской политической защитой. Правительствам приходилось – иногда без особого желания с их стороны – приобретать колонии и протектораты либо по договору, либо применяя силу. По мере того как колонии снова начали расти количественно, по размеру территории и по разнообразию, набирало обороты стремление к эффективности управления, и, чтобы обеспечить его, развивались профессиональные колониальные службы. Миссионерские общества вносили свой вклад не только прозелитически, но и, насколько позволяли их возможности, в сфере европейского образования и медицинского обслуживания. Постепенно многие выходцы из Северной Европы XIX века, как и многие испанцы XVI века, решили, что европеизация неевропейских народов – это общественный долг, а также способ получения прибыли. Естественно, имел место новый виток борьбы за колониальные территории, но, как правило, эта борьба велась в рамках дипломатии. Европейцы совместно установили экономическое и политическое доминирование над менее развитыми частями мира, которое продолжалось до недавних времен.
Из этих трех стадий истории европейских империй предметом данной работы является вторая, охватывающая период примерно с конца XVII до начала XIX века. К концу XVII века первые примерные карты с изображением размера, формы и расположения континентов, а также тех областей, которые с очевидностью могли предложить что-то экономически, наконец были признаны законченными, по крайней мере в такой степени, чтобы применяться в практических целях. Полученные в море навыки и сила позволили европейцам использовать их географические знания, и к концу XVII века они обосновались то тут, то там на всех известных континентах, кроме Австралии. Характер их поселений очень сильно разнился, но все они экономически и административно зависели от метрополий, находившихся в Европе. Власть европейских наций над многими из таких аванпостов все еще оставалась слабой. Только относительно небольшое число маленьких областей можно было назвать «европеизированными», и самым важным фактором, определяющим природу европейской колонии, являлся характер местной расы, среди которой она создавалась. В некоторых местах европейцы обустраивались как постоянно живущая аристократия среди более примитивных, но оседлых народов, живущих своим трудом, и до некоторой степени смешивались с ними. Такой долгое время была ситуация в Испанской Америке, хотя территории, находившиеся под эффективным европейским управлением, по-прежнему составляли лишь небольшую часть огромных регионов, которые Испания объявила своими, и в каждой провинции была граница с территорией индейцев. В Вест-Индии, а также на побережье Бразилии европейцы сформировали постоянно живущую аристократию, однако трудовые ресурсы, использовавшиеся для производства сахара и табака, в основном состояли из привозимых туда африканских рабов. В других регионах, где местное население было слишком малочисленным и рассеянным или слишком непокорным, чтобы исполнять роль трудовых ресурсов, а поселенцы не могли себе позволить или не хотели покупать рабов, европейцы расчищали землю и создавали чисто европейские общины, живущие преимущественно собственным трудом в качестве фермеров, рыбаков или торговцев. Узкая полоска поселений такого типа протянулась вдоль Атлантического побережья Северной Америки. Это были поселения с маленькими портовыми городками, смотрящими в сторону Европы, и небезопасной лесной границей, расположенной на небольшом расстоянии вглубь суши. Англо- и франко-американцы по-прежнему намного уступали испано-американцам по численности, богатству и культурным достижениям. Однако в XVIII веке их напористость и сила стремительно росли.
В Старом Свете европейцы сосредотачивали свои усилия в регионах, издавна известных производством ценных товаров. Их главной целью была торговля в смысле приобретения экзотических товаров для продажи в Европе. Создание сухопутной империи какого-либо существенного масштаба было им не по силам, даже если они предпринимали серьезные попытки это сделать. В Западной Африке, служившей источником золота, слоновой кости и рабов, климат и растительность не способствовали появлению европейских поселений на побережье, а местные правители, стремившиеся вести торговлю и исполненные решимости монополизировать ее, были достаточно сильны, чтобы не допустить проникновения европейцев вглубь континента. На Востоке европейцы встретились с многочисленными цивилизованными народами, организованными в хорошо вооруженные государства. Здесь не могло идти речи ни о вторжении, ни о расселении в качестве резидентной аристократии. Сюда они приходили как вооруженные торговцы, иногда как пираты, постоянно враждующие между собой. Их влияние на великие империи Азии было очень слабым, как и влияние Азии на них. Их держали на расстоянии вытянутой руки. Правительство Китая, с его культивируемой высокоорганизованной официальной иерархией, едва снисходило до того, чтобы замечать этих неотесанных иностранных торгашей на реке Кантон. На территориях, подчиненных империи Моголов, различные группы европейцев обеспечили себе плацдармы в качестве живущих там купцов, вассалов, союзников и неких ненадежных наемников, в нескольких местах в качестве мелких местных правителей, но нигде в качестве сюзеренов. Прямых контактов с Персией было очень мало, за исключением тех, которые шли через голландскую факторию в Бандер-Аббасе. Среди более мелких княжеств, расположенных на южной оконечности Азии, европейские захватчики утверждались более эффективно, но даже здесь, если не считать небольшой области на юге Индии и восточноиндийских островов, в конце XVII века европейские владения ограничивались изолированными фортами и торговыми факториями. В XVIII веке эти «костыли» оказались не способны поддерживать быстро растущую торговлю. Европу захлестнула волна ориенталистской моды, агенты крупных торговых корпораций, по крайней мере некоторые из них, превращались в конкистадоров, и, чтобы поддержать или сдержать их, европейские правительства должны были прибегнуть к прямой интервенции.
В XVII веке деятельность, связанная с освоением удаленных территорий, и торговля с ними сопровождались ожесточенной конкурентной борьбой. Ею занимались подданные полудюжины национальных королевств, относившихся друг к другу с подозрением и завистью. В то время зарубежная торговля повсеместно рассматривалась как мягкая форма войны. Однако в XVII веке ни одно из этих королевств не обладало военно-морским флотом и верфями, подходящими для ведения продолжительной войны в далеких водах. Совершая набеги на корабли и порты или, немного позднее, стараясь захватить чужие плантации и фактории, обычно использовали помощников – приватиров и буканьеров2, наемников и пиратов. И на Востоке, и в Вест-Индии любая банда головорезов, хищная деятельность которых могла послужить сиюминутным национальным интересам, с легкостью получала каперское свидетельство и обеспечивала себе поддержку того или иного колониального губернатора или президента фактории. В результате к середине века появились огромные территории диких неорганизованных конфликтов, по которым передвигаться с определенной уверенностью можно было либо тайком, либо хорошо вооружившись. В этом хаосе торговое судоходство и плантации разных наций страдали одинаково, и в последние два десятилетия века возникла всеобщая решимость формализовать колониальные конфликты. Владение и сецессия колониальных территорий начали оформляться официальными договорами, точно так же, как при территориальных изменениях внутри Европы. Английские, французские и голландские правительства постепенно принудили колониальных губернаторов сотрудничать с военно-морскими силами в деле подавления буканьеров. По правде сказать, иногда и сами военно-морские офицеры не брезговали пиратством, но постепенно практика использования пиратов для нападения на порты и суда других наций перестала считаться респектабельной формой международных отношений, даже в Вест-Индии. Это, конечно, не означало конец заморских столкновений между европейцами. Это просто означало, что самые ожесточенные столкновения официально поручили военно-морским силам и ограничили периодами формальной войны. В XVIII веке военно-морские флоты основных европейских держав пришлось весьма увеличить в размере и силе, а войны стали более частыми. На протяжении всего века колониальные владения были главным яблоком раздора в любой крупной войне и одним из главных призов при заключении каждого крупного договора. И то, что эпоха буканьеров сменилась эпохой адмиралов, для всей Европы стало знаком растущей важности заморских колоний и трансокеанской торговли.