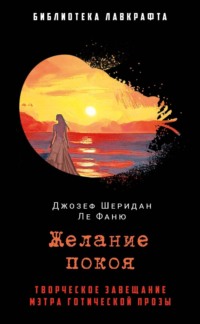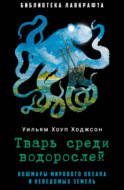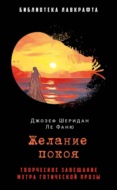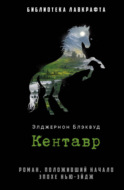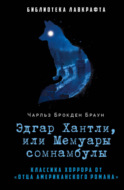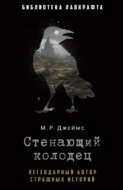Kitabı oxu: «Желание покоя»
© Абросимова Е. И., вступительная статья, перевод на русский язык, 2024
© Фельдман Е. Д., перевод на русский язык, 2024
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2025
© Оформление. Т8 Издательские технологии, 2025
Перевод с английского языка и вступительная статья Екатерины Абросимовой
Поэтические фрагменты в переводе Евгения Фельдмана и Екатерины Абросимовой

Последний роман
Перед вами не просто книга Шеридана Ле Фаню, но его последний роман. В нем вы найдете все, за что любите творчество писателя: любовь и предательство, светское общество и одиночество, готическую красоту и ужасы окружающего мира, полную надежд жизнь и трагическую смерть. В этом романе тема смерти особенно интересует Ле Фаню, но это не вызывает удивления, если знаешь, что она всю жизнь была рядом с ним.
В 1841 году Ле Фаню впервые сталкивается со смертью – умерла его горячо любимая сестра Кэтрин. С этого дня он начинает проявлять признаки болезненности и меланхолии в сочетании с религиозной тревогой.
В 1843 году Шеридан Ле Фаню женился. Его супруга, Сюзанна Беннетт, страдала неврозами. Она потеряла многих близких родственников, включая брата и отца, и это каждый раз ухудшало ее психическое состояние. Говорили, что она видела их призраков. Ее реакция на всякую смерть была почти истерической. В то время Ле Фаню писал: «Если она прощалась с кем-то, кто был ей дорог, ее всегда охватывало мучительное разочарование от того, что она никогда больше их не увидит. Если кто-то, кого она любила, болел, хотя и не опасно, она отчаивалась в его выздоровлении». Умерла она рано и очень трагично – от очередного нервного срыва при невыясненных обстоятельствах. Из дневников Ле Фаню понятно, что он винил себя в ее кончине, страдал депрессией, занимался болезненным самоанализом и тревожился за оставшихся без матери четверых детей, двух мальчиков и двух девочек. В письме своей матери он говорил, что Сюзанна была светом его жизни, и теперь этот свет погас.
Существует предположение, что повторение в его более поздних произведениях образов девушек, оставшихся без матери, эмоционально несформированных и травмированных молодых женщин-рассказчиков, переживающих форму «живой смерти», отражает чувство вины за его отношения с женой и беспокойство по поводу ответственности за воспитание дочерей.
К слову, в данном романе Ле Фаню исследует двойственность отношений между родителями и детьми. Фигуры отца и матери здесь одновременно нежно заботливы и бесчувственно жестоки.
Уже через несколько лет Шеридана Ле Фаню постигло новое несчастье – умерла его мать. После этого он отдалился от людей и почти не выходил из дома, где по ночам писал свои произведения. Боль от смерти родных, страдания, чувство вины и одиночество находят отражение во многих его работах.
Считается, что автор всегда пишет разные вариации одной книги. Таким был и Шеридан Ле Фаню. Даже имена многих героев повторяются из одного произведения в другое.
В своих романах он пытается понять любовь, иногда не просто любовь, но глубокие чувства к тому, кто их не достоин. Он пишет об одной любви на всю жизнь, любви мучительной, сложной, любви с препятствиями, любви потерянной. Как было и у него.
Кроме того, в этом романе автор задается интересным вопросом: становлюсь ли я плохим человеком, если люблю плохого человека? Как в глазах Бога выглядит любовь к плохому человеку? Является ли это грехом?
Ле Фаню нравится говорить об одиночестве, но не тяготящем, а успокоительном и излечивающем, потому что в нем живут те, кого уже нет. Они ушли навсегда, и никто другой не может их заменить. Как было и у него.
Главные герои его романов зачастую живут в уединении, обособленно от других людей, иногда в старых домах, где сама атмосфера напоминает им о потерянных навсегда близких. Их дома расположены за городом, на природе, и во многих произведениях Ле Фаню описывает пейзажи, вдохновленные детством, – деревню, парк и церковь. Высший свет, круговорот событий и лиц претят его персонажам. Они жаждут покоя в мире вокруг и в своей душе. К несчастью, они редко его находят. Как и сам автор.
Однако их уединение все же является неполным, потому что они говорят с Богом. Тема религии одновременно важна и сложна для Шеридана Ле Фаню, так как его отец был капелланом, супруга и брат – очень религиозными людьми, но сам Ле Фаню не посещал церковь по причинам, о которых мы можем только догадываться, и испытывал религиозные сомнения. На него могло повлиять как детство с отцом-священнослужителем, так и обида на Бога за ментальное нездоровье жены и семейные проблемы. Из данного романа понятно, что он испытывает стойкое недоверие к католицизму: здесь главным интриганом выступает орден иезуитов. Считается, что на его работы повлияло и учение Эммануила Сведенборга (1688–1772). В своей работе «О небесах, о мире духов и об аде» шведский философ выдвинул теорию посмертного существования: он полагал, что внешний облик ангела не отличается от человеческого, что все, что есть на небесах, соответствует тому, что есть у людей на земле, при этом человек сохраняет все свои привычки, склонности и любимые занятия, на основании которых отправляется в ту или иную область потусторонней реальности. И ад создают сами люди собственными дурными мыслями, делами и манерами. Теория довольно занятная, и неудивительно, что Шеридан Ле Фаню ею заинтересовался, однако он так и не установил контактов со Сведенборгианской церковью.
Ле Фаню знает о потере все – он потерял многих, но не знает, как это пережить. Складывается ощущение, что он придумывает новых персонажей, чтобы, как сейчас говорят, проработать собственные травмы, раскрыть в художественной литературе то, что таится глубоко в его душе, понять, как существовать дальше. К сожалению, это не получается ни у его героев, ни у него самого.
Они и он живут воспоминаниями. Кажется, что все хорошее, светлое и счастливое сосредоточено в прошлом, настоящее – темно, а будущего просто нет. Лишь воспоминания заполняют их долгие одинокие дни, они замкнулись в них, как закрылись в собственном доме.
Жизнь Шеридана Ле Фаню невероятно похожа на жизнь его героев. Точнее, героинь. Поклонники его романов могут заметить, что главные герои в них – женщины. Конечно, не могу утверждать с уверенностью, но мне кажется, что дело не только в беспокойстве о собственных дочерях, о чем я писала выше, но и в сложном внутреннем мире персонажей.
Мы привыкли, что в жизни и книгах глубокие чувства и сильные эмоции характерны для женщин, особенно молодых девушек, в то время как мужчинам или юношам не свойственна подобная тонкая душевная организация. Чувствительный молодой человек в качестве главного героя романа вызвал бы у читателей вопросы и недоумение, возможно, даже насмешки. В реальной жизни невероятно страдающего, убитого горем Ле Фаню не понимали даже близкие друзья: из-за затворничества они называли его «Невидимым принцем».
Ле Фаню интересовался внутренней жизнью своих персонажей – это отличает его работы от произведений более ранних готических писателей. Он предвосхитил возникновение не только психологии, но и неврологии. Его персонажи часто страдают от «лихорадки мозга» и других неврологических болезней. Его персонажам-мужчинам особенно свойственны сильные угрызения совести, и они нередко заканчивают жизнь самоубийством.
Хотя для готической литературы, представителем которой был Шеридан Ле Фаню, характерны философия романтизма, эстетизированный ужас, таинственные приключения, семейные проклятья, появление привидений и прочие элементы сверхъестественного, загадочные болезни, проблемы неупокоенности души и исполнения странных предначертаний, Ле Фаню пишет своему издателю, что его прежде всего интересует «равновесие между естественным и сверхъестественным, объяснение сверхъестественных явлений на основании естественных теорий», и «люди, которым предоставлен выбор в том, какое решение им хочется принять».
Днем Ле Фаню преследовали горестные мысли и воспоминания, которые во сне превращались в кошмары: ему часто снилось, что на него обрушивается дом. И в конце концов дом рухнул: в возрасте пятидесяти девяти лет Шеридан Ле Фаню умер, не оправившись после бронхита. Любая смерть – трагедия, но в этом случае, думаю, для самого Ле Фаню она стала долгожданным избавлением – наконец он обрел покой.
Шеридан Ле Фаню оставил большое наследие: семнадцать романов, несколько повестей, десятки рассказов, стихов, статей и эссе, по некоторым его произведениям сняты художественные фильмы. Его романы и рассказы вдохновляли таких известных писателей, как Брэм Стокер, М. Р. Джеймс и Хулио Кортасар.
Несмотря на чувствительную натуру, Ле Фаню не был лишен предпринимательских навыков. Еще до женитьбы он купил три дублинских периодических издания и объединил их в одно. После смерти жены, став редактором журнала Дублинского университета, он вскоре выкупил и его.
О его детях, кроме младшего сына, мало что известно. Джордж Бринсли (в дальнейшем он использовал только среднее имя, Бринсли) был иллюстратором. В основном его работа была сосредоточена на книгах отца. Он не просто иллюстрировал некоторые из его самых известных романов и рассказов, но и составлял посмертные сборники произведений Ле Фаню. Кроме того, Бринсли предложил названия для переизданий, позаботился об авторских правах и нашел среди бумаг своего отца некоторые из старых неопубликованных рассказов.
Писателя до сих пор помнят на родине: в его родном районе Дублина, Баллифермоте, есть парк, названный в честь писателя, – Парк Ле Фаню. Дорога Ле Фаню, расположенная в этом районе, также отдает дань уважения автору.
Несколько слов о данном романе. В оригинале он называется «Willing to die», то есть «Желание умереть». Совместно с ведущим редактором издания мы приняли решение перевести название как «Желание покоя». Герои романа все же ищут не смерти, но покоя и умиротворения, поэтому такая замена кажется нам логичной и обоснованной.
По мнению некоторых критиков, этот роман – самая амбициозная работа Шеридана Ле Фаню, и в то же время – самая меланхоличная. Здесь есть кораблекрушение, потерянные и найденные богатства, злодеи, любовь и смерть. Этель, одну из самых сильных героинь Ле Фаню, ждет много поворотов судьбы, несчастья и потрясения, но она все преодолеет. Несмотря на кратковременное отчаяние, она решительна, у нее имеется план действий, про таких говорят: «Она не пропадет». Мы наблюдаем за Этель много лет, видим ее рост и развитие. Ее сложно воспринимать как персонажа книги, для нас она становится реальным человеком благодаря повествованию от первого лица и дневниковым записям. Она трезво оценивает свои возможности, ничего не преувеличивает и не преуменьшает, излагает только факты, но в то же время понимает, что порой может быть субъективна, так как чувства и эмоции иногда затмевают разум.
Помимо всех «готических» составляющих в романе присутствуют и остроумные высказывания, и даже юмор, почти не свойственный ни подобной литературе, ни этому автору.
Во вступительной статье к последнему роману знакового писателя хотелось поговорить именно о жизни, чувствах и эмоциях – о том, что так волновало Шеридана Ле Фаню.
Приятного прочтения.
Екатерина Абросимова, переводчик романа «Желание покоя»
Желание покоя
Читателю
Для начала я должна сообщить вам, отчего все же решилась поведать эту историю. Не имея ранее дела с длинными повествованиями, я установила несколько правил. Некоторые из них, несомненно, удачны, другие, полагаю, нарушают законы композиции, но я воспользовалась ими, потому что они позволили мне, неопытной рассказчице, изложить эту историю яснее, чем другие, возможно, лучшие правила.
Людей, с которыми мне пришлось иметь дело, я буду изображать предельно справедливо. Я встречала людей плохих, людей равнодушных и таких, кто по прошествии времени кажется мне ангелами в незыблемом свете небес.
Мой рассказ будет составлен в порядке событий, я не буду повторяться или предугадывать.
То, что я узнала от других, перескажу от третьего лица, частью по обмолвкам живых свидетелей, частью по догадкам. Но изложу я это с той уверенностью и тщательностью, будто видела сама, тем самым подражая всем великим историкам, современным и древним. Те же сцены, в которых я сама была участницей, те, что видели мои глаза и слышали мои уши, я перескажу соответствующим образом. Если я смогу быть понятной и честной, надеюсь, мое неумение и сбивчивость мне простятся.
Меня зовут Этель Уэр.
Я нисколь не интересная персона. Судите сами. В следующем году, 1 мая 1873 года, мне исполнится сорок два. И я не замужем.
Говорят, я не похожа на старую деву, коей являюсь. Говорят, мне не дашь больше тридцати пяти, и, сидя перед зеркалом, я вижу, что в моих чертах нет раздражения или сварливости. Но какое мне до этого дело? Конечно, я никогда не выйду замуж, и, если честно, я не хочу никому угождать. Если бы меня хоть немного интересовало то, как я выгляжу, наверное, я бы выглядела хуже, чем сейчас.
Я хочу быть честной. Закончив это предложение, я посмотрела в зеркало. И увидела поблекший образ когда-то симпатичного или, как говорится, привлекательного лица: широкий и правильный лоб, до сих пор темно-каштановые волосы, большие серые глаза – черты не трагические и не классические, но просто приятные.
Думаю, в моем лице всегда была энергия! А давным-давно в нем временами можно было увидеть усмешку, или же печальное, или нежное, или даже мечтательное выражение, когда я прикалывала цветы к волосам или говорила со своим отражением в зеркале. Все это сошло на нет. Сейчас я вижу только решительность.
Если я ничего не путаю, в Египте применяется процесс искусственного выведения цыплят: прежде чем треснет скорлупа, правильным образом нагрев ее, вы можете по собственному усмотрению сделать птицу всецело клювом, или когтями, или головой, или ножкой – как сами того пожелаете. Без сомнения, это птенец, хотя и чудовищный, и я была похожа на такого птенца. Обстоятельства юности всецело сделали меня олицетворением спокойствия.
В случае моей матери нагрев применился по-другому, произведя чудо совсем иного рода.
Я любила мать со всей теплотой, но, как я сейчас понимаю, с некоторой пренебрегающей привязанностью, которая не была злобной или наглой, но, напротив, очень нежной. Она любила меня, я в этом уверена, насколько вообще была способна любить ребенка, причем любила сильнее, чем мою сестру, и я бы пожертвовала жизнью ради нее. Однако, несмотря на всю мою любовь, я относилась к ней свысока, хотя не понимала этого, пока не обдумала всю свою жизнь в меланхоличной честности одиночества.
Я не романтична. Если и была когда-то, то время излечило меня от этого. Я могу искренне смеяться, но мне кажется, что вздыхаю я чаще других.
Я ничуть не застенчива, но мне нравится одиночество, отчасти потому, что я отношусь к людям с ненапрасным подозрением.
Я всегда говорю откровенно. И я наслаждаюсь (возможно, вы подумаете, что вульгарно) столь нарочито грубым словесным автопортретом. Я не щажу ни себя, ни других. Но я и не цинична. В ироничном эгоизме циников чувствуется неуверенность и нерешительность. Во мне же есть нечто более глубокое, так что я не наслаждаюсь этой жалкой позицией. Я видела благородство и самопожертвование. Неправда, что в человеческой природе нет великодушия или красоты, более или менее убогой и несуразной.
Со стороны отца я внучка виконта, со стороны матери – баронета. В юности я мельком увидела высший свет и насмотрелась темного мира под ним.
Я собираюсь рассказать вам странную историю. Когда я опускаю руку, охваченная кратковременным воспоминанием, которые всегда искушают неумелого писателя, я медленно провожу по щеке пером – ибо я не вырезаю предложения на бумаге стальным кончиком, а по старинке вывожу слова серым пером птицы – и смотрю в высокое окно на пейзаж, который полюбился мне с самого детства. Благородные уэльские горы справа, а слева пурпурные окраины полей, величественно спускающиеся к волнам. Я вижу море, волшебную, заколдованную стихию, мою первую и последнюю любовь! Как часто я улыбалась волнам, резвящимся под летними небесами. А зимними лунными вечерами, когда северные ветра гонят ужасные валы на скалы, я наблюдала, сидя у окна, за пеной, облака которой выстреливали в воздух. Спустя долгие часы я понимала, что все еще смотрю, забывая дышать, на островерхую черную скалу, размышляя о том, что мне однажды подарили буря и пена. Вздрогнув от ужаса, я пробуждалась от чар с ощущением, что все это время со мной говорил призрак.
Из того же окна в свете утра или меланхолии заката я вижу тенистый старый погост, где будет и моя узкая постель. Там мать-земля наконец прижмет меня к груди, и я найду утешение и покой. Там надо мной воспарят, вылетев в старые церковные окна, тихие и сладостные псалмы и молитвы, которые я когда-то слышала. Там, от рассвета до заката, тени башни и дерева будут медленно скользить по траве надо мной. Там, под свежий и печальный звук волн, я буду лежать у непрерывно движущегося моря, которое я так любила.
Я не сожалею, несмотря на пустые воспоминания и страшное знание, что моя жизнь сложилась так, а не иначе.
Член «верхних десяти»1, я не должна была ничего знать. Я задорого купила это знание. Но правда бесценна. Расстанетесь ли вы с ней, собрат скорбящий, чтобы вернуться к былой простоте и иллюзиям? Хорошенько подумайте, будьте честны, и вы ответите «нет». Стерли бы вы хоть черточку в книге памяти, каждая страница которой, словно «Кровавая книга Корнелиуса Агриппы», способна вызвать призрака? Мы ни за что не расстанемся с тем, что когда-то было частью разума, памяти или нас самих. Печальное прошлое – наше навеки.
Благодарение Богу, мое детство прошло в безмятежной глуши, где не так слышим шум движения мира, в месте, где почти не чувствуется влияния столицы, где спят добрые люди и где о непоправимых улучшениях, которые в других местах совершают непоправимую работу по уничтожению, даже не мечтают. Я смотрю на пейзаж, который не меняется, словно само небо. Лето приходит и уходит, осень гонит листья, зима приносит снега, и все здесь остается таким же, каким его узрели мои круглые детские глаза в глупом восхищении и восторге, когда мир впервые открылся для них.
Деревья, башня, стрелка солнечных часов и сами могильные плиты – мои ранние друзья. Я протягиваю руки к горам, словно могу прижать их к сердцу. В просвет между старых деревьев виден широкий эстуарий, тянущийся на север, к серому горизонту открытого моря.
Луна восходит, солнце отступает
И косо тусклый свет распространяет,
И млеет воздух при вечерних звездах,
И мир уходит на счастливый роздых,
И чары заполняют лес и волны,
Прилив-отлив и скалы ими полны.
И бриз морской в широком и безбурном
Пространстве просыпается лазурном.
И дышит он, и, словно бы в наитье,
Здесь рябь скользит; над ней – златые нити.
И волны, даже те, что еле видны,
Стихи плетут – затейливо, завидно.
И те стихи не ищут путь окольный:
Их глас повсюду слышен колокольный!
И даже галька, что на дне на самом,
Внимает им, столь близким и желанным!
Средь волн и ветра я живу, как дома!
Пещер и гальки песня мне знакома.
Люблю я бег валов неудержимых,
Что вдаль бегут; на берегах любимых
Встречает их клокочущая пена,
Встречает их кончина неизменно.
На руку опершись щекой холодной,
Люблю следить за драмою природной.
Знакомо всем: с открытыми глазами
Дитя, завороженное словами,
Внимает им, и в смутном удивленье
Не может их постичь хитросплетенья,
Внимает, но понять не в состоянье
Истории о славе и страданье.
И так же в одиноком упоенье
Понять я дикой музыки значенья
Всё не могу. Я слушаю – и только,
Не понимая смысла их нисколько.
Они – не для меня. Что ж, будь что будет:
Фантазии прибудут и убудут,
И пусть в существованье быстротечном
Фантазии сольются с морем вечным!2
Но я заканчиваю вступление и начинаю свою историю.
Глава I
Приезд
Одно из моих первых воспоминаний таково: мы с сестрой, еще детьми, спускаемся вниз, чтобы выпить чаю со старой доброй Ребеккой Торкилл, нашей экономкой, в комнате, которую мы называем кедровой гостиной. Комната эта длинная и довольно унылая, с двумя высокими окнами, выходящими в темный двор. На стенах висят выцветшие портреты, и бледные лица проглядывают, если можно так выразиться, сквозь черный туман холста. Один из них, в сравнительно лучшем состоянии, изображающий величественного мужчину в пышном наряде времен Якова I3, расположен над каминной полкой. Ребенком я любила эту комнату, любила эти едва различимые картины. Пусть комната была темной, если не сказать мрачной, но это была восхитительная темнота и восхитительный мрак, полные историй о замках, великанах и гоблинах, которые нам рассказывала Ребекка Торкилл.
Вечер, небо на западе грозовое и красное. Мы сидим в Мэлори, нашем поместье, за столом, пьем чай, едим пирог и слушаем историю, которую нам часто рассказывала Ребекка, называлась она «Рыцарь и Черный замок».
Рыцарь в черном, живущий в черном замке посреди дремучего леса, будучи великаном, огром и немного волшебником, брал пару огромных черных седельных мешков, чтобы засовывать в них добычу, и темной ночью отправлялся в дома, где детские были полны. Его высокий черный конь, когда рыцарь спешивался, ждал у парадной двери, которая, какими бы крепкими ни были засовы, не могла противостоять волшебным словам, которые он произносил замогильным голосом:
На этот призыв дверь медленно открывалась без скрипа и треска, черный рыцарь поднимался в детскую и за ноги вытаскивал детей из кроватей, прежде чем кто-то спохватится, что он рядом.
И вот однажды, во время этой истории, которую мы с детской любовью к повторениям слушали в пятидесятый раз, я, чей стул стоял напротив окна, увидела, как высокий мужчина на большом коне – оба казались черными на фоне красного неба – скачет к нашему дому по тропинке.
Я подумала, что это старый викарий, который время от времени навещал матушку нашего садовника – та была больна и слаба, – и, выбросив увиденное из головы, снова погрузилась в хищнические блуждания рыцаря Черного замка.
Только когда я увидела, что лицо Ребекки, на которое я почти неотрывно смотрела с жадным интересом, вдруг неприятно изменилось, я осознала, что это был вовсе не викарий. Она осеклась на середине предложения и уставилась на дверь. Я тоже посмотрела туда и была не просто поражена. Готовая поверить во что угодно посреди страшного рассказа, я на секунду подумала, что и вправду узрела черного рыцаря, чей конь и седельные сумки ждут у парадной двери, чтобы принять нас с сестрой.
Мужчина показался мне великаном. Он будто заполнил собой весь дверной проем. Все на нем было темное: темный сюртук и темные шаровары, сапоги с раструбами и шляпа с низкой тульей. Его волосы были длинными и черными, а лицо вытянутое, но красивое, хотя и смертельно бледное от, как мне казалось, сильного гнева. Он неотрывно смотрел на нас. Дети редко ошибаются в чтении по лицам. В глазах детей взрослые окружены аурой тайны, и, конечно, дети побаиваются силы, исходящей от них. Мрачное или грозное выражение на лице человека высокого статуса внушает нечто сродни панике, и если этот человек явно охвачен гневом, то его присутствие, клянусь, напугает ребенка до истерики. Я была на грани. Тревожное лицо с черными сведенными бровями и до синевы выбритым подбородком было для меня еще страшнее от того, что оно не было молодым.
Мужчина за два широких шага оказался у стола и сказал звучным, глубоким голосом, от которого у меня завибрировало сердце:
– Мистера Уэра нет, но он скоро будет. Передайте ему это. – Огромной ручищей он грохнул на стол конверт. – Вот мой ответ. И скажите ему, что его письмо, – он решительно полез в карман и вынул листок, – я разорвал так и вот так… – Он яростно подкрепил слова действиями.
Высказавшись, он припечатал клочки письма о стол своей лапищей, от чего ложечки в наших чашках подпрыгнули и звякнули, развернулся и зашагал обратно к двери.
– И передайте ему, – добавил он более спокойным тоном, снова повернув к нам свое ужасное лицо, – что божий суд рассудит по справедливости.
Дверь захлопнулась, и мы с сестрой разразились громкими рыданиями – ревели и плакали добрых полчаса от простого испуга, и от Ребекки потребовались вся ее энергия и ловкость, чтобы успокоить нас.
Это воспоминание, со всей яркостью и преувеличением ужасного впечатления, полученного в детстве, навсегда останется в моей памяти. В наших с Хелен играх мы звали его в честь героя рассказа, который слушали, когда он пришел: Рыцарь Черного замка.
Этот случай произвел на нас действительно сильное впечатление, и я поведала его более детально, чем он того заслуживает, потому что, сказать по правде, он связан с моей историей, и впоследствии я, так уж случилось, очень часто видела ужасного мужчину, после чьего визита мы с сестрой много дней пили «чашу трепета»5 и в чьем присутствии мое сердце трепетало.
Моя история начнется много лет спустя.
Пусть читатель представит меня и мою сестру Хелен. Я темноволосая, мне чуть больше шестнадцати; у нее льняные или скорее золотистые волосы и большие голубые глаза, ей всего пятнадцать. Мы стоим в холле Мэлори, освещенном двумя свечами: одна в старомодном стеклянном колпаке, свисающем на трех цепях с потолка, вторая поспешно принесена из комнаты экономки и горит на столе в туманных клубах воздуха февральской ночи, которые врываются в распахнутую дверь.
Старая Ребекка Торкилл стоит на крыльце, широкой рукой защищая глаза, будто ее слепит луна.
– Никого, дорогая. Нет, мисс Хелен, наверное, это ворота. Я никого не вижу и не слышу. Идемте, вам не стоило выходить, с вашим-то кашлем.
Она вошла внутрь и закрыла дверь, и мы больше не видели темные стволы и ветви вязов в окружении тумана. Мы прошли в комнату экономки, ставшую нашим временным пристанищем.
Это была вторая ложная тревога за вечер, когда сестре казалось, что скрипят старые железные ворота. Мы с нетерпением ждали дальше.
Наше старое поместье находилось, в лучшем случае, в запущенном состоянии бездействующего военного корабля. Старая Ребекка, две деревенские служанки и Томас Джонс, который исполнял обязанности слуги, садовника, птичника и фермера, – вот и вся обслуга, которой мы могли похвастаться. По крайней мере три четверти комнат были заперты, ставни в них закрыты, и бóльшая часть их год от года не видела света и лежала в пыли.
Правда в том, что наши отец и мать редко посещали Мэлори. У них был дом в Лондоне, они вели очень веселую жизнь и были «добрыми людьми» нарасхват. Их деревенская жизнь проходила не в Мэлори, но в визитах в один загородный дом за другим. Мы с Хелен, их единственные дети, редко видели родителей. Иногда нас вызывали в город на месяц или два для уроков танцев, музыки или чего-то еще, но и там мы видели их не намного чаще, чем дома. Нахождение в обществе, судя по ним, казалось мне невероятно изматывающим, трудным занятием. Я всегда думала, что в городе мы лишние и нежеланные, поэтому испытывала огромное облегчение, когда нас отпускали к деревенским платьям и любимому уединению Мэлори.
То был важный вечер. Мы ждали приезда новой гувернантки или, скорее, компаньонки.
Лаура Грей – мы знали только ее имя, ибо в записке, наспех написанной отцом, мы не смогли разобрать, мисс она или миссис, – должна была приехать сегодня вечером около девяти. В его последний однодневный визит я спросила его, замужем ли она, на что он ответил, смеясь:
– Мудрая маленькая женщина! Это очень дельный вопрос, хотя я никогда об этом не задумывался, все время обращаясь к ней «мисс Грей». Но она определенно в том возрасте, когда может быть замужем.
– Она злая, папочка? – спросила я.
– Не злая… может быть, немного суровая. Как-то раз она запорола двух учениц до смерти и спрятала их тела в подвале для угля или что-то в этом роде, но вообще у нее очень спокойный характер. – Его забавляло мое любопытство.
Хотя мы знали, что все это говорилось в шутку, опасения не покидали нас. Эта женщина стара и зловредна? Гувернантка имеет огромную власть. Коварная женщина, которая любит власть и не любит нас, могла сделать нас очень несчастными.
Наконец наша небольшая компания, сидевшая в комнате экономки, услышала звуки, от которых мы все вздрогнули. Это был цокот конских копыт и стук колес, и прежде чем мы успели дойти до парадной двери, зазвенел колокольчик.
Ребекка распахнула дверь, и в тени дома мы увидели одноконный экипаж, колесо которого касалось лестницы; багаж на крыше был тускло освещен свечами из холла.
В окно кареты мы видели чепчик, но не лицо. Тонкая рука повернула ручку, и леди, чья фигура, пусть и закутанная в твидовый плащ, казалась очень стройной, спустилась на землю. Она взбежала по лестнице и, поощряемая Ребеккой Торкилл, улыбаясь, вошла в дом. У нее было очень красивое молодое и честное лицо, хотя довольно бледное.
– Моя фамилия Грей, я новая гувернантка, – сказала она приятным голосом, который также был очень притягательным. – А это юные леди? – продолжила она, взглянув на Ребекку и снова на нас. – Вы Этель, а вы Хелен Уэр? – Немного застенчиво она подала нам руку.
Мне она уже нравилась.
– Можно я провожу вас в вашу комнату, пока Ребекка у себя делает вам чай? – спросила я. – Мы подумали, что сегодня так будет удобнее.
– Я так рада: я чувствую себя как дома. Это как раз то, что мне нужно, – сказала она и щебетала всю дорогу до ее комнаты, которая была очень уютной, хотя и старомодной. Когда мы вошли, свет от камина мерцал на стенах и потолке.
Я хорошо помню тот вечер, и у меня есть причина помнить мисс Лауру Грей. Некоторые люди сказали бы, что в ее лице нет ни одной строгой черты, кроме глаз – действительно очень красивых, но у нее были прекрасные маленькие зубки и кожа, на диво гладкая и чистая. Но самое главное, в ее бледном, одухотворенном, невыразимо притягательном лице были утонченность и энергия. Для меня она была поистине красавицей.
Сейчас я живо и ясно вижу картину, какой она была тогда, в свете камина. Мисс Грей улыбнулась мне очень добро – казалось, она меня поцелует, – и, вдруг задумавшись, она протянула тонкие руки к огню, глубоко вздохнув.
Я незаметно оставила ее с сундуками и коробками, которые Томас Джонс уже поднял наверх, и сбежала вниз.
Картину того вечера я помню со сверхъестественной четкостью, ибо жизнь моя отныне изменится: вместе с прекрасной мисс Грей в нее войдет другая бледная фигура в черном, и беда надолго стала моей спутницей.