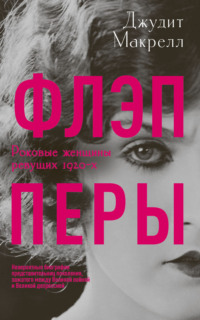Kitabı oxu: «Флэпперы. Роковые женщины ревущих 1920-х»
Фреду и Оскару
Judith Mackrell
Flappers
Copyright: © Judith Mackrell, 2013
© Юлия Змеева, перевод на русский язык, 2024
© Оформление. Livebook Publishing LTD, 2024
Письмо автора и благодарности
Двадцатые годы прошлого столетия – многим женщинам это десятилетие принесло головокружительные перемены. Книга посвящена шести женщинам, добившимся невероятного успеха в данный период. Диана Купер, Нэнси Кунард, Тамара Лемпицка, Таллула Бэнкхед, Зельда Фицджеральд и Жозефина Бейкер – для этих звезд 1920-е стали временем исключительных возможностей, а если рассматривать их вместе, можно увидеть, что они являлись истинными представительницами своей эпохи, реализовывали схожие амбиции, преодолевали одни и те же препятствия, и даже их причуды были вполне характерны для «коллективной личности» того поколения.
Эти женщины существовали в тесном мирке. Хотя они жили и работали в разных городах, любовники, друзья и заботы у них были общие. О них писали одни и те же авторы и журналисты, фотографы снимали их для одних и тех же журналов. Однако суть биографии – передать краски и подробности индивидуальной жизни, поэтому в работе над этой книгой мне помогли предыдущие труды превосходных биографов. Я в большом долгу перед их исследованиями и знаниями.
Словарь 1920-х существенно отличался от языка нашей политкорректной эпохи. Тогда всех молодых женщин называли девочками, чернокожих – ниггерами, актрис – артистками, и, хотя эти слова режут слух современному человеку, ради исторической достоверности я решила их сохранить. По той же причине цитаты из писем и дневников приведены в изначальной форме со всеми орфографическими, грамматическими и идиоматическими особенностями.
Что касается финансов, которые для большинства наших героинь имели первостепенную важность, я попыталась дать общее представление о курсе валют и стоимости отдельных товаров в 1920-е годы, но не приводила данные об инфляции. После отказа от золотого стандарта в 1914 году1 ценность европейских валют, особенно франка, подверглась сильным колебаниям, в то время как американский фондовый рынок, напротив, скакнул вверх. По этой причине Париж 1920-х притягивал иностранных художников и писателей, и многие события этой истории разворачиваются именно там.
Вот очень приблизительное сравнение ценности денег тогда и сейчас, составленное с помощью индекса розничных цен. Оно поможет представить размеры доходов шести героинь и состояние их банковских счетов.
В 1920 году 1 фунт стерлингов равнялся примерно 3,50 доллара или 50 франкам; в переводе на «наши деньги» это около 32,85 фунта стерлингов.
В 1925 году 1 фунт стерлингов равнялся примерно 5 долларам или 100 франкам; сейчас это примерно 46,65 фунта.
В 1930 году 1 фунт стерлингов равнялся примерно 3,50 доллара или 95 франкам; в наши дни это около 51,75 фунта.
За разрешение цитировать изданные и неизданные работы выражаю признательность: литературному агентству Фелисити Брайан и наследнику леди Дианы Купер и Даффа Купера Джону Джулиусу Норвичу за отрывки из сборников A Durable Fire: The Letters of Duff and Diana Cooper (под ред. Артемис Купер, © Артемис Купер, 1983); The Rainbow Comes and Goes, The Autobiography of Lady Diana Cooper (© The Estate of Lady Diana Cooper, 1958); The Duff Cooper Diaries 1915–1951 (под ред. и с предисловием Джона Джулиуса Норвича, 2005); издательству Cooper Square Press за отрывки из биографии Josephine Baker: The Hungry Heart, авторы: Жан-Клод Бейкер и Крис Чейз; издательству Aurum Press за отрывки из биографии Tallulah! The Life and Times of a Leading Lady, автор: Джоэл Лобенталь; издательству Random House за отрывки из книги Зельды Фицджеральд Save Me The Waltz; издательству Gollancz за отрывки из автобиографии Таллулы Бэнкхед Tallulah: My Autobiography; Scribner’s Sons за отрывки из романов Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и писем Ф. С. Фицджеральда и Зельды Фицджеральд; Центру Гарри Рэнсома за отрывки из личных документов Нэнси Кунард; наследникам Т. С. Эллиота и Faber and Faber Ltd за отрывки из поэмы The Waste Land; наследникам Тамары Лемпицкой за отрывки из биографии Passion by Design: The Art and Times of Tamara de Lempicka, авторы: Кизетта Лемпицка-Фоксхолл, Чарльз Филлипс (© 2013, Tamara Art Heritage, по лицензии Museum Masters NYC).
Помимо своих предшественников, биографов и историков, перечисленных в библиографии, хочу поблагодарить всех, кто оказал неоценимую и щедрую помощь и поддержку в написании и издании этой книги.
Джиллиан Дарли и Майкла Горовица, Кейт и Пола Богана за фантастическое гостеприимство; друзей, которые терпеливо выслушивали мои идеи; Дебру Крейн, которая читала и комментировала рукопись, хотя вовсе не обязана была этого делать.
Выражаю огромную признательность своему великолепному редактору Джорджине Морли – дотошной, въедливой и остроумной; всей команде редакторов Macmillan, включая моего очень терпеливого менеджера по производству Таню Уайльд и скрупулезного корректора Шону Бартлетт. Моему агенту Клэр Александер спасибо за неустанную поддержку.
Наконец, как всегда, хочу признаться в любви своей семье.
Джудит Макрелл, январь 2013
Введение
Второго октября 1925 года на сцене парижского Театра Елисейских Полей стояла танцовщица, юная американка родом из негритянского гетто Сент-Луиса. Ее ноги дрожали от усталости и царившего в зале оглушительного грохота. Зрители кричали, визжали, топали ногами, но шум, казавшийся нашей героине враждебным, на самом деле означал другое. Париж ее принял. Еще три месяца назад Жозефина Бейкер, худенькая девчонка из кордебалета, перебивалась скромными заработками и жила мечтой. Теперь она явилась перед зрителями в новом амплуа темнокожей экзотической красотки, а вскоре ей предстояло стать отдельным культурным феноменом.
Корреспондент «Нью-Йоркера» в Париже сообщал, что через полчаса после дебютного выступления Жозефины во всех городских барах и кафе только и разговоров было, что о завораживающем эротизме ее танца. Ресторатор Морис Батай, позже ставший одним из ее любовников, утверждал, что ее обнаженные ягодицы – «Quel cul elle a!» 2– «завели весь Париж». В последующие дни художники и критики окрестили ее черной жемчужиной, эбеновой Венерой и роковой красоткой эпохи джаза с душой африканской богини.
В продажу выпустили открытки с изображением «Ля Бейкер» и куклу Жозефину. Блестящие черные волосы и кожа цвета кофе с молоком, служившие предметом издевок над танцовщицей в ее родном Сент-Луисе, во Франции использовались для продвижения косметической продукции – помады для укладки коротких «итонских стрижек»; масла грецкого ореха для создания искусственного загара. Ее упругое литое тело стало иконой современного стиля, идеально вписавшись в глянцевую эстетику ар-деко с его изящными линиями и в образ французской «пацанки», garçonne – девушки, обладающей мальчишеской грацией.
Некоторые молодые женщины, наблюдавшие за Жозефиной, узрели в ее танце возможность собственного преображения. В западном мире наступлению 1920-х радовались, называя их «десятилетием перемен». Первая мировая война подорвала оптимизм начала века, разрушила миллионы жизней, нанесла ущерб экономике и привела к падению политических режимов, однако современный мир восставал из пепла с поистине ошеломляющей быстротой. Подпитываемые растущим американским фондовым рынком и безудержными темпами развития промышленности, 1920-е обещали стать десятилетием массового потребления и международного туризма, кино, радио, разноцветных коктейлей и джаза. Они сулили свободу.
Но особенно много соблазнов 1920-е таили для женщин. Война перекроила карту общественного устройства и подарила женщинам право голоса и рабочие места. Прибыв в Париж, Жозефина Бейкер столкнулась с культурно-экономическими условиями, которые до 1914 года казались немыслимыми; то же можно сказать о польско-русской художнице Тамаре Лемпицкой.
Тамара выросла в царской России в тепличных условиях; ее жизнь была полна комфорта и удовольствий. Но после Октябрьской революции 1917 года прежняя жизнь рассыпалась в прах; Тамара с мужем и маленькой дочерью вынуждены были уехать. Так она очутилась в тесном номере парижского отеля; из всех умений, что могли бы обеспечить пропитание, у нее был лишь художественный талант, хотя рисованию она почти не училась, и непоколебимая уверенность, что она достойна большего. Благодаря этим двум качествам к концу 1920-х годов она стала одной из самых востребованных художниц десятилетия.
На самых знаменитых полотнах Тамары изображены ее современницы, молодые женщины, чьи роскошные фигуры излучают уверенную сексуальность, столь же характерную для 1920-х, как танцы Жозефины Бейкер. Тамара всегда говорила, что у них с Жозефиной много общего, хотя ни разу не предложила написать ее портрет: «У всякого, кто смотрел на эту женщину, от томления подкашивались колени. Она изначально выглядела как моя картина: я не могла просить ее позировать».
Другой поклонницей таланта Жозефины была поэтесса и богатая наследница Нэнси Кунард. Англичанка Нэнси тоже покинула родину и поселилась в Париже, но, хотя они с Тамарой были завсегдатаями одних и тех же ночных клубов, баров и вечеринок, Нэнси водила близкую дружбу с парижскими художниками-авангардистами. Той осенью она рассталась с дадаистом Тристаном Тцара и влюбилась в одного из основателей сюрреализма Луи Арагона.
Нэнси росла одинокой девочкой, книжным червячком и полной противоположностью своей ненасытной до общения матери; противостояние с последней укрепило ее решимость начать новую жизнь в Париже. За восемь лет в столице Франции из английской аристократки она превратилась в типичную левобережную радикалку 3. Короткая стрижка, глаза, обведенные сурьмой, предплечья, унизанные браслетами из эбена и слоновой кости, и длинный список любовников, в числе которых был чернокожий джазовый пианист из Джорджии.
В середине 1920-х в Париже оказалась и Зельда Фицджеральд. Красавица с американского юга родом из маленького алабамского городка, «стройная и гибкая», с «капризно чарующим ротиком» 4 стала прототипом изящных современных героинь своего мужа, писателя Скотта Фицджеральда. Таллула Бэнкхед была подругой детства Зельды; она ей восхищалась и в своей семье ощущала себя пухлым неуклюжим гадким утенком, но в пятнадцать лет стала морить себя голодом, похудела и выиграла журнальный конкурс на небольшую роль в кино. Ее ждала карьера на Бродвее и в театрах Вест-Энда; в 1925 году она блистала на лондонских театральных подмостках. Никого похожего на дерзкую, остроумную, роскошную Таллулу лондонские зрители не видели.
Американцы, в свою очередь, вздыхали по другой экзотике – истинной английской аристократке леди Диане Купер. В 1920-е годы она гастролировала по США со спектаклем Макса Рейнхардта «Чудо». Диана была младшей дочерью восьмого герцога Ратленда, то есть находилась одной ступенью ниже британской королевской семьи и росла в золоченой клетке, из которой должна была выпорхнуть прямиком в объятия богатого и титулованного супруга. Но она влюбилась в мужчину, у которого не было ни денег, ни статуса, и нарушила вековую традицию. Она решила работать, чтобы помочь мужу начать политическую карьеру, и выбрала профессию, которая еще пару десятилетий назад считалась позорной для женщины ее круга.
К осени 1925 года эти шесть женщин путешествовали в такие места, о которых ни они сами, ни кто-либо другой прежде даже не помышляли. Они не были подругами, но их судьбы во многом пересекались. Их путь символизировал эпоху глобальных перемен, ведь после 1920-х жизни женщин и их ожидания перестали соответствовать единому традиционному сценарию.
Эти бурные перемены породили новое поколение женщин, которых общественность демонизировала и окружила многочисленными мифами. Их называли флэпперами 5. Подобно Ардите Фарнэм 6 из ранних рассказов Фицджеральда, девушки-флэпперы стремились к одному: «просто жить так, как нравится тебе, и умереть по-своему». Оседлав изменчивую волну 1920-х, они требовали для себя всего, в чем было отказано их матерям – самим выбирать сексуальных партнеров, зарабатывать на жизнь, стричься, носить короткие юбки и курить на людях.
Старшая из наших героинь – Диана – обрела решимость «жить, как нравится тебе», в тревожное военное время. Война размыла классовые различия, и Диана нашла в себе смелость пойти наперекор семье: сначала записалась в медсестры, потом заявила о желании самой выбирать себе мужа и карьеру. Нэнси тоже воспользовалась смятением военного времени, чтобы заявить о своем бунте, но зашла гораздо дальше Дианы и поддерживала все самое радикальное в образе жизни, искусстве и моде экспериментаторских 1920-х. Тамара, Таллула и Зельда также проделали огромный путь за это десятилетие и воплотили дух девушки-флэппера не только в своей жизни, но и в творчестве: Тамара увековечила ее в картинах, Таллула – в сыгранных театральных ролях, Зельда – в вымышленных героинях Скотта, а впоследствии и в героинях собственных произведений. Однако самый невероятный скачок совершила Жозефина, добившаяся всемирной известности как живое воплощение джаза и безудержной хаотичной энергии 1920-х: она выбилась из нищеты и стала иконой негритянской музыки и модернистского искусства.
Жизни всех шестерых героинь этой книги в 1920-е были насыщены событиями, но им удалось стать символом своей эпохи благодаря смелости, с которой они прокладывали себе дорогу. Молодые женщины того поколения были не первыми в истории, кто стремился вырваться за пределы традиционной женской роли жены и матери, но первыми, кто заявил об этом как о своем законном праве. Судя по тому, как отзывались о флэпперах и как их изображали, многие считали их серьезной угрозой обществу.
В конце девятнадцатого века слово «флэппер» все еще указывало на невинность и обозначало нескладную неоперившуюся девочку-подростка, но уже к концу войны приобрело дополнительную окраску и стало обозначать дерзкую бунтарку. В октябре 1919 года в «Таймс» вышла колонка о новых женщинах-флэпперах, в которой выражалась тревога из-за слишком своенравных настроений, царивших среди молодых британок. Во время войны два миллиона женщин устроились на оплачиваемую работу и, несмотря на давление общественности, требовавшей уступить рабочие места вернувшимся солдатам, увольняться не собирались. В следующем году в той же газете рассуждали на тему целесообразности предоставления права голоса женщинам моложе тридцати; их всех изображали безответственными вертихвостками – «легкомысленная полураздетая девчонка-флэппер, отплясывающая под джаз… для которой танцы, новая шляпка или мужчина на автомобиле важнее судьбы нации». Учитывая, сколько молодых британцев полегло в Первой мировой войне, газеты отчаянно предупреждали о дестабилизирующем влиянии флэпперов на государство, ведь случилось немыслимое: целое поколение незамужних независимых женщин, кажется, решило жить по-своему.
Во Франции женщины добились права голоса только в 1944 году, но это не помешало послевоенному поколению француженок ужасать и тревожить общественность. В 1922 году вышел роман Виктора Маргерита «Холостячка», вызвавший скандал национального масштаба (и проданный тиражом полмиллиона экземпляров). В нем описывались приключения Моники, героини, бросившей никчемного жениха и выбравшей однополую любовь, наркотики и жизнь матери-одиночки.
В начале десятилетия пленительных бунтарок можно было чаще встретить на страницах романов и газет, чем на улицах, но уже через несколько лет флэпперы стали образцом для подражания сотен тысяч обычных молодых женщин. Фицджеральд сатирически описывал этих девушек в образе Кэтрин, одной из второстепенных героинь «Великого Гэтсби»: «Кэтрин… оказалась стройной разбитной дамочкой лет тридцати со стриженными под мальчика рыжими волосами и напудренным до молочной белизны лицом. Брови у нее были начисто выщипаны, а затем заново нарисованы лихим полукругом… Любое ее движение сопровождалось постукиванием и позвякиванием бесчисленных керамических браслетов, болтавшихся на ее руках» 7.
Кэтрин в романе – пустышка, сконструированная из аксессуаров и стиля флэпперов; этим образом Фицджеральд в 1925-м стремился показать, что двигателем главной мечты 1920-х далеко не всегда являлась тяга к свободе; гораздо чаще им становилась экономика и безудержное потребление. В конкурентном климате послевоенного капитализма жаждущие развлечений флэпперы с их крашеными волосами, пухлыми губками и платьями с бахромой представляли огромный рынок сбыта.
За непродолжительным послевоенным спадом число работающих женщин в западных странах резко увеличилось (в отдельных регионах США – на целых 500 процентов). Модная и косметическая индустрии вдруг осознали, что молодые финансово независимые женщины – выгодная целевая аудитория. Их завалили рекламой новых брендов косметики и средств для эпиляции, кремов, суливших волшебное омоложение и содержавших толченый миндаль, сосновую кору, розовое масло и перекись водорода. За продвижение этих средств знаменитостям вроде Жозефины платили кругленькие суммы, а прибыль продавцов была и вовсе баснословной. В 1915 году рекламные затраты косметической индустрии составили 1,5 миллиона долларов; к 1930 году эта сумма увеличилась в десять раз. В 1907 году французский химик Эжен Шуэллер запатентовал новую краску для волос и основал косметическую компанию «Л’Ореаль», впоследствии ставшую одним из самых доходных французских предприятий.
Миллионам обычных женщин вдруг стали твердить, что они достойны быть красивыми, чего прежде не бывало никогда. Рынок наводнили модные диеты и таблетки для похудения; все они сулили узкие бедра и плоскую грудь, как у флэпперов. До войны женщины из уважаемых семей редко курили, но в 1920-е сигареты начали рекламировать как средство для похудения, и продажи подскочили до небес. В 1927 году «Лаки Страйк» запустили рекламную кампанию с актрисой Констанс Толмадж: та позировала с сигаретой в руке. Рекламный слоган гласил: «Возьми сигаретку, а не конфетку»; продажи взлетели на 300 процентов.
Похожий бум переживала индустрия моды. Дизайнеры Коко Шанель и Жан Пату придумали узкие платья-футляры и короткие юбки, а благодаря современным технологиям их разработки стало возможно повторить быстро и дешево. (В 1913 году на пошив платья уходило около 20 квадратных ярдов ткани 8; к 1928 году – уже семь.) Модели, созданные во французском ателье, шли в фабричное производство и продавались в магазинах, универмагах и через почтовые каталоги в Европе и США 9. Первым европейским кутюрье, начавшим производить готовую одежду для отправки в США, стала Мадлен Вионне. Женские журналы и газетные колонки пестрели советами для тех, кто не знал, как носить одежду в новом стиле. В теории все это означало большую свободу для женщин, но на деле гонка за модой породила новые беды. Уже в 1920-м году Фицджеральд описывает страдания одной робкой девушки, которую убедили отрезать длинные волосы, ее единственное украшение 10. А вот пример из реальной жизни: четырнадцатилетняя девочка из Чикаго пыталась отравиться газом, потому что «другие девочки из класса спускали чулки 11, стриглись и называли себя флэпперами», а ей одной родители этого не разрешали.
Некоторые современники считали эту одержимость модой признаком легкомыслия и самовлюбленности. В предисловии к бестселлеру 1923 года «Пылающая юность», опубликованном под псевдонимом Уорнер Фабиан, Сэмюэл Хопкинс Адамс описывал девушку-флэппера как «бойкую и соблазнительную, корыстную, вечно недовольную, несдержанную, немного взбалмошную и очень эгоистичную». Она бездумно тратила деньги на новую пудреницу и бусы и была шокирующе аполитичной. Ее ничуть не интересовала борьба, которая совсем недавно велась ради ее же блага, – борьба за право распоряжаться своими деньгами, голосовать, заниматься традиционно мужскими профессиями, например, юриспруденцией. Даже самой выбирать себе одежду. Десятилетиями представителей британского Общества рациональной одежды 12 и приверженцев эстетических платьев без тесных шнуровок 13 в Европе высмеивали и считали чудаками, но с ними нельзя не согласиться: свобода носить комфортную одежду была едва ли не важнее всеобщего избирательного права. О каком равенстве с мужчинами могла идти речь, пока внутренние органы женщин сдавливал корсет с китовым усом, а свободе движений препятствовали турнюр и многочисленные нижние юбки, зачастую весившие все шесть-семь килограммов?
Флэпперов критиковали за политическую пассивность и эгоистичную поглощенность собственными удовольствиями, но были и те, кто считал их новой и необходимой фазой в развитии феминизма. Избирательное право стало огромным прорывом на пути к эмансипации, но еще большее значение имела внутренняя, эмоциональная эмансипация женщины. Американская писательница Дороти Данбар Бромли восхищалась способностью нового поколения женщин отвергать традиционные женские добродетели – жертвенность и долг. Она считала их принятие «неизбежного внутреннего тяготения к индивидуальному самовыражению» сейсмическим сдвигом в женском сознании.
Лидеры движения за контрацепцию Мэри Стоупс и Маргарет Сэнгер отвоевывали женщинам сексуальную свободу. Тут перемены были медленными: для женщин 1920-х годов добрачный секс по-прежнему не являлся нормой. И все же, если в 1900 году лишь 14 процентов американок признавались в сексуальных связях до брака, в 1925 году их число составляло уже 39 процентов. Прорывом в женской контрацепции стало изобретение «голландского колпачка» 14. Развод постепенно перестал быть социально порицаемым явлением, а прочие аспекты сексуальной жизни женщин, о которых прежде никто не говорил, начали обсуждаться открыто. Мода 1920-х на лесбиянство не отражала общественного мнения эпохи, но свидетельствовала о том, что все больше женщин отваживались открыто заявлять о своих сексуальных предпочтениях. Смелее всех в этом отношении оказалась Мерседес де Акоста, состоявшая в любовной связи с Айседорой Дункан, Гретой Гарбо, Марлен Дитрих и Таллулой Бэнкхед. «Говорите о ней, что хотите, – писала подруга Мерседес Алиса Бабетт Токлас, – но ее любовницами были самые прославленные женщины двадцатого века».
По мнению Дороти Данбар Брумли, флэпперы стали ключевыми фигурами не только феминизма, но и эпохи в целом именно благодаря своей готовности «жить, как нравится». Война обесценила традиционные понятия благочестия, долга и целомудрия. В конце 1923 года Олдос Хаксли писал отцу, что его поколение будто пережило «насильственное разрушение всех стандартов, условностей и ценностей предыдущей эпохи». С одной стороны, подрыв основ морали лишил переживших войну четких принципов и осознания своего места в мире. Потерянное поколение – так охарактеризовала их Гертруда Стайн. С другой стороны, идеологическая невесомость ощущалась как свобода. Молодые почувствовали свое право ей распоряжаться, повернуться спиной к прошлому и сосредоточиться на светлом настоящем.
Настоящее – единственное, что заботило Зельду Фицджеральд, когда в 1920 году она каталась по Пятой авеню на капоте такси. Настоящее и стремление быть непохожей на «маленьких женщин» из родного Монтгомери.
Примерно то же самое испытывала семнадцатилетняя Таллула, расхаживая по Нью-Йорку и представляясь всем лесбиянкой – «а вы чем занимаетесь?»; и Нэнси, которая пила дешевое белое вино из пивных кружек и напрашивалась на скандал, держа под руку чернокожего любовника; и Жозефина, чьи изображения были расклеены по всему Парижу.
Эти женщины жили напоказ и выставляли на всеобщее обозрение многие личные моменты своей жизни. Они добились известности в литературных, художественных и театральных кругах, и все их слова и поступки, все их наряды постоянно освещались в прессе и влияли на обычных женщин. Но какими бы стильными, талантливыми и оригинальными ни были эти шестеро, современному человеку придется заглянуть за блеск и лоск славы, чтобы составить о них верное представление. Мы ощущаем особое родство с этими женщинами, узнавая о том, как они боролись с трудностями и ощущали себя в минуты сомнений. У них не было ролевых моделей; им пришлось дорого заплатить за свою независимость. Они не могли рассчитывать на советы матерей и бабушек, ведь тем не приходилось задаваться вопросом, как совместить сексуальную свободу и любовь, публичный образ и личное счастье. Таллула и Жозефина мечтали о настоящей любви, но раз за разом попадались в сети мошенников и охотников за острыми ощущениями, которых интересовали только их деньги и слава. Нэнси, пытавшаяся жить бесстрашно и открыто, как мужчина, заслужила репутацию нимфоманки. Все шесть пробовали вступить в брак, но лишь Диане удалось уговорить себя на полный набор связанных с замужеством компромиссов. Еще сложнее было с материнством. Семья постоянно обвиняла Тамару Лемпицкую в том, что из-за своей решимости испытать все ради искусства та воспитывала детей неправильно и даже была деструктивной матерью.
Конец 1920-х и начало 1930-х стали переломным периодом в жизни всех шести героинь. Наше повествование заканчивается с началом нового десятилетия, в момент, когда бесшабашный творческий дух 1920-х столкнулся с препятствиями в виде экономического кризиса и радикальных политических течений – коммунизма и фашизма, а на горизонте начали сгущаться тучи новой войны. Эпоха джаза близилась к концу; с ней закончилась и эпоха флэпперов. Некоторые женщины поколения флэпперов остепенились и выбрали традиционные роли; других слишком потрепала жизнь или они просто устали от роли женщины-фейерверка и не могли продолжать в том же духе.
Но, несмотря на свою быстротечность, 1920-е ознаменовали исторический сдвиг для женщин. Многие пытались расширить рамки своей свободы; многие восставали против осуждения и критики. Порой эти женщины вели себя глупо и показушно – Таллула кувыркалась на лондонском тротуаре, а Зельда прыгала в одежде в фонтан; порой их поведение было деструктивным – Нэнси разбивала сердца, а ее сексуальные эксперименты в Париже и Лондоне закончились проблемами со здоровьем. Но в одном этих женщин нельзя упрекнуть – в отсутствии смелости. Пытаясь жить и умирать «по-своему», они стали силой, перевернувшей мир, женщинами опасного поколения, рискнувшими выбрать независимость и насладиться ее дарами.