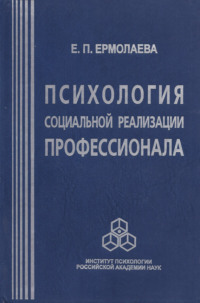Kitabı oxu: «Психология социальной реализации профессионала», səhifə 6
Ниже трехкомпонентная структура профессиональной идентичности представлена в системе двух координат: наличный уровень идентичности и стадия индивидуального профессиогенеза (рисунок 10).

Рис. 10. Трехкомпонентная структура профессиональной идентичности
Удельный вес и своевременность формирования каждого из трех компонентов идентичности в процессе профессионализации оказывают влияние на социальную эффективность и безопасность профессионала.
В результате целенаправленного и контролируемого профессионального обучения складывается только инструментальная идентичность (сплошная лини на рисунке) как некий нормативный «образец» профессионального поведения, т. е. фактически это традиционные знания, умения и навыки. Мы называем такую идентичность «вещью в себе», поскольку это еще не проверенный на практике и достаточно обезличенный потенциал.
Индивидуальная идентичность (штриховая линия) – это уже реализованный потенциал, приобретший индивидуальные черты в зависимости от предыстории выбора профессии, воспитания, индивидуальных и личностных особенностей профессионала и накапливаемого им собственного неповторимого опыта пребывания в профессии. Это уже «вещь для себя», в том смысле, что отражает вполне сформированное самосознание профессионала. Когда профессия преобразуется из «вещи в себе» в «вещь для себя», происходит смена оснований идентификации (эта точка «пик» на пересечении линии инструментальной и индивидуальной идентичности обозначена на рисунке буквой «в»). При этом возможны две противоположные потенциально опасные тенденции. Первая, связанная с недооценкой себя (когда реальное положение человека в профессии уже изменилось, но в его сознании все еще остается по-прежнему), неблагоприятна, прежде всего, для перспективы его профессионального роста. И вторая, связанная с переоценкой себя, когда возникает ложное чувство «власти над профессией», которое может снизить бдительность и стать причиной решений на грани профессионального произвола в социономических профессиях, а в высокотехнологичных и потенциально опасных – спровоцировать аварийные ситуации. Особенно в тех случаях, когда профессия еще не приобрела статуса «вещи для других», т. е. не сформировалась социальная идентичность.
Социальная идентичность (точечная линия) – это наименее контролируемый, спонтанно формируемый компонент профессиональной идентичности, отражающий ценностно-нравственные и морально-этические жизненные установки профессионала. Каковы эти установки, такова будет и основа социального поведения профессионалов.
На рисунке 10 социальная идентичность профессионала изображена в двух (крайних) вариантах: линия «а» отражает реально высокий уровень и субъективно высокий статус социальной идентичности, когда профессионал, принимая социально важные решения, исходит из приоритета их социальных последствий, а не из формальных инструкций или собственных интересов. Линия «б» отражает низкий уровень социальной идентичности, фактически ее отсутствие, так как она практически нигде не превышает линий инструментальной и индивидуальной идентичности. Такой профессионал, принимая решения, на первом этапе профессиогенеза руководствуется преимущественно инструкциями и недавно приобретенными профессиональными знаниями, а социальная идентичность сводится в основном к избеганию санкций со стороны начальства за неправильные действия. На втором этапе, когда он приобрел опыт, научился избегать санкций, и у него сформировалась индивидуальная идентичность, он исходит уже главным образом из соображений индивидуальной целесообразности и собственной выгоды от профессиональных решений и поступков, оставляя их социальные последствия на совести других людей, облеченных властью, или вообще не задумываясь о последствиях. Другие возможные варианты социальной идентичности расположены между этими двумя.
Известные факты снижении социальной безопасности действий опытных профессионалов (см. главу 10) можно объяснить сменой идентичности с нормативной (инструментальной) на креативную (индивидуальную), которая сопровождается состоянием временной внутренней маргинализации профессионала, связанной с переходом к иной форме восприятия себя в профессии и самой профессии как «профессии для себя», но еще на «для других», т. е. здесь еще нет достаточно сформированной социальной идентичности, чтобы стать защитным механизмом от неправильных профессиональных действий. Этот этап несет повышенную опасность для окружающих, особенно если их жизнь или благополучие непосредственно зависят от данного должностного лица. Рисунок 11 иллюстрирует желаемую картину: если бы социальная идентичность формировалась уже на первых этапах профессионального обучения так, как это представлено линией О=А, то она была бы страховкой от ошибок.

Рис. 11. Варианты соотношения компонентов идентичности
Таким образом, использование профессиональной идентичности в качестве инструмента для описания самых разных аспектов взаимосвязей и взаимодействий в системе человек-профессия-общество вполне правомерно, так как в ней уже сфокусированы все эти и другие отношения. Именно поэтому она позволяет строить редуцированные модели, содержащие квинтэссенцию этих связей и рассматривать их как кирпичики более общих моделей, т. е. позволяет оторваться от конкретики данного узкого социума, чтобы определить общие тенденции и зависимости на других, более высоких уровнях отношений: между разными эпохами, экономическими системами, культурами.
Если в известных до сих пор исследованиях оценки типов профессионалов проводились отдельно: либо с позиции соответствия субъекта и деятельности (профпригодность – в психологии труда), либо с позиции его Я-концепции (в исследованиях личности и в психоанализе), то здесь эти два аспекта объединены и добавлен еще один аспект – аспект социальной идентичности (как в парадигме соответствия, так и в парадигме самоидентификации).
В понимании идентичности как соответствия отражена та или иная степень реального обладания сбалансированным набором признаков соответствия профессионала в системе отношений с самим собой, с инструментарием профессии и с социальными функциями профессии. Здесь акцент делается на: а) элементе долженствования, б) объективном характере идентичности. Согласно терминологии Маслоу, это актуализированная личность, по моей – сбалансированная личность. Неидентичный профессионал – имеет перекос в сторону одних признаков в ущерб другим, т. е. является несбалансированной личностью. По терминологии Леонгарда, это акцентуированная личность.
В понимании идентичности как Я-концепции отсутствуют элементы объективности и долженствования, но зато хорошо выражен субъективный план: субъект и его самооценки и самоопределение по отношению к субъективно же выбранным (для позиционирования себя) признакам профессии.
Идентичный профессионал в предлагаемой здесь трактовке – это сочетание самоактуализированной личности (обладающей внутренней индивидуальной профессиональной идентичностью) с социальной и инструментальной идентичностью, выводящее ценностные механизмы идентификации за пределы конкретной личности, – в социум и в специфику профессии. Т. е. идентичный профессионал – это индивидуально (внутренне) идентичный + социально (внешне) идентичный + инструментально (операционально-деятельностно) идентичный профессионал.
Это позволило разработать классификацию профессионалов в пространстве двух (независимых) измерений идентичности: как соответствия и как самоидентификации.
По степени соответствия субъекта и деятельности в профессии выделяются:
А тождественный;
Б взаимнооднозначно соответствующий;
В профпригодный (удовлетворительное соответствие запросам потребителей);
Г ментально профнепригодный (на рабочем месте);
Д социально профнепригодный (на рабочем месте);
Е инструментально профнепригодный (на рабочем месте);
Ж профнепригодный (ушедший из профессии).
По уровню самоидентификации личности с профессией выделяются:
1 Идентичный профессионал – это личностно-ментальное отождествление себя с профессией как сферой реализации своей жизненной миссии на основе понимания социальной функции профессии как собственной судьбы.
2 Конформист – идентификация с данной профессиональной структурой, выполняемыми в ней функциями и своей профессиональной ролью.
3 Трудоголик – идентификация с содержательной и идейной направленностью своего труда как сферы самоутверждения или психологической компенсации других, нереализованных сфер самореализации личности.
4 Прагматик – идентификация с профессией как целесообразной сферой приложения своих способностей и усилий для выполнения профессиональных функций с целью обеспечить карьерный рост и материальное благосостояние.
5 Ортодокс – профессионал с ограниченным запасом вариативности, остановившийся на стадии владения профессией в пределах четко обозначенных должностных обязанностей и в рамках жесткой структуры руководства-подчинения.
6 Действующий маргинал – идентификация, основанная на специфических функциях профессии, позволяющих использовать свои профессиональные знания и должность для собственных целей в ущерб или в противоположность прямому социальному назначению профессии.
7 Маргинал – не сформировавший или утративший ментальную профессиональную идентичность и покинувший профессию.
Если эти два измерения представить в единой системе координат, то получится пространство профессиональных типов (см. рисунок 12).
Эти основания для классификации – независимые характеристики, так как профессионал с идентичной Я-концепцией может полностью соответствовать требованиям профессии (1Б) и социума (1В), но может быть и инструментально или социально профнепригодным в профессии (1Е, 1Д). И, наоборот, объективно соответствующий всем требованиям деятельности профессионал может обладать Я-концепцией ортодокаса (А5), прагматика (А4) или конформиста (А2).
Единственное, чего не может быть, – это сочетания крайних противоположных позиций: маргинал не может быть тождественным или полностью соответствующим деятельности профессионалом, а социальная профнепригодность несовместима с идентичной Я-концепцией, хотя, например, инструментальная профнепригодность может сочетаться с субъективно идентичной профессиональной Я-концепцией, но весьма условно: лишь при крайне нетребовательных потребителях профессиональных услуг.

Рис. 12. Пространство профессиональных типов
На схеме II и IV квадранты отражают внутренне непротиворечивые реальные типы профессионалов: квадрант II – успешно функционирующих в профессии, квадрант IV – отвергающих профессию; I и III квадранты включают профессионалов с разными типами внутренних конфликтов между самоидентификацией и реальным профессиональным соответствием, часть из которых может относиться к еще действующим профессионалам, часть отражает маловероятные в реальности типы (1Ж, 7А). Звездочками представлены наиболее типичные сочетания признаков.
В заключение приведем позиции для оценки идентичности.
Профессиональная идентичность имеет три измерения:
• инструментальное (по критерию владения субъектом операциями, навыками, знаниями);
• ментальное (по критерию психологического принятия субъектом правовых и ценностно-нравственных норм и адекватности личности этим нормам);
• социальное (по критерию социальной адекватности профессиональных поступков).
Совпадение их трактуется как профессиональная идентичность, расхождение (полное или частичное) – как маргинализм (та или иная его разновидность).
Параметры сформированности профессиональной идентичности:
• универсальность в рамках профессии (узкая-широкая);
• стадия ментализации (или степень перехода в менталитет);
• самореализация: как профессионала, как личности, как члена общества;
• степень ориентации на мировой уровень (соответствие общецивилизационным критериям профессионализма);
• соответствие социальным запросам в данной среде (ориентация на региональный уровень профессионализма);
• культурологический аспект профессиональной идентичности;
• морально-нравственный аспект;
• коммерческий потенциал профессии.
Шкалы исследования профессиональной идентичности по биполярным признакам:
• внешняя-внутренняя;
• нормативная-креативная;
• узкая-широкая;
• жесткая-гибкая;
• когнитивная-эмотивная;
• индифферентная-значимая;
• консолидированная-размытая;
• обособленная-космополитическая.
Релевантные для проявления идентичности признаки социальной профессиональной среды:
• операциональность (реальность, инструментальность отношений человека и объекта труда);
• информационность (формальность, виртуальность отношений человека и объекта труда);
• продуктивность (получение продукта в системе отношений человек-объект труда);
• субъектность, интерактивность (в системе отношений человек-человек);
• корпоративность, социальность (в системе отношений человек-общество);
• конфликтность (противоречие интересов в рамках профессиональной структуры);
• опасность (физическая, биологическая вредность, социальная опасность).
Профессиональная идентичность – центральное звено реализации профессионала.
• Ее наличие, уровень сформированности и адекватность являются условием реализации.
• Она выступает индикатором и регулятором во взаимоотношениях профессионала с его профессией, обществом и самим собой.
• Ее преобразование становится необходимым механизмом адаптации профессионала к изменениям социально-профессионалльного пространства и совладания с неблагоприятными обстоятельствами.
• Она выступает как посредник в других механизмах реализации человека и регуляции профессиональных отношений.
• Ее парадоксальные формы, такие, как действующий профессиональный маргинализм, становятся особой стратегией реализации профессионалов в ситуациях, неподдающихся механизмам адаптации и совладания.
Глава 5
Стратегии реализации профессионалов разных типов при нарушении связей в системе человек-профессия-общество
Несбалансированные социально-экономические воздействия разрушают сложившуюся определенность в понимании функций профессии. В результате у субъекта, общества и профессионального сообщества формируются разные модели профессии (рисунок 13). Как уже было сказано, мы назвали их индивидуальной, социальной и инструментальной моделями. Напомним, что инструментальная модель отражает профессию как «вещь в себе», т. е. должностные инструкции, перечень функций, нормы, принятые в данном профессиональном сообществе (формальные и неформальные), санкции за невыполнение функций. Социальная модель отражает профессию с точки зрения той услуги, которую она оказывает обществу. В этом смысле она «вещь для других». Индивидуальная модель отражает то, чем является профессия для самого человека, это как бы «вещь для себя». Она включает субъективную интерпретацию инструментальной и социальной моделей. Кроме того, в нее включена субъективная значимость профессии как средства самореализации, заработка, самоуважения, социального признания и т. д.

Рис. 13. Нарушение связей в системе ЧПО
Взаимное соответствие моделей означает профессиональную идентичность, несоответствие – маргинализм. Социально неадекватные профессиональные действия (СНПД) рассматриваются как индикатор степени рассогласования моделей и того места в системе «человек-профессия-общество», где произошел разрыв связей: «человек-общество», «человек-профессия» или «общество-профессия».
Рассогласование между ними может принимать вид расхождения смыслообразующих целей профессии или различной трактовки профессиональных функций и иерархии их значимости. Возможно также несовпадение по фазам качественных изменений в каждой из моделей и неодинаковая скорость их преобразования под влиянием инновационных процессов. Профессионал как «ядро» системы ЧПО выступает одновременно в двух ипостасях: объекта воздействия других компонентов системы (конечное звено, аккумулирующее их влияния) и субъекта, преобразующего эти влияния в конкретные поступки или ошибки и делающий их достоянием социума уже в новом качестве.
Сравнительный анализ типичных случаев, отражающих разные уровни нарушений в системе человек – профессия – общество, позволил выделить следующие, наиболее общие формы и механизмы дисбаланса. Они представлены в таблице 1.
Личностно-профессиональный дисбаланс возникает при нарушении связей человек-профессия. Индивидуальная модель профессии перестает соответствовать инструментально-функциональной в результате инверсии субъективного смысла профессии.
Первый источник инверсии – сложившаяся система функционирования некоторых профессий в обществе. Сдвиг субъективного смысла в них уже изначально заложен в установках корпоративной приверженности. Прежде всего это относится к «закрытым» профессиям, судебной системе, органам правопорядка, медицине.
Второй личностный источник инверсии – иное мировоззрение: нередко ученый считает себя «коммерсантом по натуре», судья – чиновником, а чиновник – не слугой народа, а буфером между народом и властью.
Инверсия субъективного смысла профессии путем многократного отражения в типовых профессиональных ошибках переходит в массовое сознание и провоцирует снижение социально приемлемого уровня профессионализма.
Индивидуально-социальный дисбаланс возникает при нарушении связей «человек – общество» в результате социально-личностного разрыва профессиональной роли, когда личностная значимость труда отделяется от его социальной функции.
Таблица 1
Уровни, формы и механизмы дисбаланса

Типичным для такого дисбаланса является несоответствие высокой психологической сложности, моральной нагрузки и юридической ответственности профессии в индивидуальной модели (например, ученого, учителя, врача) низкому статусу этих же качеств и уровню вознаграждения в социальной модели, т. е. в оценке обществом их роли.
Второй механизм представлен парадоксальной закономерностью: чем более рациональной становится профессия по форме, методам и декларируемой функции, тем более отдаляется она от потребностей общества по своей внутренней сути и в сознании профессионала (т. е. тем более иррациональна ее социальная функция). Иными словами, намечается тенденция нарастающего противоречия между значением и смыслом профессии в современном мире.
Третий механизм – смещение целевой функции профессии с социально востребованной на индивидуально-корпоративную. Например, в сфере науки встречный процесс «коммерциализации» и «люмпенизации» – приводит к тому, что снижается порог моральных запретов на внедрение недостаточно проверенных результатов.
Показателен также исторический опыт порождения соцально опасных научных и профессиональных решений как следствие абсолютизации социального заказа. В эпоху сталинских репрессий было реализовано наибольшее число экологически вредных проектов и сделано множество потенциально опасных открытий. Даже когда работа велась над проектами, в очевидности негуманного применения которых не могло быть сомнения, совесть некоторых ученых убаюкивалась тем, что стратегические решения принимают не они, а другие лица – наверху.
В естественных науках достаточно распространены открытия, к которым приводит гипертрофия научной идеи при отсутствии надежных механизмов прогнозирования последствий внедрения открытий и наличии субъективно безнравственной позиции ученого. Наиболее серьезные по социальным последствиям идеи отражают в гипертрофированном виде «научно-технические знаки прогресса», неизменно выступая как «панацея» (например, генная трансформация биологических видов, клонирование) или «вечный двигатель» (ядерная энергетика, приводящая к катастрофам типа Чернобыля).
В гуманитарных и социальных науках смещение целевой функции часто приобретает характер манипулирования аргументацией и статистикой в политических или коммерческих целях (Россия накануне XXI века, 1995). Стратегическая социально-неадекватная профессиональная позиция некоторых работающих в области социальных наук ученых состоит в том, что критика действительных недостатков сегодняшнего дня обращена не в завтрашний, а во вчерашний день.
Социально-профессиональный дисбаланс возникает при нарушении связей профессия-общество, когда социальная модель профессии перестает совпадать с ее социальным предназначением. Психологический механизм такого нарушения – инверсия социального смысла профессии.
Наиболее часто в основе инверсии социального смысла лежит оправдание объективно неадекватного профессионального поступка прагматической мотивировкой, например, низкой зарплатой. Поэтому нарушение должностных обязанностей или взятки некоторые профессионалы (а иногда и их клиенты) расценивают как вынужденное обстоятельствами рациональное поведение.
Социальный смысл профессии меняется также в результате наслоения групповых, национальных и бытовых установок на профессиональную деятельность.
В последнее время все более заметна прагматическая тенденция перехода от декларативно-безусловного выполнения профессиональных обязанностей к выполнению, обусловленному субъективным пониманием личной выгоды, безопасности, самозатрат, вознаграждения. Социально допустимым стало опосредование выполнения долга даже в жизненно важных профессиях мотивами, прямого отношения к профессиональной деятельности не имеющими, например, использование несовершенства законодательства как повода для отказа в медицинской или юридической помощи.
Оценочно-регуляторный дисбаланс возникает в результате нарушения координирующей функции профессионала как «ядра» системы человек-профессия-общество.
Первый механизм данного нарушения – неадекватная оценка профессионалом относительного значения субъективных, социальных и инструментально-функциональных аспектов проблемной ситуации при принятии решений. Типичными, например, являются недоучет человеческого фактора и социальных последствий принимаемых решений и переоценка роли технологий.
Второй механизм – неадекватная оценка профессионалом самого себя. Наиболее типичны феномены недооценки или переоценки себя, а также своей роли в социуме.
Неадекватные самооценки связаны с психологическим типом субъектности. В системе координат активность/пассивность и вера/знание мы выделили два противоположных типа: субъект «пассивной веры» и субъект «активного знания»; в любых условиях они склонны выбирать только характерные для них способ, стиль, стратегии поведения.
Субъект первого типа стремится в своих действиях исходить из нормативной идеи: инструкций, указаний руководства, традиций, общепринятых норм поведения, он всегда зависит от других или иным образом «социально включен», склонен к шаблонным решениям на фоне социально-вынужденной беспомощности. Ко второму типу мы относим профессионала, самостоятельно принимающего решения, исходя из собственного понимания ситуации. Он активен, социально независим, стремится действовать с социумом «на равных».
«Сбои» регулирующей функции этих двух типов субъектов возникают в первом случае от комплекса неполноценности в форме отказа от власти, во втором – от комплекса превосходства в форме превышения полномочий, как придания своей профессиональной роли большего статуса, чем ее социальное назначение.
Регуляторный дисбаланс может быть следствием не только неверной оценки текущего состояния и неадекватного прогноза дальнейшего развития социальной роли профессии, но и стремления оправдать ожидания общества, которые, как правило, влияют на прогноз и искажают реально действующие тенденции в науке, технике, социальных процессах. Общество как бы подталкивает профессионала (например, ученого) к совершению тех или иных действий.
Системный дисбаланс – результат нарушения системных связей «человек-профессия-общество».
Его основной механизм – психологическая проекция на систему ЧПО неадекватных внешних систем: социальных, технических, политических, экономических.
Часть профессиональных поступков непосредственно отражает техническую, функциональную или объектную специфику сфер профессионального труда. Например, для капитанов, летчиков, операторов АЭС типичны ошибки из-за снижения бдительности как следствия предшествующего безаварийного опыта. Врачебные ошибки могут зависеть от социальной модели «лекаря» в культуре данного общества, установок и традиций во взглядах на жизнь и смерть, социальных гарантий, состояния клиник и оборудования.
Сложившееся в массовом сознании превалирование одной из систем социальных представлений (например, о «кормлении чиновников на местах» или «неготовности людей к демократии») уже само по себе создает фоновый уровень предрасположенности к определенным поступкам в профессиональной сфере. Еще более велико их влияние, когда они выступают в виде прямых или программных руководств к действию со стороны вышестоящих органов.
Основой системного дисбаланса могут стать и неадекватные внутрипрофессиональные представления о взаимосвязях в системе человек-профессия-общество, которые возникают в результате переноса простого объяснения на сложные явления, изоляционизма профессионалов в отношении реальной ситуации и других сфер бытия, политизации неполитических по природе явлений, инерции мышления, заимствования установок и представлений из прошлого и экстраполяции их в будущее.
Формы реагирования профессионалов в ситуациях дисбаланса
Нарушение согласованности в системе ЧПО действует на профессионала по-разному: оно может привести к самомобилизации и стимулировать позитивную перестройку субъекта труда и трудовых функций: тогда оно выступит как фактор развития. Как фактор опасности может побуждать к социальной защите. Как фактор «враждебной среды» вызывает со стороны субъекта активное сопротивление. И наконец, оно может проявляться в виде фактора подавления личности и деградации профессионала (рисунок 14).
Показательным в этом отношении является неоднозначное воздействие глобализации. С одной стороны, унификация профессиональной ментальности, сознания, ценностей приводит к обеднению профессиональной культуры, к нивелированию национальных особенностей труда и творчества. Вместе с тем универсализация может выступать условием повышения уровня взаимопонимания, создания единого профессионального языка, формирования профессионального самосознания, соотносимого с общецивилизационными критериями.

Рис. 14. Формы реагирования субъекта на ситуацию дисбаланса
Способность профессионала быть интегрированным в систему глобальных ценностей зависит от социального масштаба и степени субъектности принимаемых им решений, адаптационного потенциала профессии и индивидуально-психологической готовности к участию в глобализационных процессах.
Негативные психологические последствия разнонаправленных глобализационных воздействий на профессионала сопровождаются нарастанием неопределенности в ценностных ориентациях личности и снижением уровня социальной и профессиональной компетентности общества в целом. Популярные в массовом сознании ориентиры на западный уровень и образ жизни, не подкрепленные соответствующими ценностными ориентациями на мировые образцы в сфере профессионального труда и условиями для их реализации в нашей стране, вызывают диссонанс разных срезов сознания профессионала и служат питательной средой для укоренения идеологии антиглобализма, антирыночных настроений, особенно популярных среди представителей «отмирающих» профессий.
В условиях, когда изменения в обществе значительно опережают изменения в сознании людей, нарастают иррациональные тенденции в сознании, мировоззрении, поведении профессионалов. Критерии выбора антикризисных стратегий становятся нечеткими, а иерархическая структура ценностных ориентаций – размытой. Неизменными остаются только самые базовые характеристики профессионала как субъекта и как личности.
Поэтому стратегии реагирования профессионала на негативные воздействия мы расположили в системе двух координат. Первая, социально-личностная, связана с принципиальными различиями в ценностно-нравственных ориентациях. Личности с позитивной доминантной выбирают одну из конструктивных стратегий профессионального поведения (социально-адаптивную, индивидуальноадекватную или функционально-преобразующую), это позволяет по-разному решить проблему профессиональной модификации при сохранении идентичности. Носители негативной ценностно-нравственной доминанты выбирают деструктивную позицию и отказ от социально-профессиональной идентичности.
Вторая координата, социально-субъектная, характеризует ведущую тенденцию реагирования на ситуацию: уход, защита, адаптация, сопротивление, деформация, преобразование. Их выбор обусловлен социальной автономностью либо зависимостью, степенью активности, локусом контроля, а также тем, является ли профессия для человека средством самореализации, самоутверждения, выживания или привычкой, видом заработка, способом «убить время».
В этой системе координат я выделяю семь типичных стратегий:
1) ригидно-рациональная – конформистское, бесконфликтное следование ведущей социально навязанной тенденции;
2) прагматическая, отражающая просчитанный минимум ущерба и максимум выгоды;
3) творчески-рациональная, оптимизирующая ситуацию путем «творческого разрушения собственных стереотипов»;
4) творчески-иррациональная нацелена на сохранение ценностных ориентаций в самых неблагоприятных условиях;
5) ригидно-иррациональная, оставляющая профессионала в плену прежних стереотипов;
6) агрессивно-рациональная, направленная на устранение факторов среды, не отвечающих персональной модели «должного»;
7) агрессивно-иррациональная – активное сопротивление любым, даже очевидно позитивным нововведениям.
В различных сочетаниях с ведущим принципом реагирования указанные стратегии могут стать оптимизирующей основой для формирования конкретных путей выхода из кризиса у профессионалов разных идентификационных типов. Таблица 2 представляет основную стратегию поведения, ведущий принцип реагирования и выход из ситуации для конформиста, прагматика, маргинала, действующего маргинала, ортодокса, трудоголика и идентичного профессионала.
Таблица 2
Оптимизирующие стратегии поведения профессионалов разных типов

Например, к сохранению статуса при неблагоприятных изменениях профессиональной среды стремятся не только идентичные профессионалы, но и конформисты, а также часть профессиональных маргиналов, привыкших использовать свое служебное положение в личных целях. Однако достигают они этого разными путями. Если идентичный профессионал старается нейтрализовать негативные изменения путем творческого поиска новых приложений своей профессии и рационального преобразования себя, а конформист просто пытается приспособиться, то маргинал разрушает профессиональную среду изнутри и замещает социально-полезную функцию профессии на социально опасную, «подгоняя» профессию «под себя».
Pulsuz fraqment bitdi.