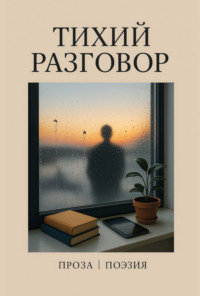Kitabı oxu: «Тихий разговор»
© Издательство «Четыре», 2025
Ирина Авраменко
Бабье лето
На паутинке бабье лето
Раскачивает тишина.
Душа бессовестно раздета,
Ей снится поздняя весна.
Горчит разлукой воздух свежий,
В ночи теряется ответ.
И вызывающе небрежен
Луны неровный силуэт.
Душа ранимая поэта
Сдалась природе без борьбы.
Застенчивое бабье лето
Смеётся в зеркале судьбы.
Свет моей звезды
Исчёркан жизни лист
Поправками событий,
Мгновеньями любви,
Круговоротом дней.
Не повторить «на бис»
Мелодию открытий.
У счастья странный вид,
А верить всё больней.
Дописана строка,
И выпито молчанье.
Скучают города,
В которых меня нет.
Но я живу, пока
В огромном мирозданье
Зелёная звезда
Мне дарит ясный свет…
Наизнанку
Душу вывернул наизнанку
Твой загадочный саксофон.
К чаю – бублики да баранки,
В чашке – с мятой осенний сон.
Гости будут зевать от скуки
И поглядывать на часы.
Станешь жать приветливо руки,
Усмехаясь в свои усы.
Тишина захлебнётся звуком,
И зажжётся фонарь луны.
Осень молча войдёт, без стука,
Не признает своей вины
Ни в дождях, серебристых бусах,
Ни в ветрах, сводящих с ума.
Только будет безумно грустно,
Что наступит скоро зима…
Лунные капли
Утончённая роль в спектакле,
Фразы вышиты по канве.
Не роса, а лунные капли
Светом матовым на траве.
Словно бусины ожерелья
Уронила луна в мой сад.
Я ещё почему-то верю
Снам, разбросанным наугад.
Жаль, дороги не бесконечны,
И порой не найти ответ.
И не спится луне беспечной,
Растерявшей по каплям свет…

Любовь
Любовь вспорхнула с ладони,
Как ветреный мотылёк.
Но я почему-то помню
И скошенный потолок,
И печку за занавеской,
И масляные блины,
И бусы на тонкой леске,
Цветные, как в детстве сны.
Я помню, какого цвета
Сияла блузка на мне,
Раскрытый томик поэта
И в миске белый ранет.
Но чётче всего я помню,
Как вздрогнула тишина.
Любовь вспорхнула с ладони,
Чтоб вылететь из окна…
Пробую на вкус…
Я пробую на вкус холодную печаль,
Пытаюсь прочитать невидимые сны.
Растаял быстрый день, и на твоих плечах —
Песчинками любовь и капли тишины.
Гудками пустоту терзает телефон,
А в воздухе тоска и запах миндаля.
И музыку не ту заводит патефон,
И в сторону не ту вращается Земля…
Наталья Бабочкина
Ангел-хранитель
Чем дольше лет раскручиваем нить,
нам хочется былое оценить.
Однажды человеку снится сон.
По берегу песчаному шёл он.
С ним Ангел, коего послал нам Бог
на каждой из нам выпавших дорог.
Мелькнут картины жизни, а потом
следов две пары на песке сыром.
Одни – его, другие – от того,
кто все года́ оберегал его.
Последняя картина пронеслась,
и ужасом душа вдруг обожглась —
остались на песке одни следы.
Таких плохих времен не вспомнишь ты…
«Не ты ли обещал меня хранить,
от бед и от несчастий сторонить?
Но в трудный час, уж объясни мне ты,
я вижу на песке одни следы…
Так, значит, ты оставил в трудный час,
хотя помочь мне мог и в этот раз?
Бросал меня, когда пришла беда?» —
«Нет, на руках я нёс тебя тогда…»
Сердце, Время и Память
В Сердце я приоткрыла дверцу.
Натоптали. И грязь по углам…
«Ах, как больно! – сказало мне Сердце. —
Но надежд никому не отдам…»
Все обиды – нелёгкое бремя.
Старят боли, и горечь, и гнев…
«Всё забудешь!» – утешило Время,
как забыть, подсказать не сумев…
Не дай Бог забывать и прощаться,
и грустить без надежд на ответ!..
«Буду я иногда возвращаться!» —
прошептала мне Память вослед…
Оба правы
Два дома рядышком стоят,
в окошки трепетно глядят.
В одном покой и тишина,
в другом извечная война.
Всё время ссоры, долгий спор,
упрёков тяжкий приговор.
Жена однажды говорит:
«Там вечно тишина царит.
Пойди послушай, что не так».
И муж отправился, чудак.
Он под окошко робко встал
и жизнь в том доме наблюдал.
Жена готовит за окном,
муж что-то пишет за столом.
Внезапно телефон звонит,
и в коридор тот муж бежит,
в прихожей вазу зацепил
и, торопясь, её разбил.
Он на колени разом пал
и там осколки собирал.
Жена из кухни подошла
и с ним осколки собрала.
Муж говорит ей: «Извини,
спешил, задел, не сохранил».
На что ему в ответ жена:
«Нет, виновата я сама.
Её поставила, прости,
случайно на твоём пути».
Собрав осколки, обнялись,
поцеловались, разошлись…
И снова каждый при своём,
и тишиной объят их дом…
Вернулся муж домой. «Секрет
узнал заветный или нет?»
И отвечает муж: «Увы,
с тобою мы всегда правы́.
Тем отличается тот дом,
что оба виноваты в нём…»
То, чем ты богат
Рядом с новым домом был красивый сад.
Возле домик старый. Ничему не рад,
жил сосед там вредный, завистью болел,
гадости всем делал, а себя жалел.
В сад красивый вышел человек гулять.
Месяц уж над крышей. На крылечко глядь —
там ведро помоев, что сосед принёс.
И обидно стало вдруг ему до слёз.
Что ж тому неймётся? Он ведро помыл,
яблоки насыпал, на крыльцо сложил.
Постучался в двери. «Я его достал», —
враз сосед подумал, пока открывал…
«Разве ты не видел то, что я принёс?» —
задаёт сосед единственный вопрос.
Тот вдруг улыбнулся, словно встрече рад:
«Каждый ведь приносит то, чем он богат!»
Золотой запас
Да, всё по-разному у нас.
То горевать, то праздновать…
Душа – как золотой запас.
Вот только пробы разные.
Ты на сомненья не греши.
Надежда не изменится…
Вот только широта души
добром извечно ценится…
Чем дорожишь ты, кроме слов,
и сколько делал гадостей,
и чем пожертвовать готов,
чтоб людям стало радостней…
Ты о прошедшем не жалей.
Оно судьбой оправдано.
…Чем выше проба, тем светлей
душа, что Богом дадена…
Два яблока
Два яблока у девочки в руках.
Но входит мама, просит поделиться.
И вот, покуда выбор будет длиться,
надкусывает дочка их слегка,
два яблока держа, не видя мать,
что с горестью теперь в глаза глядит ей,
готова упрекнуть её сердито.
Но девочка спешит ей отвечать:
«Вот это, повкусней, тебе отдам…»
…О, как же часто мы с тобою судим,
готовы укорить поспешно! Люди
ведь думали, как лучше сделать нам…
Остаётся одна доброта
Мы с тобой как пришли, так уйдём.
Не возьмем мы ни деньги, ни дом,
ни сокровища и ни родных.
Мы предстанем пред Богом без них.

Ни любимых занятий итог,
ни сплетение трудных дорог,
ни награды свои, ни грехи…
Пусть останутся людям стихи.
Пусть растает как дым суета…
Что ж останется? Лишь доброта….
Добрым словом помянут, даст Бог.
Значит, век был твой добр и неплох…
Татьяна Бадакова
Я помню
Говорила ээджа1 в тишине,
Жизнь, как чётки, вновь перебирая.
Год за годом проходили перед ней,
Отсветом лампады освещаясь.
Говорила ээджа: «Не ленись,
Будет лёгкою твоя походка.
Солнцу утреннему улыбнись,
И добром откликнется природа».
Говорила ээджа: «Не спеши,
Будут правильными твои мысли.
Делу, созданному от души,
Рады все, кто далёки и близки».

Говорила ээджа: «Не грусти,
Унынию нет места в доме.
Оглянись вокруг и окажи
Помощь, кто в беде, устал иль болен».
Говорила ээджа, ненароком
Внученьку с любовью обнимая.
Вечер тот из дальнего далёка
Помню, моя ээджа. Я стараюсь.
Ангел
Ангел мой,
крылья твои у меня за спиной.
Образ твой
светит в ночи путеводной звездой.
Ангел мой,
защищённой тропой иду за тобой.
Голос твой
мне прошепчет нежно ветер степной.
Лёгкой грустью уплывут в синеву облака,
смоет дождь ноября пыль тревог и потерь.
А вдали серебрится забвенья река.
И плутает беда, не найдёт мою дверь.
Звёздным небом укроется древний бархан,
щедрым солнечным светом наполнится день,
добрым слогом рождённого сердцем стиха,
звонким смехом внучат и старинных друзей.
Ангел мой,
обращаюсь к тебе: «Будь со мной!»
Образ твой
в сердце нежно храню. Навек дорогой…
Знаешь,
я живу на Земле, всё живое любя.
Веришь?
Счастья большего нет под крылом у тебя.
Разговор в полнолуние
Полная луна – любимица поэтов…
(из интернета)
С тобой сегодня можно поговорить.
Прошепчу тебе нежное: «Здравствуй…»
Улыбку-загадку прошу подарить.
Пятнадцать тебе. Мадонна. Царствуй!
Представишь? И мне ведь было пятнадцать —
несмышлёная восьмиклассница.
Казалось, мир станет вдруг подчиняться
причудам дерзким, уму неподвластным.
Скажи-ка мне, Светило неземное,
легко ль в твоём мире иллюзий и снов?
Вокруг лишь мечтатели и герои
мифических романов и кино?
Грустить не стоит, небесная Джоконда:
миллионы влюблённых немало лет
от Владивостока и до Лондона
свидания ждут с тобой на Земле.
Спасение
Ночь – хозяйка тьмы, чернее чёрта.
Дождь барабанной дробью мне в окно.
Сможет ли на этом свете кто-то
мне помочь и быть со мною заодно?
Ненастью в унисон сомнений сонм
и грустных мыслей долгий хоровод.
А в жарком споре молний и грома
безоблачным бывает небосвод?
Душа моя, ты – запоздалый путник,
сквозь мрак и недоверие иди.
Свети, судьбой зажжённый лучик,
всем непогодам и невзгодам вопреки.
Мгла ушла. Вместе с ней и печали.
Зонтик неба, словно букет весенний.
Спасибо, ночь, мы с тобой встречали
день апрельский как моё спасенье.
Мгновенье
Шагами измеряю время.
Пространство разделяю на часы.
Не поддаются лишь мгновенья,
и мысли мчат сквозь сны и миражи.
Порой, я – Мысль, виртуальность,
дано мне в бесконечности лететь.
Но я – и Тело, я – реальность,
мне притяжение – земная твердь.
Живу в сплошном круговороте
раздумий, звёзд и мирозданий.
В потоке солнечном на взлёте
мелькнёт песчинка утром ранним.
Запечатлеть её движенье —
какое счастье! Мир, остановись!
Мой стих рождается… Мгновенье —
«Я-Тело» и «Я-Мысль» вновь слились.
Элиста
Засыпает моя Элиста.
Безмятежную дарят радость
Бульваров ночных красота,
Газонов цветущая сладость.
С тишиною в обнимку пройти
Золотыми Воротами, веря:
Колокольчик исполнит мечты,
Приоткроются к счастью двери.
Алтын Гасын2 привечает взором,
Серебристым бликом мерцая.
Посланием неба тебя, мой город,
Цаган Аава3 благословляет.
Снов волшебных вам, элистинцы,
Да исполнятся добрые думы!
Свет любви засияет на лицах
Отражением лика Будды.
Засыпает моя Элиста…
До чего безмятежная благость!
Есть на свете и краше места,
Но отрады иной мне не надо.
Без названия
Жить между молотом и наковальней:
я – пружина.
Быть слабой женщиной с волей мужчины —
значит, двужильна.
Слыть гармоничной под кожей змеиной:
метаморфозы.
Верить в чудесное и знать реальность:
я – философ?
Лариса Башкирцева
Тихие бухты
Тишина – это нечто большее, чем просто пауза; это то волшебное место, где пространство очищается, время останавливается, а горизонт расширяется.
(Пико Айер)
Лето – прекрасная романтическая пора, когда наступают отпуска, приходит, наконец, долгожданный отдых. И после трудовых будней – или во время принятия какого-то важного решения – желание побыть в тишине, уединении хотя бы раз в жизни испытывал любой человек. И это абсолютно нормально. А осознанное уединение и общение с самим собой – или с самым близким, задушевным человеком – нам всем просто необходимо для душевного здоровья.
Только слушая тишину, можно услышать себя, а мгновения тишины помогут перезагрузиться.
На Крайнем Севере, где я родилась и живу, среди «белого безмолвия» и арктического величия, у острова Гукера, есть бухта Тихая.
Название этой бухте в южной части архипелага Земля Франца-Иосифа дал в 1913 году руководитель первой русской полярной экспедиции на Северный полюс на судне «Св. мученик Фока» (1913–1914) – старший лейтенант Георгий Седов. Это место несёт в себе отголосок истории романтической любви самого Георгия Седова. Штурман дальнего плавания дослужился до поручика. Потом была гидрографическая экспедиция по Северному Ледовитому океану. На холодном небе, полном безмолвно сияющих звёзд, Георгий всегда находил ту, которая мерцала ярче других и излучала тепло. Глядя на эту звёздочку над океаном, он видел отражение блеска самых любимых глаз, полных тихой нежности и тепла. Имя этой звезды – Вера… Она ждала Георгия Яковлевича дома. Любящая супруга и племянница генерала В. З. Май-Маевского – Вера Валериановна Май-Маевская. Именно ей с таким прекрасным именем довелось стать добрым гением известного исследователя.
Вера знала три иностранных языка и лично убирала кабинет мужа, провожала супруга в опасное путешествие. Они полюбили друг друга с первого взгляда, венчание проходило в Адмиралтейском соборе Петербурга. Но остались вечными молодожёнами: Седов покорил Веру, но так и не смог покорить Север – он погиб через два года после свадьбы. С любимым до конца была выбранная лично Верой для мужа собака Фрам, которая никогда его не покидала. Именно Фрам остался на Земле Франца-Иосифа навсегда со своим хозяином. Ещё один пример тихой верности, увековеченный поэтом Н. Заболоцким. Георгий Яковлевич очень любил жену, назвал в её честь бухту и ледник на побережье Новой Земли.
В честь любимой женщины на Новой Земле были названы ещё одна бухта и ледник. Полярный исследователь В. Русанов назвал их именем француженки Жюльетты Жан-Соссин (Сессин). Выпускница Сорбонны, врач и геолог, она отправилась на край света за любимым мужчиной. И осталась тихой арктической тайной, т. к. достоверная её биография до сих пор полностью неизвестна…
А в 1929 году участник экспедиции Седова В. Визе вернулся в Тихую, чтобы основать первую советскую полярную станцию. И станция в бухте Тихой была организована под руководством О. Ю. Шмидта. В то время это была самая северная полярная станция в мире, а для О. Ю. Шмидта она стала началом карьеры полярного исследователя. Сегодня бухта Тихая – центральная точка маршрутов круизных рейсов в национальный парк «Русская Арктика». Сотрудники парка восстановили первоначальный вид станции.
Сейчас национальным парком разрабатывается проект музея под открытым небом «Живая история Арктики», и Тихая станет одной из центральных экспозиционных площадок.
В 2015 году полярная станция «Бухта Тихая» с её постройками признана объектом культурного наследия России. По праву её можно назвать и магическим романтическим туристическим объектом.
Ещё одна Бухта Тихая – достопримечательность Сахалина. Она расположена на восточном побережье острова, в 130 км от города Южно-Сахалинска, в Сахалинской области. Небольшая гавань в заливе Терпения, между мысом с таким же названием – Тихий – и горной вершиной Смелый.
Бухта называется Тихой потому, что в ней практически не бывает сильных волн. Благодаря высокой морской террасе северная часть надежно укрыта от ветров и тайфунов. Пляж бухты не раз входил в пятёрку легендарных пляжей России. Поблизости и Тихий океан.
А ещё здесь общественный природный парк «Мыс Тихий». На площади в 29 га – площадки для отдыха, тропы, облагороженные родники. Находиться на территории парка можно в течение круглого года, никакой платы за посещение нет. Лето – короткое и туманное. Самое лучшее время для отдыха – июль и август. «Мыс Тихий» – первый в России народный природный парк. Этот уголок острова Сахалин находится в нескольких шагах от села с идентичным названием «Тихий». Все уголки бухты Тихой тоже зовут в мир удивительных открытий и вдохновляют на исследования.
Это не просто путешествие, а погружение в океан времени, которому нежный ветерок шепчет истории любви, тайны людей, загадки прошлого и настоящего.
Эти места с «тихими» названиями притягивают всех, кто любит покой, тишину и уединение. Не очень известное туристам место – бухта Тихая в Крыму, в Коктебельском заливе. Но название известно уже несколько столетий из-за отсутствия ветров и волнений на море. Окружающие возвышенности защищают маленький залив от непогоды. Эта тихая бухта для романтиков – любителей палатки и отсутствия цивилизации: нет туристической инфраструктуры, запрещён въезд на автомобилях. Место не подходит для любителей комфорта, но длинные песчаные местные пляжи никогда не пустуют в сезон: как магнит притягивают путешественников-романтиков.
Как привлекали сюда представителей российской элиты в конце XIX – начале XX веков. Отдыхали здесь даже члены царской семьи. В советское время на пляжи Тихой бухты в поисках вдохновения и новых впечатлений приезжали известные писатели и поэты: Гумилёв, Булгаков, Чуковский, Вересаев, Цветаева. В окрестностях бухты в советское время снимали, например, киноленты «Голова профессора Доуэля», «Человек с бульвара Капуцинов».
Возможно, в таких бухтах влюблённые шепотом скажут друг другу самые красивые, самые заветные и самые долгожданные слова. Но, может быть, молодым людям только предстоит встретить друг друга в одном из заветных уголков этих тихих бухт. Недаром сказал Шеннон Л. Адлер: «Сердце, которое стоит любить – это то, которое ты понимаешь даже в тишине». Писатели в тишине напишут свои лучшие романтические истории. Композиторы услышат в тишине свои лучшие мелодии и подарят всем музыку любви и вдохновения. Ведь не скажешь точнее, чем Сократ: «Тишина – это глубокая мелодия для тех, кто может услышать её сквозь весь этот шум».
Прости, Полярный день!
В Полярный день всегда светло,
Хоть закрывай блэкаутом окно.
Но солнце светит всё равно,
Такое вот упрямое оно.
Кому-то в радость день полярный,
А я опять жду ночи постоянной,
Когда уютно, тихо и темно,
А небо северным сиянием полно.
И под ногами снег скрипит,
На окнах северный узор блестит,
Корабль ложится в дрейф и спит,
А Млечный Путь с собой манит.
И греет тёплый нас Гольфстрим,
И никуда мы не спешим,
И за чайком морошковым сидим,
О всякой ерунде мы говорим.

Полярной ночью мир другой:
Спокойный нежный и родной,
Понятный, ясный и простой,
Любимый, детский, дорогой.
Прости, Полярный день, меня
За то, что не люблю тебя.
Но сложно жить, двоих любя,
Не пал мой выбор на тебя…
Татьяна Бугаец
Горизонт моего детства
Некогда людная деревушка моего детства, которую я изредка навещаю, превратилась в «островок инобытия», где остались одни старики и домашние животные.
Полноводная речка, в которой мы купались детьми, практически высохла. Разноцветные луга с порхающими «махровыми» бабочками и стрекочущими в крапиве кузнечиками поросли бурьяном. Смешанный лес заметно поредел, а жилые дома в заброшенной деревеньке покосились.
И только небо осталось прежним. Как в детстве, хочется понять – где оно заканчивается.
Я родилась в Советском Cоюзе, в простой рабоче-крестьянской семье. Кроме меня, в семье были сестра и брат, а благодаря родственникам моих родителей у меня имелись двоюродные братья и сёстры. В то время семьи были многодетные.
Вечерами я наблюдала, как бабушка доит корову, и приносила свою эмалированную кружку, чтобы выпить тёплого молока.
Мой дедушка иногда брал меня на пастбище, когда приходила его череда пасти коров. Помню его в брезентовом дождевике, с длинной палкой в руках, а себя – в тёплом свитере и кирзовых сапогах. Мы брали «тормозки» с едой и весь день проводили на свежем воздухе. Потом ездили на рынок в ближайший райцентр продавать творог, и он был самый что ни на есть натуральный. В те далёкие годы не было безлактозного молока, сыра бри, грюера, пармезана, рикотты и прочих изысков – но никто от этого не страдал. Ведь если глаз не видит, то и сердце не болит. Отсутствие большого ассортимента продуктов с лихвой компенсировалось вкусом, качеством и питательностью имевшихся. В наше время, покупая детям пакетированное молоко, я иногда думаю, каков его состав.
Однажды летним вечером, уже в моей взрослой жизни, мы сидели в небольшом кафе у моря с моей знакомой из Хорватии и ели рыбное блюдо. Это была свежевыловленная рыба, которую разделали на наших глазах. Подруга мне шепнула: «Не ешь рыбу, если рядом не видишь моря», – имея в виду, что продукт должен быть свежим и натуральным. Так и с молоком: наверное, лучше его не пить, если в местности, где живёшь, нет коров. А такое сейчас повсеместно, поэтому и молоко, продающееся в современных магазинах, – зачастую лишь суррогат из порошка и консервантов. Впрочем, как и многие товары пищевой промышленности.
В детстве мама ополаскивала мне волосы отваром из любистка (ароматного растения с жёлтыми цветками из бабушкиного сада), а не кондиционером с отдушкой, сульфатами и парабенами. Бабушка стирала бельё раствором из «мыльного корня» и носила вещи из тонкого льна. Помню, когда у меня был отит, она вылечила меня козьим жиром без применения антибиотиков.
Мои родители работали в большом городе, а мы до школьного возраста росли в деревне. Бабушка была доброй, но строгой: воспитывала внуков, не допуская излишеств.
Она была христианкой, но в молодости её отлучили от церкви, потому что вышла замуж за коммуниста. А дедушку исключили из коммунистической партии, потому что женился на христианке. Такая вот история. Тем не менее они прожили в супружестве более пятидесяти лет и оставили в моём сердце тёплые воспоминания. Любовь победила догмы.
У каждого внука была своя обязанность. С пяти лет бабушка брала меня в колхоз, где она работала «ланковой» (попросту, «командиром» женской сельскохозяйственной бригады). Я помогала ей по мере детских сил пропалывать картошку и грядки с красным буряком (свёклой) и морковкой. Помню, однажды мы возвращались домой на подводе, гружённой солнечными тыквами (по-украински «гарбузами»). Дома мне было поручено выбрать из тыквы семечки: бабушка сушила их в печи, а из мякоти готовила внукам в духмяной печи тыквенную кашу с пшеном.
* * *
Поскольку детей в доме было много, не обходилось без шалостей и даже явного хулиганства. Мой двоюродный брат Сергей воровал у деда махорку (селяне выращивали махорку сами и делали из неё табак), крутил самокрутки из газетной бумаги и предлагал своим сестрёнкам и братишкам покурить. К счастью, девочки отказывались, но в отношении мальчиков он преуспел. К сожалению, вырос Серьга (как мы его называли) непутёвым и рано умер от цирроза печени. В его случае оказалась верной поговорка: «Из дуги оглоблю не сделаешь».
Бабушка и мама не пользовались косметикой, поэтому самая простая помада вызывала у меня жгучее любопытство. Однажды моя тётя (а ей тогда было девятнадцать лет, и она казалась мне ну о-очень взрослой) после моих надоедливых просьб накрасила мне губы красной помадой, и в таком «праздничном» виде я щеголяла по деревне. Когда бабушке об этом донесли, она меня изрядно отругала.
А ещё у бабушки в гостиной стояла казавшаяся мне необыкновенно красивой кукла Василиса, которую бабушка привезла из Латвии. В Латвии жили её родственники, она ездила туда торговать семечками подсолнуха и тыквы – выражаясь современным языком, это был хороший бизнес. Нам запрещалось трогать эту куклу, но я играла с ней, оставаясь дома одна, потом снова аккуратно водружала на «постамент». Бабушка, конечно же, об этом догадывалась по слегка растрёпанным волосам Василисы, но меня не бранила.
Одно из самых ярких воспоминаний моего детства – свадьба в доме наших соседей. В те времена свадьбы в сёлах были большие. Невеста одевалась в национальную одежду, а маленькие девочки – их называли «светилками» – в национальных убранствах сопровождали её. Я была одной из «светилок» на той свадьбе и в подарок получила пёструю ленту (стричку) из венка невесты. Это было верхом мечтаний для каждой девочки! Молодожёнам выпекали большой каравай, украшенный колосками и птичками из теста. Детворе раздавали «соловьёв» с каравая, и мы с удовольствием их уплетали за здравие жениха и невесты.
Бабушка учила нас готовить. Все продукты были натуральными, с огорода. У нас рос даже мак. Я помню, когда мягкие маковые чашечки начинали затвердевать, мак был самый вкусный, необыкновенно сладкий. С бабушкой мы делали маковый пирог.
Дед иногда брал меня с собой в продовольственный магазин, чтобы купить хлеба и лимонада. По дороге он часто напевал песню: «Но от тайги до британских морей Красная армия всех сильней», – которую я выучила наизусть. Дед был 1913 года рождения, а потому знал о Гражданской войне, а в Великой Отечественной войне принимал непосредственное участие.
* * *
Когда пришло время идти в детский сад, родители приехали забрать меня из деревни в город. Я отчаянно ревела, потому что не хотела идти в подготовительную группу детского сада. Я очень рада, что до шести лет росла в семейном кругу: ведь ребёнку важны, прежде всего, тепло и любовь родных и близких, а научиться читать и писать – это дело второстепенное, по моему мнению.
Первым впечатлением от детского сада было смущение от незнакомой обстановки и непривычного питания. В конце рабочего дня меня всегда забирал домой папа, и приходил он ровно в пять. К тому времени я уже сидела одетая, зная, что папа никогда не подводит. По дороге домой я выбрасывала в кусты кусочки дыни с ужина: не могла её терпеть, как и красный варёный буряк. Впрочем, сейчас я очень люблю эти продукты. Со временем вкусы меняются.
С детского сада я полюбила читать. С тех пор книга является моим постоянным спутником. Видно, поэтому во взрослой жизни я стала писателем. Недавно, встретив свою бывшую воспитательницу, которая уже в летах, я подарила ей свою первую книгу. Она обрадовалась: «Неудивительно. Ведь стоило дать тебе в руки книжечку, и ты могла просидеть с ней, листая страницы, час или два».

Верю, что в каждом человеке c утробы матери заложены те или иные таланты, их надо просто найти, умножить и реализовать.
Я постепенно привыкала к городу, но меня всё равно тянуло в деревню. Родители мамы и папы жили в одном месте, и я гостила то у одних, то у других. Папины родители познакомились в Германии, когда во время войны их, пятнадцатилетних подростков, немцы увезли в плен. Они работали на фабрике в городе Эссен. Бабушка рассказывала много историй о том тяжёлом времени. Ей повезло, потому что её приютила пожилая семейная чета, у которой не было детей. Они были владельцами той фабрики. Соответственно, питание и условия жизни моей будущей бабушки были лучше, чем у большинства её ровесников.
Подростком я по-прежнему приезжала в деревню на летние каникулы. Помогала полоть и убирать грядки. Помню, как дед омрал (пахал) землю на волах, и острый плуг врезался в смачный жирный чернозём, а мы высаживали в углубления разные семена.
Впоследствии, когда я стала христианкой, мне легко было понять смысл притчи о семени из Нового Завета: брошенном при дороге, на каменистую землю и в добрую почву. Благодарю Бога, что в детстве у меня была самая лучшая наглядность этого процесса. Впрочем, притча о семени – это притча о глубине сердечной почвы, которая уподобляется земле, но это уже другая тема.
* * *
«Колесо жизни» вращается неустанно. Всё течет, всё меняется. И чем дальше идёшь, тем более отдаляется горизонт детства. На смену приходят отрочество и юность.
Став подростком, я чаще приезжала к родителям папы. Их дом стоял на перекрёстке, и как только появлялся грузовой фургон с надписью «Хлеб» (как в фильме «Место встречи изменить нельзя»), я мчалась на велосипеде в продуктовый магазин, чтобы занять очередь за свежим хлебом. Велосипед приходилось пристёгивать цепью, чтобы кто-нибудь не «свистнул» (не украл).
Ездить на велосипеде меня научил папа, купив первый «Орлёнок» голубого цвета. Однажды я ехала на нём в брюках-клёш, и обе штанины зажевала цепь. Хорошо, что у меня получилось докатиться до ближайшего забора и опереться об него рукой. Это был мой первый «экстрим».
Когда река Десна выходила из берегов и на сельских лугах случались весенние разливы, мы c дедом плавали в магазин на деревянной лодке, как в мультике «Дед Мазай и зайцы». Только на месте зайцев были я и моя младшая двоюродная сестра.
Летом бабушка вставала очень рано и шла на ферму кормить телят. Там было много других животных. Иногда я помогала ей поить телят молоком из соски, это было очень мило и развивало во мне эмпатию.
Помню, как с колхозницами мы ездили на другой берег Десны и гребли там сено, складывая его в стога. Лето в те времена было не очень жарким, поэтому можно было работать даже в солнцепёк. Это прививало трудолюбие и терпение.
На выходные люди в деревне ходили в сельский клуб. На забор нашего двора всегда клеили свежую афишу. Индийские фильмы были в «топе» и всегда проходили с аншлагом. Но меня, помню, поразил простой и глубокий советский кинофильм «Не могу сказать “прощай”». Я даже плакала, настолько он тронул моё сердце. Надо отдать должное: в Советском Союзе большинство фильмов были нравственными, чистыми, смысловыми.
И ещё: люди не враждовали между собой, во всяком случае – на глобальном уровне. Помню, к нам, в украинскую деревню, из Оренбурга приезжала сестра моей бабушки с мужем. Они привозили нам в подарок пуховые платки и много урюка. Встречи с русскими родственниками были обыденным явлением.
Мой папа рассказывал, что служил в Советcкой армии в Грузии. Разделение по национальному или какому-либо ещё признаку было делом немыслимым – к папе относились как к брату. Папа рассказывал историю, как на выходные его отпустили в одно селение. Он шёл по горной местности, где паслись овцы, и неожиданно к нему бросились два алабая – огромных размеров среднеазиатские овчарки. Мысленно он попрощался с жизнью. Но в тот момент пастух отары проснулся от лая собак и громким призывом заставил их вернуться на место. Так Бог спас папе жизнь.
* * *
И первую душевную боль я испытала в деревне. Бабушке на бульон нужна была курица, и дед, «приняв заказ», пошёл в курятник. Я невзначай стала свидетелем жестокой расправы. Но что поделать? «Жизнь – это боль», – так однажды сказала наша младшая дочь после просмотра одного документального кинофильма.
Однажды мама купила мне золотые серёжки с красивыми бирюзовыми камешками. Уши проколола сельская медсестра обычной иглой-цыганкой. После первого прокола я потеряла сознание и очнулась от ужасного запаха нашатыря, когда второе ухо уже было проколото. Тогда не было тату-салонов, где такую процедуру могли бы сделать более профессионально.
В нашей городской жизни мы никогда не сидели дома. В квартире не было даже стационарного телефона, не говоря про айфоны, компьютеры, айпады и прочие гаджеты. Лучшее время было на улице. Мы «выделывали» кренделя на турниках, играли в выбивало, в битку, в резинку. Покупали у бабушек-торговок сладкие «петушки» за десять копеек и пили из автомата газировку, пользуясь одним стаканом. А ещё сдавали стеклянные бутылки в специальный пункт сбора стеклотары: это тоже была одна из моих обязанностей в городе, кроме уборки своей комнаты и походов в магазин.
В пятом классе я впервые влюбилась: в сына Олимпиады – нашей соседки по этажу. Её действительно так звали, это было так необычно! Её взрослый сын казался мне героем из кинофильма. Он был старше меня и вскоре женился. Помню, я со слезами смотрела в глазок, когда свою невесту он выносил на руках из квартиры и они смеялись от счастья.
В памяти осталась поездка с мамой и сестрой в Москву к родственникам. Выстояв длинную очередь в Мавзолей, я увидела там жёлтую мумию вместо «великого вождя». В школе я была экскурсоводом по музею Ленина и лелеяла самые трепетные мысли об этой личности, считая его спасителем людей. Так болезненно разбилась иллюзия о величии В. Ленина. Мои мифы полностью развеялись во взрослой жизни, когда оказалось, что в Швейцарии он жил вовсе не в шалаше, а в дорогом пятизвёздочном отеле.
Впрочем, нет ничего нового под солнцем, и в наше время повторяется то же самое. «Весь мир лежит в лукавом», то есть во зле и во лжи, как сказано в Священном Писании. Истинное прозрение и спасение может дать людям только Бог.
Pulsuz fraqment bitdi.