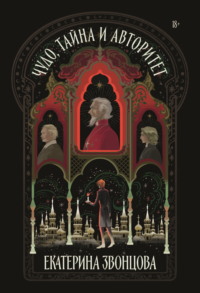Kitabı oxu: «Чудо, тайна и авторитет»
Соне и всем ее бешеным собакам
Мой принц, безумцы правду знают;
Что жизнь похитит, смерть вернет;
Предателей не выбирают;
А крик слышнее в Рождество.
Франсуа Вийон, «Баллада пословиц»
Книга издана с согласия автора

© Екатерина Звонцова, 2021
© Издание на русском языке, оформление. Popcorn Books, 2023
Cover art by Kelly Chong © 2023

Внимание: в романе присутствует тема сексуализированного насилия над детьми.
Если вы или ваши близкие стали жертвой насилия, мы рекомендуем обратиться за психологической помощью к специалистам и в органы правопорядка.
Вот список организаций, которые могут помочь:
Проект «Тебе поверят».
https://verimtebe.ru/
Центр «Сестры»
https://sisters-help.ru/
Горячая линия Следственного комитета «Ребенок в опасности»
8 (800) 200–19-10
Пролог
То, чего не видят
Он крепко-крепко смыкал ресницы, чтобы не защипало в глазах, и думал о чистой рубашке, что поутру оставила на кровати матушка. Стоять согнувшись уже устал, но не нюнил, не ерзал, терпел: вода лилась нежнее парного молока, пахла мыльной розовой негой, а сестрица щадила волосы – ни пряди еще не дернули ловкие пальцы, ни кусочка кожи не оцарапали ногти. Будто не моет, а гладит; будто не с головой дело имеет, а с каким сокровищем. Старается. Разве можно тут роптать и рюмиться?
Сестрица напевала «Шарф голубой», снова и снова – может, сетовала, а может, просто занимала скучающие мысли, пока руки прядут влажный шелк чужих волос. Он слушал. Ему нравился сестрицын голос-колокольчик, какими бы простыми словами он ни звенел. Ему нравилось, что она вот так, рядом, и только для него поет тоненьким, почти заговорщицким полушепотом:
В Москве проживала блондинка,
На Сретенке, в доме шестом,
Была хороша как картинка,
И нежная очень притом…1
Лилась и лилась вода в кружеве пены, падала и падала в лунно-оловянную глубь старого таза; легчала и легчала голова. Ему всегда верилось: мытье – вроде цыганской ворожбы; наверное, оно хорошо не только от грязи, но и от всякой там порчи. Неспроста недобрые люди плохо пахнут и обходят сторонкой баню. Неспроста мыло – душистые, точно сваренные из чистых цветочно-овощных запахов «шаромы» и «огурцы»2, – такое дорогое. Неспроста омывают покойников, прежде чем укутать в саван. И неспроста мыться он сегодня будет дважды: еще вечером, тоже в парной воде. Наверное. Если, конечно, выйдет, – как он подумал, едва увидев белую, хрусткую от чистоты, отороченную кружевом рубашку в матушкиных дрожащих руках.
«Тебе бы волосики помыть… и вот это тебе на потом. Новая…»
Ах! Крутится, вертится шарф голубой,
Крутится, вертится над головой,
Крутится, вертится, хочет упасть.
Кавалер барышню хочет украсть.
Больше всего ему нравилось сестрицыно «Ах!», от которого розовый рот округлялся и оживлялся улыбкой, и нравилось еще воображать, как он вырастет – и купит ей шарф из лучшей кисеи. Будет этот шарф нежным, как мыльная пена, и легким, чтоб взаправду концы от ветра летали, и красивым – может, даже с тонкой серебристой отделкой. Хорошая ведь сестрица, заслуживает десяти шарфов. Вот, возится с ним… а он и рад, правда, еще вспоминает давнее: как с матушкой они омывали папеньку. Папеньке сестрица тоже тогда мыла волосы, желтоватые и жидкие, и так же бережно, и потом расчесывала. Разве что с губ ее слетали другие слова – тихое, заунывное Трисвятое, перемежавшееся всхлипами. Но много с того дня прошло, почему вдруг ожило в памяти?
Он все-таки мотнул слегка головой, надеясь, что забудется. И исчезли из памяти темная квартира, где давно живет другая семья; и жалкая лампа, умирающая вслед за папенькой; и мыльный запах – иной, дегтярный. Раздалось над ухом ласковое: «Скоро, скоро уже все, потерпи, светик». Он впился в край таза крепче и открыл глаза. Их защипало, но он даже не смаргивал слез. Задвоились, задрожали пенные кружева, и очень захотелось сунуть в воду руку, взбаламутить их со всей силы, порвать в клочья. Но пора было распрямляться, а кружева медленно таяли сами, оставляя лишь белую муть.
– Таких прехорошеньких ручек, – запела сестрица, уже аккуратно вытирая ему голову кусачим полотенцем, – не видел на свете никто. Ходил к ней кудрявый поручик в нарядном и светлом пальто…
Он не выдержал, засмеялся, боднул ее руки: пусть уберет противное полотенце! Спросил, когда заделался в поручики тот, кто к ней ходит, почему пальто не светлое и вообще нет там никакого пальто, а вечно непонятно что. Она надулась, щелкнула его по носу и пробурчала: «Мал ты рассуждать», но тут же сама о свои слова споткнулась, сникла, прикусила губы и все к тому же носу прижалась отчаянным поцелуем. Обняла так нежно, будто решила укачать, запела тише – снова про шарф, барышню, улицу. Он слушал. Сестрица пахла табаком, мускусом, золой и морозом, хотя на площади еще не была. От огневицы3, возле которой они притулились на полу, в любимом закутке меж ней и стенкой, тянуло сытым бодрым теплом: печку щедро накормили щепками, но не настолько, чтобы жалила и щипалась.
Но вскоре то счастье пропало
На самый ужасный манер.
Поручику стряпка сказала,
Что «стал к ней ходить анжанер».
Сестрица продолжала нехитрый рассказ, а он сидел, положив голову ей на плечо, и глядел на рубашку, свесившую с кровати кружевной рукав-хвост. Была она словно неживой зверек, может, снежная змея. Не шевелилась, зато глядела, безглазо, но пристально. Ждала его, напоминая: «Мое кружево не ис-стает, мое кружево не пор-веш-шь». А он, слушая про шарф, барышню и улицу, вспоминал теперь отчего-то странный свой предутренний сон.
Снились ему сегодня трое, разные, и не одновременно, а один за другим. Сначала молодой мужчина в голубом хитоне – смуглый, длиннопрядый, с неряшливой русой бороденкой, – грустно и ласково взирал ясными серо-небесными глазами из-за тюремной решетки. Он не просил: «Освободи меня», но сердце плакало, и надрывалось, и стремилось прочь – за ключом в неизвестно чьем кармане. Но ключ не нашелся, и узник исчез вместе с темным своим казематом. Потом тощий, оборванный, желтолицый юноша с темным взором, не чародейским, но больным, горько плакал, сидя посреди серой улицы и обнимая издыхающую лошаденку; подле колен его лежал окровавленный топор. Он не просил: «Утешь меня», но ему, горемыке, хотелось отдать карманный молитвослов с перламутровым обрезом, тот, который принес на день ангела сестрицын кавалер. Но книжицы не было, и юноша пропал со своей улицей, и лошаденкой, и топором. И наконец величественный, прекрасный, посеребренный сединой и страданием мужчина лежал в изодранном зелено-золотом мундире, на окровавленной подушке, и сомкнуты были его тяжелые веки, и сложены на груди ухоженные ладони. Дышал он хрипло, со свистом и страшным бульканьем, потом и вовсе перестал. Ног ниже колен у него не было – сплошь ошметки, осколки, рванье. Он не просил: «Воскреси меня», но сами хлынули из глаз горячие слезы, и захотелось упасть рядом, и лепетать заплетающимся языком: «Вернись, вернись!»… но залепетать не вышло, и мертвеца скрыло дымчатое марево тумана, и оборвался сон.
Поручик на скетинг-ринге
Увидел блондинку в окне.
Он к ней подошел и красотке
Хватил кулаком по спине.
Не раз он слышал эту песню: прицепилась к Москве хуже репьев, пели ее на улицах все, кому не лень. Но впервые он, стыдясь своего невежества, спросил осторожно у сестрицы, что такое скетинг-ринг, где это, что там делают. Она прервалась, вздохнула тихонько и ответила:
– Там богатые господа катаются на коньках с колесиками, быстро-быстро.
– Как на рысаках? Так, что ветер в ушах? – удивился он.
– Быстрее даже. И музыка там, и сладкую воду подают.
Он затрепетал; готов был уже выпалить, как это здорово – коньки с колесиками и сладкая вода, и вот бы ему тоже побывать там и попробовать, и хорошо бы с сестрицей, вместе, за руку… Но слова «богатые господа» предостерегающе зашипели на него, как сердитые гуси из крестьянской подворотни: «Не с-смей, не с-смей ее печалить, не с-смей напоминать». И он просто кивнул, пробормотал так же тихо: «Здорово как…» – и покорно сел попрямее, чтобы сестрица могла расчесать его подсохшие локоны.
– Мне бы уйти, светик мой, – сказала она, орудуя уже деревянным гребешком с выжженными рябиновыми ягодами. – Ждут меня, вчера-то не свиделись…
Он предчувствовал, что она это скажет, поэтому оказался готов. Как ее не понять? Ответил быстро, шутливо, чтобы спрятать обиду и печаль:
– Ходил к ней кудрявый пору-учик в нарядном и светлом пальто-о… – И сестрица, конечно же, дернула его за прядь, но затем продолжила причесывать медленно, бережно, склоняясь иногда, чтобы поцеловать то в щеку, то в ухо, горячо и благодарно.
– Я вернусь, – как заклинание, повторяла она. – Обязательно вернусь, скоро-скоро, принесу тебе что-нибудь…
Он молчал или отвечал невпопад: снова думал о сне, о троих. Жалко ему их было очень, пусть и не существовало никого, лишь вымыслы. Различимые такие, живые были у них лица; понятная такая, настоящая боль. Вот бы поговорить хоть с одним, с любым. Наверное, и они бы его поняли, и пожалели бы, а может, даже бы и спасли. Хотя, может, наоборот, нахмурились бы с усталым пренебрежением: «От чего спасать тебя? От розового мыла? От белой рубашки? Что тебе не живется, раз все не просто так и не навсегда?» А он потупил бы глаза и, наверное, покраснел бы от стыда, потому что сам не знал ответа, ничего не знал, а думать много было страшно. Одно понимал: скорее бы снова вечер. Скорее бы помыться уже целиком. Оттереться простым дегтярным мылом от розового запаха. Тем самым, которое для мертвецов. Смог бы он все это сказать троим из сна? Может быть. А они бы…
Всегда так на свете бывает.
Окончился этот роман.
Мужчина от страсти пылает…
– Сестрица, – тихо прервал он, и гребешок замер в волосах. – Ты иди. Иди. А я матушку подожду. В постели пока полежу, почитаю те твои приключения про остров…
Она поцеловала его снова и, обняв сзади за шею, повторила:
– Я скоро, скоро вернусь, и будет у нас какой-нибудь праздничный обед, вот.
Он потерся подбородком о ее сухие бледные руки, и они соскользнули, забрали с собой тепло и покой. Сразу захотелось схватиться, удержать, выдохнуть жалобно: «Не оставляй…», но он смолчал. Сестрица, переодевшись потеплее и схватив заячий свой тулупчик, ускользнула из детской; только соломенная ее обережная куколка в ленточках и пятнистом платке осталась на подушке. Он же встал от огневицы, благодарно погладил остывающий ее бок и пошел к своей постели. Белая неживая змейка ждала.
Какой все-таки странный, но дивный сон – про троих. Кто же они, не ангелы ли? Замученные, страдающие, но все же ангелы: так было от них горько, но светло; так хотелось и их спасти, и чтобы они помогли чем-нибудь. Вдруг сумеют? Может, стоит хотя бы попробовать умолить их. Пока заперта дверь. Пока змейка свисает до пола так безвольно и беззлобно.
Первым он подумал о юноше, обнимавшем лошаденку. Тот казался таким несчастным и слабым, что просить его о многом было бы бесчестно. С него хватило бы и самого маленького, способного принести недолгую, но настоящую радость желания. Почему не…
«Отведи нас с сестрицей на скетинг-ринг».
Вторым он вспомнил величавого мертвеца с раздробленными ногами – наверное, много у него было силы и власти, пока кто-то не позавидовал, не обозлился, не поранил. И лицо его – каменное, гордое, истерзанное – казалось теплым, участливым. Встреться он в добром здравии, был бы, наверное, возмущен всем здесь. Всем-всем. И смог бы это поправить одним взмахом руки, одним приказом. Услышал бы…
«Забери нас и матушку из этого дома».
Последним вспомнил он молодого узника. Не преступником он был, точно нет: в ясных глазах – сострадание; изувеченные ладони в крови, но хитон чистый – точно не коснулся его ни один удар грязного кулака. Не походил он на того, кого пленили насильно; скорее сам ступил в темницу, просто чтобы обернуться потом к угнетателям, раскинуть руки и прошептать ласково-насмешливо: «Ну, вот он я, глядите на меня». Он светился силой и милостью. Он мог, наверное, выполнить любое желание, даже большое-большое, способное счастливее сделать весь мир. Но сил на такое не было. И самое заветное желание оставалось одно, маленькое, подлое.
«Пожалуйста, пусть в комнату войдет матушка. Матушка, а за ней сестрица. И никто, никто больше, никто».
Пусть белую рубашку с кружевом надевать больше не придется. Никогда.
1. K
Сущевская полицейская часть
1887 год, 24 декабря, вечер
Мать всегда говорила: «Светлые мысли летят на свет. Нужны они тебе – просто зажги свечу». Сегодня K. звал их что было сил, но они все не спешили. Тогда он решил, что чем более одиноким и крохотным будет свет, тем заметнее в вечерней кромешности, – как желтая искорка маяка в ночи всегда по-особенному заметна затерявшемуся кораблю.
Загасив масляные лампы, K. зажег на подоконнике тощенький огарок – к счастью, тот завалялся в ящике стола бог знает с каких времен, возможно, даже остался от предыдущего сыскного надзирателя4. Долго еще K. стоял у окна, наблюдая за новорожденной свечкой. Из какой-то щели малозаметно сквозило, отчего огонек дрожал, без конца возился, но гаснуть не гас. Он то поджимал лапки, поудобнее пристраиваясь на фитильке, то привставал на цыпочки, вглядываясь любопытно в морозную завесь, в высящиеся за ней зыбкие чернильные силуэты. Наглым золотым хохолком своим он словно напоминал всей Москве: горит, горит еще свет в полицейском участке. Сегодня же праздник, святой день, точнее, святая ночь, когда всем должно быть тепло и спокойно.
Горела свеча и теперь, когда K. от окна отошел, сел за стол, сложил поверх него сцепленные в замок руки, вытянул вперед. Глядел он в пустоту, куда-то в закуток под подоконником, на шныряющие там тени – то ли побеспокоенных сквозняком комьев пыли, то ли загулявшихся мышат. K. слушал тишину, мысленно, впрочем, нарушая ее: «Еще немного – и просто пойду домой. Немного – и домой. Домой…»
Часть стояла тихо, нежила в снегу желтоватое тело, не мешала инею рисовать на позвякивающих окнах кружевной иноземный лес. Осанистая, спровадившая в небытие не одно десятилетие, чрезвычайно солидная в глазах всех соседних улиц, Сущевка взирала вокруг сонно и снисходительно, показывая, что ей-то ни до каких обывательских праздников, цветных гирлянд и позолоченных мандаринов дела нет. Тут, кроме K., не было сейчас никого – разве что отогревался у фонаря на пожарной башне часовой, несчастливо выигравший худшую за год ночную смену в карты. Вольнохлебная агентура доложилась и разбежалась по кабакам и каморкам еще днем; сыщики сдали дела и разошлись – кто в седьмом, кто в восьмом часу. «С Рождеством Христовым!» – искренне проорал почти каждый; настроения царили самые хмельно-радужные: все-таки не зря в последние месяцы, вопреки обычной дурной традиции, кривая убийств и разбоев5 по участку пошла резко вниз, господин Эфенбах6 и высшее полицмейстерское начальство были весьма довольны. Людей премировали – кого рублями, кого дармовыми билетами в театр, кого даже поездками – и распустили до завтрашнего полудня, за редкими исключениями в виде самых несчастливцев вроде того часового. K. не относился к таким: не уходил сам, только тревожно повторял, как заклинание: «Еще немного – и просто пойду домой. Немного – и домой. Домой…»
С чего именно здесь? С чего вообще он решил жечь свечу, да сегодня? Ночь святая, но она же – самая темная в некоем мистическом смысле. Да, матушка?
R., как и часто, ушел последним, не столь давно. Когда он, по обыкновению, заглянул в кабинет попрощаться, свечи еще не было, но лампы уже не горели. K. сидел и думал, пытался понять, отчего же резвится гадливая колкость в груди и горле; отчего не тянет встать и начать собираться; отчего он вот так застыл и ждет, ждет ведь именно этих скрипучих, тяжеловатых, но осторожных шагов, медленно близящихся по коридору…
– Иван! – Дверь была открыта, и его просто окликнули, пару раз стукнув в створку. – А с чего это ты в таких потемках? Лампы пришли в негодность? Выписать нужно?
R., уже в плотном длинном плаще без меха, встал в проеме. Совсем не толстый, наоборот – сухопарый, зато очень высокий, он будто не вмещался там; осыпающиеся гипсовые откосы ему неумолимо мешали. Он немного сутулился, и поза эта резко расходилась с его чеканной выправкой. Как обычно, R. не улыбался, но по светлым глазам, глядящим приветливо и мягко из-под плавных ухоженных бровей, читалось: настроение у него неплохое, а бутыль коньяка под мышкой, явно даренная кем-то из благодарных просителей, скоро поднимет его еще немного.
– Нет, это терпит, я так, – ответил K. – Уходить собираюсь, вот уже и…
– Уходить, – сощурившись, R. кивнул на стопку бумаг, белеющую в сумерках. – Знаю я тебя. Совсем ты что-то не умеешь отдыхать, нельзя так…
Он пенял этим часто, а K. всегда кивал. Не слушать его – преждевременно седоватого, говорящего веско и вкрадчиво, устрашающего шрамом через щеку и неизменно мнящего себя не начальником, но родителем, – было невозможно, несмотря на то, что ему едва исполнилось тридцать два и разделяло их с K. всего пять лет. Трудно поверить, что, когда R. прислали на место проворовавшегося предшественника и поставили чиновником по особым поручениям над несколькими частями, включая Сущевку, K. скрипел зубами, писал-сжигал заявления то об отставке, то о переводе. Тогда он и видеть-то «новое лицо (харю, по замечаниям) из Петербурга» не желал, потому что сам метил на это место, думал – повысят. Потом увидел. И даже если бы не прискорбные обстоятельства, открывшиеся в первую же встречу, K. уже вряд ли покусился бы на столь вожделенную должность. R. часто заседал здесь, по соседству, и все жалобы, наветы и посягательства, которые сыпались на него из рога изобилия московской преступности, были хорошо заметны. Так навьючишься – вовсе для себя не поживешь, если не умеешь работать спустя рукава. К. не умел, а пожить хотел, и было чем. Остался подчиненным. По другой уже причине стискивал иногда зубы в тщетной надежде перетереть меж ними непроизносимое и неотступное. Обстоятельства. Их, проклятые.
– Скоро я пойду, – повторил он, взял бумаги и небрежно закинул в ящик, демонстрируя свой праздношатайный настрой.
– Невеста забудет, как ты выглядишь. – R. все же слабо улыбнулся; шрам, похожий на летящую птицу, дрогнул; глаза блеснули в темноте. – К ним ведь сегодня?..
– Надеюсь, что так. – K. тоже улыбнулся, как смог, и спросил то, о чем в принципе догадывался. – А вы что же, где празднуете?..
– Дома. – R. лениво качнулся с носков на пятки, точно падающая статуя; оперся длинной ладонью о дверной косяк; пошевелил пальцами, словно изумляясь, что они-то все же не каменные, движутся. – Один. Буду спать.
Семьи у него не было; к барышням он интереса не проявлял, сколько бы хозяйки балов ни подталкивали к нему в очередной вечер робеющих дочерей. Куда больше этого завидного жениха тянуло к ровесницам и особам старше, преимущественно вдовам, но и с ними он чаще углублялся в пространные беседы о политике и нравах, чем в пустой звонкий флирт. О нем со смесью недоумения, неодобрения и уважения говорили: мол, он спешит себя состарить – или уже состарился де факто, документы и имя ненастоящие, ну а моложавой внешности он достигает при помощи волшебных карлсбадских или тифлисских ванн. Так или иначе, хотя до балов, особенно полицмейстерских и литературных, R. был довольно большой охотник, обществами совсем легкомысленными он пренебрегал, не находя радости ни в игристом, ни в трепетных нимфах на выданье.
Сон в Рождественскую ночь в холостяцкой квартире на Неглинном проезде R., конечно, заслужил: поработал он в этом году на совесть; благодаря ему-то показатели и выправились, сгладились давние взяточные скандалы. Всех надзирателей он непреклонно проверял на честность; сыщиков и агентов перед наймом экзаменовал сам и с изощрением испытывал боем; раненых же при исполнении выхаживал на собственные средства, дабы не только выжили, но и сочли радостью и долгом вернуться на службу. Оно и верно: хороших подчиненных легче растить и холить, чем раз за разом искать заново, да и на душе так меньше вины. K. не раз замечал, как две несовместные вещи – прагматизм и сердечность – уживаются в этом сложном человеке, то мягком и предупредительном, то стремительно отступающем за завесу угрюмого тумана.
– А к нам… – Он запнулся, даже почувствовал, что краснеет, торопливо поправился: – К ним, к L., не хотите? Нелли, может, опять будет читать Байрона и Вийона в своих переводах; в прошлый раз вам, кажется, понравилось…
– …и прищеголяет вновь в мужском костюме? – R. уже не улыбался, но глядел так же тепло, лукаво. – Заметили, кстати, эту тенденцию? Столько появляется разных странных модников; никого уже не удивишь перьями на шляпе или открытой грудью, а вот высокие сапоги, сюртуки на девицах, красные парики или, к примеру…
Он запнулся; взгляд вмиг заволокся тучей. Голова склонилась к плечу, мраморно-белый лоб рассекли трещины. Пальцы еще раз проскребли задумчиво по дверному откосу, затем рука упала. R. помедлил, пожевал сероватые губы и, тихо вздохнув, бросил только:
– В общем, нет, наверное, Иван. На венчание, как решитесь, обязательно зови, и я приду. Да и в праздники, думаю, где-то увидимся; вы же, как я помню, тоже любите каток на Патриарших. Но сегодня едва ли, устал…
«Его не будет, – захотелось выпалить как можно скорее. – Никого не будет; не тревожьтесь; у них-то свой какой-нибудь бал». Но K. сказал лишь:
– Очень жаль. Но могу понять. На Патриаршие или в Зоосад, да, пойдем кататься…
Разумеется, у них будет свой бал, с каким-нибудь своим вольным переводчиком стихов, а может, и со, что называется, слоном напоказ – приглашенным писателем вроде молодого колкого Чехонте, как недавно. Граф будет звучно хохотать в обрамлении молодежи и жадно глядеть в оживленные лица, шутя, что глазами пьет освежающую кровь. Графиня – ходить как тень, задумчиво кивая каждому гостю и изредка позволяя себе нервную улыбку, полную предчувствия бури. Lize будет задирать нос-пуговку и делать вид, что ей дела нет ни до пустой бальной книжки, ни до прочих девиц, наслаждающихся фруктами и шампанским и смеющихся над крючковатой ее спиной. А он… вероятно, он вновь явится в таком облике. Костюмы его строго скроены, но пестрят узорами цыганских платков; черные кудри разделены пробором, но отросли до середины шеи; в ушах звенит золото – кольца, треугольники, монеты. Говорят, в нем играет дурная кровь; говорят, скоро это во что-нибудь выльется; говорят, жаль, ведь он – жгучий, медово-смуглый, с теплым бархатом голоса – потрясал бы свет в лучшем смысле, блистал бы, будоражил… если бы не вечный кровавый узор под манжетами, не сумрачные улыбки, не руки, в нервном омерзении отдергиваемые от любого почти касания.
Говорят.
Как найти мужество увидеть и еще чуть больше – спросить?
«Как вы? И для чего басмановщина-бесовщина, не от серой ли пустоты внутри?»
– Что же. Отчалю. – Но сначала R., наоборот, прошел в несколько размашистых шагов к столу и торжественно, с легким стуком водрузил на него бутылку. – Не скучай, Иван. Не засиживайся. И не иди к милой и к ее родителю с пустыми руками. От меня можешь передать всем им теплый привет. С Рождеством Христовым.
– С Рождеством.
Лицо захотелось спрятать в ладонях, отстраниться, лишь бы не глядели так ясно и по-доброму. Выражение вязалось с отвердевшими чертами и шрамом тяжелее, чем сутулость с офицерской осанкой.
R. кивнул, беглым движением пятерни зачесал назад волосы, устремившиеся было на покатый лоб, распрямился и вышел, не сказав более ни слова.
Не прошло и пяти минут, как K. зажег ту самую свечу на подоконнике. Постоял, посидел, а потом и лег грудью на стол, прижав к сомкнутым рукам пылающий лоб и проглотив немного злых, отчаянных слез.
«Светлые мысли летят на свет. Нужны они тебе – просто зажги свечу».
Зажги свечу, Ваня. Знай мать, что он зовет, кроме мыслей, – осудила бы, а может, и посмеялась: таки не крестьянка, не купчиха, особа из благородного пансиона, просвещенная и рациональная. Сказала бы: «Так то Бог, Вань, Он есть, а это…»
А этого всего не бывает. Еще немного – и он придет в себя. Задует пламя, пойдет домой переодеваться, быстренько схватит экипаж, ну а до Дмитровки недалеко. Там все хорошо, только нужно будет улыбаться, и ничего не выдавать, и на любой упрек в угрюмости прижиматься губами к прохладной щеке: «Ничего, Нелли, трудный день, сама знаешь. Вот пустят женщин в полицию, поработаешь с мое, тогда и будешь меня…»
Мысли были не светлыми, а тяжелыми, возились в мозгу, точно толстые свиньи в слишком мелкой луже. Но лицо обсыхало от слез, тело расслаблялось, разжималась понемногу и хватка на сердце. K. засыпал, и, как ни пытался сам себя разбудить, напомнить о бале и о костюме, вроде бы неглаженом, – все это более не казалось важным, да что там – даже и настоящим, так, сон над снежным оврагом…
Свеча задрожала. Окно распахнулось: его с силой толкнул ветер. Костлявой рукой огарок подхватили, точно сорванный в снегу цветок, и понесли к столу.