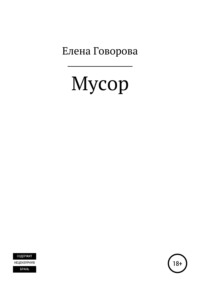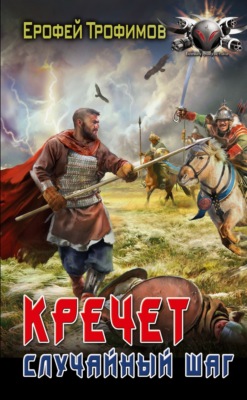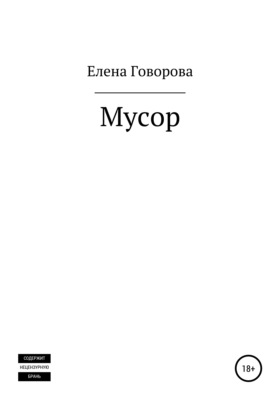Kitabı oxu: «Мусор»
Глава 1
В приотворённую форточку старого окна, с рассохшимися, почерневшими от пыли деревянными рамами, рвался шум октябрьской Москвы: равномерное шарканье дворницких метел, сгребавших сухую листву с тротуаров, нестройный злобный, голодный лай предчувствующих зимние лишения бродячих собак, зуд летящих по Садовому кольцу автомобилей, и ни единого человеческого голоса. Тянуло холодной осенней свежестью; виднелось серое, будто так же запылённое, как улицы, небо, и большие, безразличные в своём величии окна располагавшегося напротив дома сталинской постройки. Звуки раздражали, мешали расслышать то, что говорилось на видеозаписи на экране компьютера: там мрачный, неловкий мужчина с длинными, давно не стриженными чёрными волосами держал в руках альбомный лист, на котором маркером было выведено: «#СпаситеБоголюбов!», – и ниже, чуть толще и крупнее: «#SaveBogolubov»; позади него стояли три женщины в старушачьи подвязанных узлом под подбородками пестрых платках, – одна из них, заметно моложе остальных, иногда поднимала лицо и с вызовом глядела в камеру. Всем, кроме неё, явно было больше сорока, но точнее понять не получалось. Как театральный занавес, позади них располагался коричневый гофрированный забор. Саша хотел бы скорее оказаться в кабинете, в котором привык работать, – там большие окна выходили во дворы, по вечерам в свете зажжённых ламп в соседнем доме легко было разглядеть уютно согнувшихся над плитами в своих кухнях пожилых женщин или курящих в форточки мужчин, кричали дети, а по утрам люди громко и радостно приветствовали друг друга; прямо у подъезда жили в небольшом вольере прирученные кем-то из жильцов два лебедя – ужасные скандалисты, – и тяжёлое ощущение мегаполиса отступало до конца рабочего дня. Он увеличил громкость как раз, когда мужчина низким, замиравшим голосом спешил закончить свою речь: «Просим вас, мистер Дамп, присмотреться к нашей проблеме, обсудить её на самом высоком уровне, сделать хоть что-то для нашего спасения, коли в родной стране всем оказалось начхать». Все четверо, как по команде, посмотрели в камеру и замерли, как бы для фотографии, дожидаясь, пока оператор остановит съёмку. Позади них, высокий, тёмно-зеленый, торжественно выпрямился густой сосновый лес, словно войско на странном поле битвы. Видео в полной неподвижности продлилось еще несколько секунд, наблюдая только ветер, одинаково треплющий длинные волосы выступавшего и пушистые макушки деревьев, и оборвалось.
– Ну что, Саш, знаешь кого-то из них? – с надеждой спросил его главный редактор, немного повернувшись в своём просиженном кожаном кресле с обтёршейся обивкой к опершемуся руками на его стол растерянному подчинённому.
– Да, – задумчиво ответил Саша. – Мужик – мой физрук, Николай Степаныч. Тёток не знаю.
Длинная, густая, сплошь седая борода и огромный живот делали начальника, Бориса Борисовича, похожим на древнегреческого философа. Впрочем, если бы вместо годами не стиранного, ничем не заменяемого серого свитера с молнией на вороте он носил рясу, то напоминал бы и православного священника. Несмотря на пенсионный уже возраст, морщины на его круглом, улыбчивом лице собирались только вокруг шаловливых глаз. Из него на ходу непроизвольно вырывалась звонкая отрыжка, а также не слишком остроумные шутки – и, хотя незнакомцев он шокировал абсолютной прямолинейностью, в газете его все превозносили как талантливого, проницательного журналиста, мудрого и доброго начальника, без которого «Свобода слова» не просуществовала бы свои семнадцать лет, сохраняя звание независимого, честного и смелого издания. Сейчас Борис Борисович почему-то смотрел на Сашу виновато.
– В общем, тут, видишь, брат, какая штука… Ты ж у нас в отпуске несколько лет уже не был?
– Четыре года, – с готовностью подтвердил Саша, очень этим гордившийся. – Но мне и не нужно!
– Ну, – главред тяжело вздохнул, посмотрел на свою столешницу, на которой, по старинному обычаю, лежало стекло, а под него были просунуты смешные открытки и фотографии: его за работой в молодости, детей маленьких, детей подросших, уже держащих на руках его внуков, – и, мысленно вернув себе нить беседы, продолжил. – Я с утра это всё увидел, а Таня сказала, что ты сам родом из этого Боголюбова, чёрт возьми!
Саша не поднял глаз: это было ни к чему; он и так прекрасно знал, словно видел наяву, что сидящая в дальнем углу за компьютером Таня сейчас поднесла к губам картонный стаканчик с кофе, купленный на выходе из метро примерно в 9:45, пытаясь делать вид, что ничего не слышит, абсолютно ни при чём и ей совершенно не стыдно, как делала всякий раз, когда её упоминали причастной к неловким обстоятельствам. Ему не нужно было её видеть, чтобы чётко представить острые плечики, обтянутые оранжевой водолазкой, пшеничные вьющиеся волосы, прерывающиеся примерно в сантиметре от того места на спине, где выступает, оливкой, первая позвоночная косточка, очки и то, как она, вздрогнув, выпрямляет спину, чтобы казаться невозмутимой, не представляя, как сильно это всё бросается в глаза.
Не дожидаясь ответа, Борис Борисович продолжал, обретая постепенно уверенность.
– Дело, видишь, важное! Во-первых, конечно, опять людям посреди города свалку мусорную грохают, – получайте, пожалуйста, будьте-здрасьте, – да ещё и с заводом… Об этом надо писать, с этим нужно бороться! Это ты знаешь и поддерживаешь, – не спросил, но утвердил шеф. – Самое главное: наша глубинка, основной электорат, опора власти, кроткие, послушные граждане, народ-богоносец – и название города-то какое, прямо и просится в текст, живая метафора! Боголюбов! – Борис Борисович замер и с наслаждением оперного певца прислушался, как отразится от стен громко, торжественно, чеканно произнесённое им слово, – и они-то возмутились, записали видеообращение, да не своему президенту, а, блин, американскому! И не верю, что этому не предшествовало никаких зловещих событий. И что им это с рук сойдёт, я так же не верю! Это же что-то новое, процесс какой-то пошёл! Это надо изучать, чёрт возьми, а?
И, распалённый своей речью, предчувствием большого дела, хорошего материала, Борис Борисович еле мог отдышаться, давая, наконец, своему собеседнику возможность откликнуться.
Саша вздохнул:
– Изучать, Борис Борисыч, надо. Вы хотите, чтоб статью эту писал я, правильно понимаю?
– Статья, друг мой, это что? Статья – это вот про торжественное открытие контейнеров для раздельного сбора мусора в республике Коми может быть. А тут нужна история! Драма. С предысторией, завязкой, развитием действия… Не-е-т, мой друг, план у меня другой, – старик ободрился, встал со своего покосившегося кресла, которое, лишившись хозяина, совсем опало на один бок, вышел из-за стола и начал бродить, удовлетворённо поглаживая бороду, по единственному пятачку, свободному от мебели, стопок книг и странных артефактов, вроде семи разноразмерных бюстов Сталина, на одном из которых сидела в размер связанная шапочка со скандинавским орнаментом и пушистым помпоном, или реалистичного чучела павлина, сносимых сотрудниками и друзьями редакции сюда для смеха. – План другой. Отправим тебя на малую родину. У тебя ж там семья живёт?
Саша, чтобы наблюдать за передвижениями начальника, теперь повернулся так, что мог видеть взбитый фонтанчик русых волос, торчащий из-за монитора, – Таню, продолжавшую таиться.
– Семья, значит. Вот я и думаю, что ты навестишь мать, поживёшь у неё некоторое время, а сам опросишь подробно, обстоятельно и активистов этих, и других жителей, и чиновников, составишь картину: кто, что, зачем, почему… Сделаем серию материалов, интервью, журналистское расследование, если понадобится. Ну, а заодно окажешь им посильную помощь, объяснишь, к кому нужно обращаться, чего говорить, сведёшь с нужными правозащитниками. Ведь видно, что не понимают ни черта! – раздражившись вдруг сам и на убийственную свалку, и на бестолковых жителей, воюющих наобум, и на весь несправедливый мир, эмоциональный Борис Борисович сел на подвернувшийся стул и шумно выдохнул.
Впрочем, так и не встретив ожидаемого сопротивления, начальник уверился в успехе, расслабился, довольно потёр свои широкие ладони одна о другую, как бывало всегда при намечавшемся любопытном и многообещающем деле.
– Так что, выходит, отправляем тебя, Тюрин, в командировку. Или – как угодно – в отпуск, домой.
Домой… Печальное и одновременно тёплое чувство, с примесью стыда и сожаления, что так давно там не был и сейчас, в эту секунду, скорее подумал, как лень собирать вещи, ехать почти четыре часа на автобусе, встречаться там с давно оставленными знакомыми и что-то рассказывать о своей жизни, чем обрадовался; а притом какое-то подсознательное, неуправляемое любознательное возбуждение – не то от намечавшейся многозначительной работы, не то от возможности немного переменить обстановку, вырваться из мучительной рутины. Сейчас октябрь. Дома, если лежишь в своей постели, на разложенном стареньком и узком кресле, прямо под окном – таким же ветхим, как здесь, в редакции, но меньшим раза в три, – над тобой сияет лазоревое, чистейшее осеннее небо, высокое и ослепительное, даже если нет солнца, и берёза равномерно покачивает длинными ветвями с лимонно-жёлтыми листьями, и хочется встать, но жаль прекращать смотреть – как будто, лишив себя всего, видимого в оконном проёме, призовёшь скорую зиму; не впитав подробностей красок и линий, не сможешь спокойно дожить до весны.
Он, и правда, работал без отпуска много лет. Отпроситься было неловко, да если подумать, и незачем. Там, в Боголюбове, всегда было тесно, и с тех пор, как он сбежал оттуда, по окончании школы, поступив в московский педагогический институт, Саша стыдился воспоминаний о его однообразии, бестолково проведённом детстве, юности, хотя любил иногда перебирать моменты весёлых посиделок с друзьями – здесь никто не умел так дерзко шутить, смеяться и выпивать. Дома его не ждал никто, кроме матери, которая звонила каждый вечер, а иногда и несколько раз на дню, всхлипывая, жаловалась на здоровье, безденежье, одиночество, уточняла неизменно и робко, когда же он приедет, и, услышав сдержанное: «Пока не смогу, работа», – смиренно вздыхала, долго прощалась до следующего раза. Она гордилась его трудолюбием, тем, как он устроился в жизни – единственный из их семьи, – и работа была удобным прикрытием для долгого отсутствия.
Глава 2
Теперь Александр Тюрин, корреспондент независимой газеты «Свобода слова», ехал в большом междугороднем автобусе на родину. Ему было тридцать лет, и совсем недавно он, наконец, разрешил мучительное противоречие между тем, кем он себя ощущал, и тем, как выглядел для окружающих. Он отрастил недлинную, но густую чёрную бороду, которую стриг специально в форме своеобразного конуса, чтобы она гармонично удлиняла его и без того худое лицо и шла к чуть раскосым глазам; стал носить более свободные вещи, в которых и худоба его, и сутулость, и высокий рост скрадывались; а фамилию его, всегда звучавшую как-то разваренно, подавленно, по-детски, словно кто-то дразнится, придумал писать исключительно латиницей – Turin – что роднило его с гениальным британским учёным времён Второй Мировой Аланом Тьюрингом.
Городок Боголюбов, численностью примерно в десять тысяч человек, – в котором он родился и готовился провести всю жизнь, если бы не вмешалось вдруг что-то, чему он даже сейчас не мог найти объяснения, настолько непредсказуемой удачей был переезд его, семнадцатилетнего, в Москву, – в советские времена был известен заводом по производству спичек, проданным и разворованным в 90-е, а теперь – только большим мужским монастырём, куда со всей России ехали молиться бездетные, незамужние, смертельно больные, просрочившие выплаты по кредиту и прочие несчастные, надеяться которым оставалось лишь на Бога, казалось, обитавшего в этом маленьком, скромном городке. Саша вспомнил свою подростком ещё придуманную шутку, которую он любил часто повторять: «Если Бог и любил Боголюбов когда-то, то давно забыл, за что». Сейчас он убеждал себя, что главная причина, по которой он сразу согласился на поездку – тоска по дому, любовь к маме, желание увидеть подраставшую без него сестру, да и младшего брата тоже, хоть они никогда и не были особенно близки; но, глядя в окно на совершенно зелёные ещё поля, пересечённые рыжими гребнями посадок деревьев, похожие на выпуклые спины гигантских, неповоротливых чудовищ, он всё пытался вызвать в себе хоть какие-то искры нежности, подобно той, внезапной, что уколола его так точно и так больно в редакции, но беспрестанно сбивался на повседневные свои проблемы и ещё сильнее стыдился, что поездка, похоже, всё-таки продиктована служебной необходимостью, а скуку по дому приходится разжигать в себе через сопротивление, возвращаться к ней, как к сложному заданию, от которого приятно отвлечься на любую другую пролетевшую мысль. Будоражило его лишь доверие, оказанное начальником.
Тюрин попал в газету на последнем институтском курсе, когда грезил карьерой смелого колумниста, известного журналиста, однако за девять почти лет писал хорошие, добротные материалы, среди которых не нашлось ни одного громкого. «Горячие» темы отводились всегда другим сотрудникам, которых после шумно чествовали, цитировали в своих материалах другие журналисты, работавшие по той же теме, приглашали на интервью, иногда даже вручали профессиональные премии. И теперь так удачно совпало, что в командировку по сложному и многогранному делу едет именно он. Важно было выжать из этого совпадения всё. Возможно, даже реализовать свой богатый литературный потенциал.
Саше представлялись коллеги, которые толпятся возле его стола, чтобы поздравить с победой и расспросить побольше о том, что он на самом деле видел и слышал там, на месте; как среди них, расталкивая большим животом и бася нараспев, продвигается Борис Борисович со словами: «Ну, брат, это победа!»; как ему звонят с радио «Голоса столицы» с просьбой дать комментарий в утреннем эфире по поводу проблемы строительства мусорных полигонов в России; как приглашают в популярный подкаст, поделиться мнением о русской глубинке вообще; как, наконец, предлагают написать книгу о жизни в провинции, в чём он теперь считается экспертом, на что он отвечает, что как раз написал несколько очерков, и безликий редактор перезванивает ему с возбуждённым восхищением, крича, что это необходимо издавать; и вот, наконец, он уже пьёт шампанское на какой-то литературной вечеринке, и пожать ему руку только что подошёл Шефнер – корифей, легенда либеральной журналистики, а теперь с улыбкой подбирается полненький популярный писатель… Янтарная лента из опавших листьев, мчавшаяся вдоль обочины прыгала перед глазами, пестрела, как будто встала на дыбы и уже влекла его прямо ввысь, а где-то на заднем плане расплывчато проступал печатный текст, и нужно было вглядеться в него, чтобы прочитать, что же он написал, ведь это и был секрет его успеха, те самые слова, которых не хватало, чтобы всё изменилось, и вдруг Таня, пожав плечами как можно равнодушнее, спросила его, почему он вдруг решил, что она сообщила Борисычу про его боголюбское происхождение назло и не слишком ли часто он вообще думает о ней?.. Коснувшись виском твёрдого плеча сидевшей рядом с ним женщины, Саша со стыдом выпрямился, посмотрел в окно: теперь на обочине почему-то валялось много изломанных чёрных тел грачей, видимо, влетавших тут в лобовые стёкла. «Надо обдумать задание», – твёрдо решил он.
Случилось вот что. В тихом и священном городке вдруг началось заметное чиновное движение. На месте бывшего, зиявшего выбитыми окнами и торчащей арматурой спичечного завода за несколько километров от Боголюбова решено вдруг было построить новенький мусоросжигающий, а расположенный рядом молодой берёзовый лесок вырубить под мусорный полигон, свозить отходы на который можно будет не только со всей области, но также с четырёх соседних, а по возможности – принимать даже из-за границы. Жители поначалу не придали этому особенного значения, тем более, что все комментарии сводились к отрицанию «необоснованных слухов» и обещаниям никогда не допустить здесь свалки; но, наблюдая серьёзные и вполне быстрые приготовления, некоторые начали бить тревогу. Получив отписки и даже столкнувшись с угрозами в различных организациях, блокированные на всех ресурсах, где было возможно пожаловаться напрямую президенту, они решились записать видеообращение к президенту американскому, которое и выложили в интернет. Там-то на него и наткнулся вечно ищущий подобные темы Борис Борисович или кто-то из его помощников.
«Интересно, она бы поехала со мной?» – вдруг сбился Тюрин на лишнюю, дурацкую мысль, которая наотрез отказалась потонуть в водовороте более весомых. – «Конечно, поехала бы – фотографии же! Кстати, почему её не послали? А вдруг просили, но отказалась?».
За окном уже потянулась вереница придорожных мотелей, обещавших с больших плакатов туалет, душ и вечерний намаз. Вновь пытаясь вызывать в сознании любовь к домашнему двору, он представил пучки разноцветных астр и бархатцев, торчащих из старых автомобильных шин, снующих деловито среди них худых, пыльных кур, – и Таню, проходящую с ним в калитку со вздохом сожаления, от чего тут же становилось неловко за всю эту бедность и дикость.
Солнце сделало уютно рыжими дома и деревья с той стороны дороги, на которую выходило его окно: оно ослепительно вспыхивало, перебегая по стёклам, замирая на краях покатых жестяных крыш. Прислонившись лбом к окошку, Саша наблюдал настойчивое стремление дороги сквозь смиренное спокойствие павшей по обочинам листвы, безмолвное равнодушие небрежно разбросанных по полям, как шкурки от семечек, сплюнутые по мере продвижения, покосившихся домишек, обременённых ветхими заборами, сараями с дырявыми крышами и красными виноградниками, отрицавших наступление XXI века. Стая ворон поднялась с ветвей придорожных деревьев и медленно полетела ввысь, синхронно двигая крыльями, в такт медленной музыке, игравшей в его наушниках. Проснулась зловещая, ненавистная тоска, граничащая с яростью; тоска человека, который всем сердцем желал бы сейчас быть где угодно, но не здесь: не в этом автобусе, в котором показывали русский сериал про следователей, не на этой дороге, не в этой стране и не в этом году.
По названиям на указателях было ясно, что точка его назначения скоро уже появится – и верно: прямо навстречу автобусу город бежал, катился с больше зелёного ещё, чем жёлтого холма, рискуя упасть в неглубокую речку Быструю Мечу, тонким полумесяцем аккуратно огибавшую его. Позолоченные кое-где неровными пятнами кудри деревьев вспарывали сонату из высоких и низких крыш, а ровно посредине ослепительно сиял купол нарядного белоснежного храма, вальяжно рассевшегося на перекрестье точными прямоугольниками расходившихся городских улиц, стройная высокая колокольня, тянувшаяся в небо, и почти напротив два грязных шестиэтажных уродца – самые высокие здания, многоквартирные дома, построенные здесь, с крыши которых можно было обозреть всю панораму, теряющуюся в пустых полях. Дорога завернула, и Боголюбов скрылся из виду, но Саша знал, что по тоннелю, выстроенному из двух рядов пёстрых осенних тополей, смыкавших кроны над проезжей частью величественной аркой, автобус внезапно ворвётся в город: и в просвет между расступавшимися, как будто отпрыгивавшими от несущейся на скорости машины, деревьями вновь виднелось сизое марево приближающихся улиц, и автобус вонзился по ровной дороге в самое сердце Боголюбова, по центральной улице, а Саша ничего не узнавал… Вот этот дом был здесь всегда? А вместо этого магазина что раньше стояло? Куда делась старая пивная палатка? Или он путает, и она вообще располагалась на другой улице? Притом Саша отчётливо узнавал, оказалось, неизбывный, несмываемый временем, особенный цвет этого города: нежно-голубой.
Автобус остановился, с ленивым шипением отворив двери, и он вышел в закатную позолоту, на отремонтированной, отделанной новым кирпичом старой автостанции, где стоял, фыркая черным дымом, древний ПАЗик – городской автобус, куда тяжело карабкалась, причитая, грузная старушка, пока сзади в спину её подпирал одной рукой, из второй не выпуская сигареты, сухонький старичок в забрызганных грязью синих тренировочных штанах, выглядывавших из-под строгого, классически прямого, красивого даже пальто. Вдалеке громоздилось несколько пыльных русских машин, одна старее другой, на лобовых стёклах которых помещались картонки с небрежными надписями от руки «Такси», и лишь у одной на крыше гордо, словно корона, красовалась жёлтая плашка с шашками. Столпившиеся у самой крайней машины, через окно заглядывая в телефон в руках сидевшего в салоне водителя и громко хохоча, мужики вдруг притихли, приосанились и напряжённо сверлили взглядами единственного ступившего на асфальт гостя их города с небольшой спортивной сумкой на плече.
Раньше по воскресеньям они с матерью всегда ездили в этом же городском автобусе на находившийся рядом с автостанцией рынок (позже, но ещё при нём, его перенесли в другое место): купить продукты, иногда – что-то из одежды им с братом и сестрой, чаще – просто походить по рядам, подождать, пока мать обменяется ничего не значащими разговорами, состоявшими из плохих шуток, с встречными знакомыми и поговорит подробно с парой более близких подруг, торговавших там. Мама уверяла, что тащиться туда – мука, век бы этот рынок не видеть, но они долго, – бывало, около часа, – ждали рейсового автобуса под гнилой крышей деревянной остановки, похожей на разрушающийся теремок. Теперь, много лет снимая квартиры на окраине Москвы или вовсе за пределами, до которых от метро приходилось долго добираться на автобусах, маршрутках или электричках, он знал, что идти от вокзала до его дома до смешного мало – десять минут по прямой с горы, и вот он уже окажется на нужной ему Речной улице, которой заканчивается город Боголюбов, превращаясь в пустынное поле.
Странное ощущение: все пять часов в автобусе он обдумывал свои рабочие задачи, мысленно возвращался к повреждённой в квартире дверной ручке, за которую хозяйка непременно спросит, плохо работавшему старенькому ноутбуку – лишь бы не сломался в поездке, – к множеству неприятных, грустных или деланно-безразличных разговоров с Таней, к своему решению съездить уже наконец-то этой зимой, пока дешевле, куда-то в Европу в одиночестве; но стоило выйти сюда, на этот окруженный с трёх сторон посадкой тощих, болезненных, сплошь рыжих уже берёз провинциальный вокзал, с ползущими под действием ветра по неровно уложенному асфальту упаковками от мороженого и чипсов, кривым киоском с прилепленным на витрине выцветшим на солнце до прозрачности плакатом-рекламой шоколадного батончика, оставшимся, кажется, с его детства – и словно других мыслей и дел никогда у него не было, как не было суетливой, огромной, равнодушной Москвы, интересной работы, этой сложной, глупой, утомительной женщины… Словно всегда было детство, без определённых планов на вечер, и только оглушительная тишь кругом, мягкое спокойствие, о которых можно не тосковать совсем, или даже радоваться, однажды избавившись, но вдруг, войдя в самое сердце этой жизни, нельзя не поразиться, как это всё на самом деле было любимо и необходимо.
Солнце садилось рано, и город откуда-то свыше заполнялся серебристыми, осенними сумерками, с летящей в предзакатном сиянии паутиной, розовыми пятнами на стенах и окнах, повёрнутых к западу, расплывчатым оловом на горизонте и ослепительным шаром, на прощанье подмигивавшим в просвет между храмом и колокольней, то потухавшим, то вновь вспыхивающим по ходу движения. Прохожих было до смешного мало, машин – чуть больше. По зебре не спеша шёл толстый мужчина в жилете со вздувшимися карманами поверх футболки, неся в руках стеклянную бутылку пива: пронизанная последним лучом заходящего солнца, когда вдруг нечаянно оказалась у него на пути, она вспыхнула золотом и тут же погасла, вновь стала тёмно-коричневым стеклом. Саша шёл вдоль дороги, ни о чём уже особенно не думая, сопровождаемый рядом высохших рябин, заглядывая в сумеречные окна, в некоторых из которых уже зажгли свет, и казалось, что именно там сейчас – самый уютный уголок на всей Земле. Заглянул и во встреченные приоткрытые ворота – там доцветали рыжие бархатцы, желтели наскоро заметённые и уже снова размётанные ветерком осенние листья, возле перевёрнутой тачки остервенело чесала подбородок задней лапой худая чёрная собака, ничем не отличимая от голодной и грязной бродячей, стоял новенький трёхколёсный детский велосипед с ярко-красным капюшоном. Везде было странное ощущение аккуратной, неприхотливой и очень скромной жизни, сдерживавшей натиск наступавшего запустения, хотя красивых, богатых домов в городе тоже выросло много.
Он прошёл пивную, аккуратно сложенную из красного кирпича, с большой картонной рыбой, прибитой к крыше вместо вывески, и гигантской кружкой с вытекающей до земли пеной из папье-маше, встречавшей посетителей на просторном каменном крыльце; отметил новый светофор у пешеходного перехода, где раньше в оживлённые обеденные часы приходилось особенно внимательно и резво перебегать дорогу, а теперь висела специальная кнопка; ещё пивную, помещённую в прежнее здание продуктового магазина – на сей раз старенькую, облезлую, совершенно без ремонта, с намалёванными красной краской словами «Разливное пиво» на большом плакате, смотревшем на прохожих из-за давно не мытого стекла витрины; серый, советский, почти без окон местный Дом культуры, где, кажется, шёл ремонт, потому что на верёвке по стене медленно сползал со шпателем мужик в костюме цвета хаки. Прошёл и вход в монастырь: рядом было припарковано несколько машин, сидели на земле, а двое – в инвалидных креслах, – и оживлённо болтали между собой пятеро грязных, полупьяных нищих с жестяными кружками для подаяний в руках; поодаль от них расположилась на раскладном стуле, широко расставив отёкшие ноги в рейтузах, дородная женщина, перед которой лежала перевёрнутая соломенная шляпа, и сама она громко кричала в телефон: «Мясо достань из холодильника, поставь размораживать! Авось, к ночи успеет, так я назавтра гуляш сделаю». В распахнутом въезде виднелись яркие кудри цветников, разделявших аккуратные, крытые брусчаткой аллеи, а прямо по центру композиции женщина в длинной юбке истово кланялась, обернувшись на храм, и крестилась. В небе кружили стаи ворон, то возвращаясь ровным клином к отражавшим заходящее солнце куполам, то разлетаясь со склочным шумом в разные стороны, и снова собирая строй в идеально ровную линию. Небо на глазах теряло краски, бледнело, оставляя лишь розовую кайму, обрамлённую прозрачно-голубым отсветом, переходящим дальше в спокойный синий цвет, и чёрный, будто выведенный простым карандашом на этом акварельном фоне, высился строительный кран – неожиданный гость здесь. На территории монастыря всегда что-то возводилось.
Но вот, на самом оживлённом, единственном в городе регулируемом перекрестке, он свернул влево – здесь была низина, от близкой реки веяло могильным холодом, сумерки уже опустились, листья с деревьев тут почти облетели, оставив лишь голые ветви и обманчивое ощущение ранней весны. Ещё одно здание, обшитое грязно-жёлтым сайдингом, без окон, но с плакатом: «Пенка», – на котором пузырилась из бокастой пивной кружки белая пена; пустырь, как выбитый зуб, посреди ладных и стройных, с пластиковыми окнами и металлическими воротами домов; сброшенные в кучу доски недоснесённого старинного, позапрошлого века постройки дома, с красивым мезонином – его он помнил хорошо, там жила его одноклассница и были поразительной красоты кружевные наличники; теперь и их, и мезонина не было, но наружные стены с оконными проёмами остались целыми, и изнутри доносился терпкий запах мочи; огромный, в три обхвата тополь, который постеснялись спилить и проложили асфальт тротуара в обход его, с выемкой. На внешнем подоконнике углового дома сидела, округлившись, надувшись, спрятав под себя лапы белая кошка с чёрными пятнами. Саша прошёл мимо, и она резко вскочила, недовольно огляделась, спрыгнула на некрашеный частокол палисадника, пробежала к зелёным дощатым воротам, легко вспрыгнула на них и пропала – только белый хвост немного дольше колыхался над калиткой.
Асфальт кончился, и по неровной, неудобной, сильно пылящей кроссовки щебёнке нужно было спускаться вниз, прямо в простиравшееся впереди поле, упиравшееся в рыже-коричневый ряд деревьев, что огораживали реку от жилого мирка. Его дом располагался на самом краю города, здания там были только на одной стороне улицы, а другая представляла из себя луг, где когда-то жильцы сажали картофель и тыквы, но теперь забросили.
Здесь не менялось ничего. Пустота, тишина, откуда-то издали, из других миров доносящийся звук жизни, вечная грязь – вместо дороги две проезженные редко появляющимися машинами колеи, а посредине тропка травы, – ветхие, заваливающиеся кто внутрь, кто вовне заборы, старенькие, бесцветные домишки. Он вдруг ощутил волнение, странный замирающий в сердце холодок, как бывало в последний раз, наверное, перед ответом на экзамене или перед первым свиданием в юности, подходя к своей, точно знакомой зелёной калитке со сбитым наспех, когда ему было пять, временным почтовым ящиком, прикрученным проволокой тоже при нём, с белой краской намалеванной цифрой 12, почти стёршейся. Взялся за железный рогалик ручки, которая управляла привинченной с обратной стороны щеколдой, и, как всегда, не мог ни с первого, ни со второго раза сладить с ней: пришлось долго бренчать и стучать, прежде чем калитка подалась вперёд и с тяжелым скрипом в маленькую щель впустила его, быстро захлопнувшись за спиной, словно проглотила.
И тут, во дворе, всё было то же. Высохшие колокольчики в автомобильной шине, наспех покрашенной одним расползающимся слоем мутно-голубой краски, сонное ворчание кур в почерневшем от сырости курятнике. Криво спиленная доска была положена на ржавое ведро с одного края и канистру из-под машинного масла с другого – вместо скамейки. Забор, огораживающий посадку клубники от места для выпаса домашней птицы, был сделан из связанных между собой спинок старых панцирных кроватей – их отец больше двадцати лет назад принёс домой, когда ещё работал сторожем в интернате. Через весь палисадник тянулась огромная простыня на бельевой верёвке, с большой синей заплатой ровно посредине. Окна, обращённые к заходящему солнцу, переливались золотым и малиновым, пронизывая поднимавшуюся с земли густую тьму, и было неясно, горит ли в них свет, занавешены ли шторы, ждёт ли его кто-то.