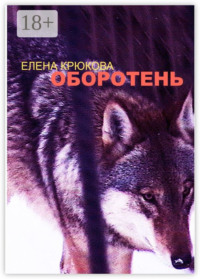Kitabı oxu: «Оборотень»
Дизайнер обложки Владимир Фуфачев
© Елена Крюкова, 2021
© Владимир Фуфачев, дизайн обложки, 2021
ISBN 978-5-0051-7170-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ОБОРОТЕНЬ
Все имена, персонажи и события вымышлены.
Любое совпадение
с реально существующими людьми
случайно.
Не дадите святая псомъ,
ни пометaйте бисеръ вaшихъ предъ свиньями,
да не поперyтъ ихъ ногaми своими
и врaщшеся расторгнутъ вы.
Евангелие от Матфея,
глава 7, стих 6
Пускай земля обагрена кровью —
Луна сохраняет белизну своего света.
Виктор Гюго, «Отверженные»
ФРЕСКА ПЕРВАЯ. ВЕЧЕР У КАМИНА
Огонь в камине горит ярко, дрова громко трещат, так, что я вздрагиваю, старые и молодые друзья мои, спасибо, что собрались и что меня позвали, да, славное развлечение в наши страшные времена, вы от каждого гостя ждете историю, историю его жизни, это вы здорово придумали, рассказывать истории, да не вы первые придумали это, но это все уже неважно. Важно то, что я пока живая и пока могу рассказать вам правду, как оно все со мной было. Пока! Ну да, пока. Завтра я умру, и мне надо успеть рассказать вам правду. Но вы же не мой Страшный Суд, правда? Не мое строгое и справедливое судилище? Ах, все для всякого суд? Но это же человеческий суд, не Божий. А есть еще и Божий Суд. По крайней мере, так говорят. Говорили, простите. Говорили когда-то. Вы меня позвали, чтобы я здесь, у камина, на этой печальной, заброшенной даче, срубовые стены все в иероглифах жука-точильщика, ах, старинная красота, все заткано серебряной паутиной, на старом беззубом пианино горят мощные свечи в позеленелых шандалах, на столе чудеса из чудес, забытое волшебство, ах-ах, ноздри мои уже танцуют, слюнки текут, жареная утка в яблоках и хорошее красное вино, да, чтобы я здесь, при огне и давно погибших драгоценных яствах, может, они мне только снятся, рассказала вам историю, и этим приглашением, и этой невинной просьбой вы разбередили во мне рану. Она, старая уже, все еще свежа, и болит, и еще будет болеть. Будет ныть, болеть и ужасать меня до скончания века. Чьего? Моего? Или нашего, общего? Да плевать на меня! Кто я теперь такая! История эта не закончена, она длится и длится, так же, как длюсь и длюсь я, и, значит, я не имею права вам ее рассказывать до конца. И потом, она такая печальная! Такая ужасная! Вас оторопь возьмет. Ах, не боитесь? Правды моей не боитесь? Ну тогда вперед! Труба зовет!
Я развлеку вас! Повеселю! А что, печалью тоже можно повеселить. Старинный клоун, он ведь плакал на арене. А люди в цирке смеялись. Вот и вы посмейтесь. Смейтесь! Начинайте!
Вы думаете, я живая? Ну да, если хожу, дышу и бормочу, значит, живая. Это не так. Живая я была там и тогда, когда мерила крупными и веселыми, молодыми шагами мою родную землю в моем родном городе. О, какой это был город! Сейчас он разрушен. Скелет остался от него. Камни мерцают осколками и пылью, и плакать нельзя. А раньше в густо-синее, чертовски синее, о нет, Божественно синее мартовское небо взлетали с храмовых крестов стаи голубей, и купола за ними в зенит жадно, завистливо взмывали, слепя, обжигая зрачки и щеки нестерпимым, парчовым, царским золотом. А то еще, знаете, у церквей сверкали в кубовой сини купола алые, витые, оранжевые, полосатые, как ханские халаты! Как тигровая хищная, несчастная шкура! С нас со всех шкуры содрали. Мы давно уже – шкуры. Не люди. Кому надо, может меня, старую рухлядь, взять, на меховинки разрезать, разодрать, и в них закутаться. Из меня – себе шубу сшить. Нищая шубенка-то выйдет, да все согреет в мороз.
Ах, город мой! На горбе земляного медленного верблюда над широкой ледяною рекой! Башни из алого твердого кирпича, Божьи козинаки, зима не разгрызет, время не укусит, метелки голых тополей голое небо на ветру метут, а сугробы в марте так сияют – белые жгучие фонари в детском, леденцовом цирке. Людская жизнь, злой цирк! Клоунада! Вдоволь мы все накувыркались. Без лонжи. Без батута. Одна война, другая. Кто больше? Кто на кон еще одну битву бросит? Кости раскинет? Не хотите? Как хотите. А я так помню мой город – его небритых бродяг и его священников в черных, закопченных на огне молитв рясах, его молотобойцев, вразвалку идут с завода после тяжелой смены, его рыбарей, в бушлатах и забродных, до самых чресел, заляпанных илом сапогах, с кружевом сетей, пахнущих болотиной и мокрой чешуей, за могучими плечами… его музыкантов, что с футлярами, спотыкаясь, спешили, торопливо семенили на репетицию в филармонию, в сахарный дом со снежными, нежными колоннами, призрачными и прозрачными стражами на границе сна и музыки, а что там у них пряталось в черных футлярах, никто никогда не узнал. Сладкое созвучие? Желанный поцелуй? Общий, дикий, последний вопль до неба?!
Милые, я жила в этом городе, у меня был стол и кров, была семья, и я любила ее. И я любила свой город – иногда он оборачивался ко мне через плечо, и вместо синих небесных глаз и белых сугробных щек, нарумяненных ярким заречным закатом, я видела узкий разрез смоляных очей, широкие темные брови вразлет: это над холодной рекой летел коршун, а может, ястреб, а может, канюк. Степь глядела на меня из-за плеча, исподлобья. Я слышала жесткий, глухой топот подков. Древняя мертвая война бередила сердце, а в ночи кровью загорались неоновые вывески живых пельменных и танцующих ресторанов, надменных домов моды и шкодливых винных погребков, и ледяные манекены жестоко щурились на прохожих, держа в картонных пальцах на отлете крашеные сигареты, и ночные мои люди опять спешили, спешили жить и наслаждаться. Я иной раз хотела разделить их тревожную жажду сладкого, дымного и пьяного. Верность и судьба останавливали меня. Ты свое отгуляла, шептала я себе, так попостись теперь, иди вперед гордо, не оглядывайся. Не оглядывайся назад.
И шла я по городу, не оглядывалась назад, а мне глядели вослед, мужчины и старики, мальчишки и девчонки, дети и старухи, мой народ глядел вослед мне, и кто-то кричал мне в спину: шалава! – а кто-то хрипел: модница! – а кто-то плевался: нищенка! – а кто-то цедил: выскочка! – а кто-то восхищенно вздыхал: красавица!
И все это был мой город. И все это была я.
И, знаете, красные башни моего Кремля тоже глядели мне вослед пустыми глазницами, а ветер вертел на их островерхих шлемах старинные флюгера в виде стальных штандартов; менялся ветер, менялось время, менялась я, и ничего неизменного не было на моей родной и вечной земле.
Не явиси, душе моя бедная, стоцветная, по Твой, Боже Всезрящий, достойный совет… аще не разруши, лохань медная, мати многодетная, злообещанный, хитрости патокою зело улещенный, обесчещенный Адом завет. Ах, царя-государя, над костром петушишку изжаря, Господь топором обезглави за красную гордость, а тебя, сироту, во плясицыной паре да вовек не постигнет диавола злобность! А может статься, то злоба людская! и ее не измерити ни стадом, ни ладом, ни ядом, рыдая от края до края! И ныне, о друже, молюся: любовьюшка, светлый мой Рай, будь мне чистым духом… сияющим снежныим пухом… подобно Богу Господу твоему, на Кресте умирай… а потом оживай, воскресай…
Что, люди, говорю красиво? А что, красиво говорить – грешно? Спасибо, что вы меня слушаете. И, надеюсь, понимаете. Тише, тише, все вранье: я уже ни на что не надеюсь. Говорю красиво, потому что всю жизнь из смеха своего и слез творила красоту: сочиняла стихи.
Я пишу стихи, вот грех какой. Это так обычно. Так привычно человеку. Я их из древности вольно пишу, едва от любови дышу, из разверстой земли нежных времен, из горностаевых снежных пелен вырастают они, мои грешные, безбрежные ночи и дни. Красивая музыка, сама в слова складывается. Мир от века зарифмован, только не знает об этом. Каждый пишет стихи. В детстве, в юности. Потом прекращает их писать. Я навек осталась ребенком и писать стихи не прекратила. Стихи казались мне золотой горой: на нее надо обязательно взобраться, чтобы оттуда, с горы, увидеть мир, в котором живу. Потом я слушала, как стихи тихо текут в моей крови. Они толкались, вместе с кровью, в горячие пальцы, в кулаки, разрезали грудную клетку, взрывали лоб. Над моей ночной головой вставало ослепительное сияние, и я дрожала от страха и страсти, спеша записать слова – на чем угодно: на обложках книг, на обрывках бумаги, однажды торопливо, вслепую, черкала ручкой по старой рваной газете, впотьмах, а потом утром еле разбирала каракули, восстанавливая полночную музыку. Я сама становилась стихами, и это было то счастье, то горе, но я уже не была собой: я была всеми ими, этими словами, то беспомощными, то могучими, они мощным огнем выедали меня изнутри. Черкала так, черкала по бумаге, даже институт окончила, где на поэта учат, такой только в моей стране имелся, в столице, я в столицу поехала из своего веселого города на широкой холодной реке, в том институте испытания прошла благополучно и училась там шесть долгих лет. Ничему не научилась. Хотя учителям благодарна. Они были великие, мои учителя. Но – каждый сам по себе. А я сама по себе. Стихи мои сами рождались и сами умирали. Умирали те, которые я на стороне услышала, с чужого голоса старательно, ученица, списала. А мои-мои, самые-самые, кровные, дерзкие, услышанные внутри, а не снаружи, – оставались жить.
Оглядываюсь отсюда – туда: на себя. Странной сама себе кажусь. Думаю, в зеркало погляжусь, а это глядятся в меня. Глазом краснее огня: то ль кистеперая рыба, а то ли царский, пожарский гусь, от слез огнем-ладонью утрусь, гляди, мое зеркало, в живую, пламенную меня. Гляди, слепое зерцало, как, зрячая, жизнь начинаю сначала. Зеркало, на зимнем покрове босиком стою вечная я, сама себе небесная семья, яркая, жаркая буква Ять. Тебе – меня – не догнать.
А прежде чем начать стихи слагать, вы этого тут никто не знаете, так я уж вам скажу, я ведь музыкантом много лет была. Музыке меня родители учили. С малых лет. Купили черное мрачное пианино и поставили в доме, посреди гостиной. Я осторожно подходила к пианино. Оно казалось мне черным сараем: сейчас откинут крышку, втолкнут внутрь и замкнут на ключ. И поминай как звали. Я, едва дыша, подходила близко, близко и касалась пальцем клавиш. Они пели, гудели радостно. Я смеялась. Быстро играть научилась. Будто еще до рождения на пианино играла. Меча гневной музыки мне не отринути, из груди копия пламеннаго не вынути; во мраке диавол завидует искусному игрецу… а я, ослепши от чуда, мимо горя и блуда ко звукам, огненным мукам, иду, как к венцу… И в столичной Консерватории я на музыканта выучилась: на многих инструментах исполнять музыку могла, и на рояле, и на органе, и на клавесине, и на блокфлейте, и на челесте, и на гитаре, и петь научилась по всем правилам, вокалом со мной занимались славные певцы, и даже класс музыкальной композиции посещала, музыку пыталась сочинять, и обнаружила там, что законы рождения искусства одни: для черных, небесных ласточек, летящих нот, и для корявых, ржавых людских букв.
Знаки, буквы, буквы, знаки… все есть символ. Знаки горят, передвигаются, перемещаются, их слишком много, чтобы их вместил наш жалкий разум. Знаки постигаются не умом. Я сидела в темном классе за органом, это был малюсенький смешной, будто игрушечный органчик; рядом, по снегу лишь тропку перебежать, в Большом зале Консерватории возвышался громадный орган, ледяная гора, грозный айсберг, а я плыла, ненастная ученица, в своей маленькой лодке, отчаянно нажимала ногами на огромные деревянные клавиши, поднимала тяжелые весла регистров, елозила руками по скользким клавишам, черным и белым, в глазах моих стояли слезы, делая меня беспомощной, слепой, и не было мне пощады, потому что я знала: я должна звучать. Чем? Нотами? Иными знаками? А разве человек звучит написанным, нацарапанным? Он звучит только тем, что у него внутри. И никто никогда не слышит этой музыки. Все остальное – да! все! все, что вырывается из тебя вон! – это чепуха. Твою музыку слышишь только ты. И Бог. И в тот миг, когда ты ее слышишь, ты и есть Бог.
А потом ты забываешь, что услышал. И плачешь. Плохо тебе! Томно! Ничего не вернешь.
Любые знаки могли быть напечатаны. Оттиснуты. На бумаге в гремучих жарких типографиях; а еще в иллюзорном неведомом мире, что тогда красиво и хищно звался Сетью; мы все уже привыкли к ней, к Сети, будто она была всегда. Мои стихи печатали, их читали люди; кто хвалил, кто ругал, мне было все равно; мое дело было – записать, что слышу и вижу, и людям отдать. Живите среди людей! Плывите, летите, слова! Как вы там будете жить одни, без меня, это уже не мое дело.
Я стала, кроме стихов, на музыку похожих, писать еще большие толстые книги о том, о сем. О человеках, о богах, о мире, о войне. Даже о Граде Небесном Иерусалиме книгу написала; он мне снился, сияющий. Я записывала сны, но из редких снов я делала книжку. Записывая сны, я тайно запечатлевала Мир Иной. Он привлекал меня. Я не знала туда дороги. Я сама прокладывала ее. Одна из моих книг была посвящена Великой Блаженной: в этой книге Великая Блаженная ходила по дорогам земли и жизни и любила людей. Больше ничего не делала, только любила. И эта странная женщина в мешке вместо платья учила меня любить людей. Юродиво, пылко, велико. И я садилась рядом с нею, утомив быстрые ноги, под громадным, как звездное небо, дубом у дороги, и ела блаженный черствый хлеб и блаженно плакала вместе с ней.
О, Владыко Боже Святый! Убей аггелов проклятых! Царю вечный, Царю вышний, яко орля, над небесною крышей Ты лети! Твое величье в облацех поет по-птичьи! Так звенит капелью вешней! Слезкою по всех по грешных! Вышний чин Твой недостижный, недозримый, непостижный! Благость Твоя неисчетна… милость Твоя неизреченна… Окорми мя, Ты услышь мя, не дай умереть, Всевышний! А захочешь взять ко звездам – вбей в мои ладони гвозди! Вбей в ступни святую муку! Протяни из облак руку! Грешное, в крови, белье… Царствие подай Твое… Сердце Твое исцелую… Жизнью всей Тебя люблю я… Господи, на небеси… душу грешную спаси…
Подрастали наши сыновья, наши веселые мальчики, становились юношами, потом мужчинами, уезжали в другие города, возвращались, плакали, скитались, клялись и предавали, смеялись и исповедались, искали себя и снова теряли, а я все так же подходила к их кроватям ночью, и все так же крестила их, спящих, впередсмотрящих, и все так же тихо, неслышно, чтобы не проснулись, плакала над ними от великой любви.
Любовь! Куда она ушла? Где она была теперь?
А может, она была тут, рядом, только я не видала ее в лицо?
А может, видела, каждый Божий день и всякую Божию ночь, когда в туманное, серебряное зеркало слезно глядела…
Друзья мои, а вы что, разве не знаете, чем я занималась все эти годы, во все это страшное и прекрасное давнее время? Ну да, конечно, не знаете; вы меня не знаете. И я только льщу себя бедной, бешеной надеждой, что тогда, там, давно, меня знали. Нет! Не знали. Никто не знал никого, а мы не знали свою родину. Ведать не ведали, что она нам приготовит. Что состряпает, чем угостит нас наше время. Да ведь времени нет, его и не было никогда, а мы все только и делали, что пытались друг другу доказать: есть, есть! И время есть, и вечность есть! Оказалось на поверку – нет ничего. Ничего, за что можно было зацепиться хоть краем сознанья, краем сердца. Прежняя родина рушилась, истекала красными знаменами нашей дешевой крови, новая, дико визжа, в проклятых потугах продиралась на свет, и я, видя преждевременную смерть и преждевременные роды, пела о них невозвратные песни – о том, как моя земля гибнет, а новая нарождается и все никак не может родиться, и повитухи утомились, вспотели, в голос ревут, утирают щеки и мокрые лбы. «Не умирай!» – так назвала я книгу стихов, что сложилась в те годы. Откуда мы все вышли? Куда идем? Да разве вы не помните эти, вот эти мои стихи, их напечатали на желтых, старых, ломких, как печенье, страницах в те баснословные года не раз и не два, и чужие люди, завывая, читали их со сцены, да я и сама громко читала, с выражением, – да, в те поры я не только играла музыку на сцене, но и осмеливалась стихи свои читать, в микрофон или без него, голос мой громкий летел вдаль, летел над залом, надо лбами и затылками, а бывало, и над широкой площадью, запруженной народом: меня приглашали читать мою бродячую, скоморошью поэзию на цветные народные праздники, я сначала смущалась, отнекивалась, потом попривыкла, приближала лицо к опасной железяке и закрывала глаза, как перед поцелуем, будто хотела через тот нелепый, железный, горьким гулом гудящий огурец всех людей на гулкой, как море, площади – поцеловать.
Не помните? Да вот же, слушайте!
…останови! Замучились вконец: хватаем воздух ртом, ноздрями, с поклажей, чадами, – где мать, а где отец, где панихидных свечек пламя, – по суховеям, по метелям хищных рельс, по тракту, колее, по шляху, – прощанья нет, ведь времени в обрез! – и ни бесстрашия, ни страха, – бежим, бежим… Истоптана страна! Ее хребет проломлен сапогами. И во хрустальном зале ожиданья, где она, зареванная, спит, где под ногами – окурки, кошки, сироты, телег ремни, и чемоданы, и корзины, – кричу: останови, прерви сей Бег, перевяжи, рассекнув, пуповину! Неужто не родимся никогда?! Неужто – по заклятью ли, обету – одна осталась дикая беда: лететь, бежать, чадить по белу свету?! Ползти ползком, и умирать ничком – на стритах-авеню, куда бежали, в морозной полночи меж Марсом и стожком, куда Макар телят гонял едва ли… Беги, народ! Беги, покуда цел, покуда жив – за всей жратвою нищей, за всеми песнями, что хрипло перепел под звездной люстрою барака и кладбища! Беги – и в роддома и в детдома, хватай, пока не поздно, пацаняток, пока в безлюбье не скатил с ума, не выстыл весь – от маковки до пяток! Кричу: останови!.. – Не удержать. Лишь крылья кацавеек отлетают… Беги, пока тебе дано бежать, пока следы поземка заметает! И, прямо на меня, наперерез, скривяся на табло, как бы от боли, патлатая, баулы вперевес, малой – на локте, старший – при подоле, невидяще, задохнуто, темно, опаздывая, плача, проклиная… Беги! Остановить не суждено. До пропасти. До счастия. До края.
А-а-а-а-ах… ничего, что я так долго читала? Весь стих вам прочитала. Весь! Иначе вы, друзья мои, ничего в истории моей не поймете. Здесь надо, чтобы все знаки прочитывались до конца. А чуть споткнешься где, чуть не так улыбнешься – и все, пиши пропало, родится сразу уродливая двойня – ложь и осужденье: знаете, люди любят врать, судить и осуждать, что в те времена, что сейчас, люди всегда одинаковы. И в древности гуляли сплетни. И в старые времена – ненавидели. Да еще как. Люто. Как звери. Нет, злее зверей.
Самое страшное для человека – открыто любить, щедро прощать и говорить правду.
Ненавидеть, осуждать и лгать гораздо легче. Гораздо!
А что такое легче?.. легче легкого… птичье перо… улетает… тает…
А в те годы, страшные и прекрасные, когда одна родина гибла, а другая нарождалась, я вышла замуж, и вышла счастливо, муж мой, художник, добр был и ласков ко мне, а картины писал удивительные, я удивлялась им тогда, удивляюсь и сейчас. Он прикатил ко мне из Сибири, из Ворогова, от бурливого, бешено-зеленого даже зимой, в морозы, великанского Енисея, ото льдов и черных пихт в тайге, и картины его мерцали древним, первобытным огнем. Муж художник, я поэт, счастье есть, а денег нет! И вот пришли мы с мужем на выставку. Ходим среди картин. Глядим, дивимся, впечатлениями делимся. И вдруг из соседнего зала слышим тонкий женский голосок: незнакомка читает стихи! А может, знакомка! «Пойдем послушаем, – говорю я мужу, – кто-то из наших поэтесс, сейчас узнаю, чей голосок, да, Ветка, точно!» Вошли мы в соседний зал. И точно – посреди зала стоит она и читает стихи. Поэтесса местная. Виолетта Волкова.
Кудрявая; белокурая, а на солнце даже рыжая; копна буйных волос гуще Бахова парика; матрешечно-румяная; губки сердечком; морщинистая шея густо обмотана роскошным сверкающим ожерельем. В те времена о ней в бульварных газетенках писали, под ее кучерявыми снимками: «ВИОЛЕТТА ВОЛКОВА, СВЕТСКАЯ ЛЬВИЦА».
А муж мой прислушивается к голоску, а тонкий пронзительный голосок взлетает ввысь, тонкой сверкающей иглой прошивает душный воздух зала, и изумленно шепчет мне мой муж, и руку мне крепко сжимает, до кости: «Леля, стой, слушай, ведь это же твои стихи!» Как это мои, спрашиваю, почему это мои? «А потому, – отвечает муж, он-то все мои стихи уже знал наизусть, – что – твои! Только – переделанные!»
А голосок все выше и выше забирался, обращаясь на высоких нотах в щенячий визг:
…баулы и кули он волочил, толпой валил и забывал про милость, на край земли бежал что было сил, – народ, народ мой, что с тобой случилось?! Сорвался с места, бросил теплый дом, и – на вокзал, с котомкой за спиною, и в ожидальном зале, где Содом, в ковчеге спишь, ты весь подобен Ною! Как хищно рельсы зимние блестят! А ты с детьми, корзинами – все мимо… Остановись! – но крик мой ветром смят, и снова я кричу: куда, родимый! Кричу, но никогда не докричусь! Прерви свой бег! Отец и мать далёко! Опять вокзал, и слезы из-под век, котомку развяжи, так одиноко! Достань в пакете нищую жратву! Поужинай! Поплачь о наших детках! Сон посмотри кошмарный наяву: перрон плывет, в вагоне люди – в клетке… Кричу: остановись, куда, куда! Куда там! Ты бежишь, меня не слышишь! Народ, народ! Деревни, города! Бежишь ты по земле, бежишь и выше! Беги, пока бежать тебе дано! Пускай тебе стреляют в грудь и в спину! Ты победишь, народ мой, все равно! Ступая к трону иль ступив на мину!
Тонкий верещащий голосок оборвался, и, как в самолете, отложило уши. Люди захлопали в ладоши. Я все прекрасно поняла, ну вот все-все, сразу. А что тут было понимать?
Я почему-то, друзья мои, в тот миг страшно смутилась. Ну да, услышала, конечно, все знакомые ноты и все репризы; себя, как в зеркале, узнала. Будто бы я сама стих свой написала по-английски или там по-французски, а его взяли и ловко, за руку через ручей по шаткому мосту, перевели на русский. Обработали умело. Почему я смутилась, спросите? А стыдно мне стало за Виолетту. Жутко стыдно! Будто это я сама Виолетта, и я сама – у Ольги Ереминой – то есть у себя, ну, у меня, ну, вы поняли, – стишки украла и на иной мотив переложила.
Мне всегда за других бывает стыдно, если вижу какое непотребство. Человека не родишь обратно. Мама, роди меня обратно, так не бывает. Каждый на земле живет как умеет. И любит как умеет. И предает как умеет.
И что, спросите? А ничего. Тогда, много лет назад, все закончилось ничем. Я махнула рукой беспечно. «А, наплюй, – говорю мужу, – с кем не бывает! Ну, понравился ей мой стишок, ну, поигралась она с ним. Ну и все! Поигралась и забыла! Пойдем дальше картины смотреть!» Муж не унимается. «Но это же воровство!» – говорит. Я ему: «Не воровство, а подражание! Ну пусть, пусть немного поподражает Ереминой! На пользу ей пойдет!» Мы даже немного в том зале постояли, Ветке Волковой вежливо похлопали. За руки взялись, дальше идем по выставке, картины в нас летят жар-птицами. А потом отошли, и – в смех. Смеемся уже оба. До слез. Муж первым смеяться бросил. «Я бы, – говорит, – Лель, ей все-таки врубил. По первое число. Нельзя так! Погано это!» Я опять рукой машу: брось! Ерунда! Не плагиат же!
«Это хуже, чем плагиат, – обронил муж. – Это – подлее. Вот представь, вы две рыбачки. И стоите рядом, на одном берегу. И у тебя улов знатный, а у нее в ведре куча мелких рыбешек. И она на твое ведро косится. И ты отвернулась, а она – р-раз! – и лапу, пардон, руку в твое ведро сует! И твою крупную рыбу – цап! – и себе в ведро бросает. И другую, и третью! А потом взахлеб хвастается: ой, люди, глядите, сколько я-то наловила! На хорошем месте стояли! Обе! Рядышком! Благодатное местечко! Отменная рыбка!» Я слушала, не перебивала. «И вот то, за что ты платила потом, смехом, слезами, кровью, жизнью, в ее ведре становится – просто добычей. Добычей! Только добыла она ее не из реки жизни, а – у тебя в ведре. Понимаешь?»
Я кивала. Понимаю, шептала я мужу, но давай забудем!
Милые, люди мои… друзья мои… разве я знала, что потом-то будет…
Ветка, Ветка… издали я эту кудрявую тетеньку сто раз видела-слышала, помнила: в стихах ее изобильно, радужно и призрачно плясали самовары, сарафаны, гроздья рябины, балалайки и гармошки, избы и бани, ромашковые венки, белые березы, гой ты ширь моя родная, васильки цветут во ржи, лучше я тебя не знаю, ты мне правду расскажи, гульбище да ты мое разудалое, а я такая красивая-небывалая, пустись в пляс, в последний раз, ой, не могу, стою на берегу!
Лепешки из опилок… дайте настоящую хлебную плоть! И настоящий речной, рыбный дух! Хочу настоящего парного молока и настоящей земляники! Хочу настоящей, великой земли! Настоящей родины! Настоящей, святой боли и радости! Хочу правды! Искусная ложь, плакатная скука, яркая нелепица; на живых щеках и губах густые мертвые румяна и жгучая помада; крашеный обман на просторах чужих лиц и родных времен; не гневайся, не плачь и не тоскуй, спокойно гляди на бесконечные картонные баранки и бутафорские самовары и смиренно слушай бесчисленные фальшивые сельские хоры: пойте, ребята, голосите, наслаждайтесь, кто в лес, кто по дрова, каждый утешается чем может.
Много лет прошло. Или мало? Может, пять, может, десять, а может, пятнадцать, а может, и все двадцать. Кто тогда считал, кто считает теперь? Выстучи одним пальцем вечную колыбельную на рояле времени. Музыку я оставила ради нищих и царских слов, что писала то в столбик, то в строчку. Я любила огненное слово «художник». Художник, этим словом крещен был человек, свободно рождающий свободное искусство. Муж стоял в мастерской у мольберта, живописец за работой; а я сидела рядом за столом, и стол был завален рукописями, вспыхивал мутным экраном вездесущего новомодного прибора, в его железных недрах могло много чего храниться – от твоих сбивчивых, воробьиных признаний в любви до давящей мощи Всемирной Библиотеки, – а мы трудились, рождали на свет то, чего не было еще никогда; так мы, художники, отрабатывали Богу данный Им непонятный дар. Мне часто говорили: дар – крест! Я мотала головой: нет, дар – счастье.
В шкафах вставали на полках в ряд, как солдаты, книги мои. Муж возил картины по свету, выставлял их под пылающими люстрами в нарядных торжественных залах, и люди восхищались его холстами, а иные не понимали их и плевали в них. Всякое отношение мы видели к созданиям рук своих и сердца своего, и смотрели на это спокойно, хотя, конечно, огорчали нас плевки и поношения, но рядом вспыхивали пылкие признания и чистые восторги. Бренна людская любовь, кратко живет и людское поклонение. А людская злоба и ненависть? Сколько она живет? До старости доживает? И умирает своею смертью? Или злоба бессмертна? Я ничего не знала об этом. Я все время повторяла слова старинного поэта: но ты, художник, твердо веруй в начала и концы. Ты знай, где стерегут нас Ад и Рай. У нас родились дети. Один мальчик и другой мальчик. Как они росли? Не помню трудностей; помню только любовь. Дети взрослели, жили своей жизнью, а мы, внутри своего искусства и своей бедной мастерской, жили своим любимым искусством и любовью своею.
И никто не знал… никто… А можно, я красного вина глотну?.. немного… Вот так… спасибо… хватит. Полный бокал?.. да зачем полный… придется теперь весь пить… до дна… ничего, весь выпью?.. я пить хочу, жажду.
Трудный рассказ получится. Дайте жажду утолить. Это вступление, еще цветочки, горькие ягодки впереди.
О, мои пастухи словесных овец… о, благодарю, Создатель и Творец… за каждый алмаз, за всякий изумруд… словеса бессмертны, это люди умрут… Я вас, овцы мои, я вас тоже пасу… во звездных полях… в заоблачном, незабвенном лесу… хожу-брожу средь тучных полночных стад… дрожащими пальцами рву спелый виноград… топазы, аметисты, цитрины слов… вот сей же час во мраке найду золотую любовь…
…еще отойди назад. На шаг. Всяк человек, даже царь, бедняк. Ты просто спишь. Проснешься когда? Когда под рукой утекут моря, города. Ты просто в забвеньи. Ты просто забыт, древний язык, заклинанье обид. Ты древний народ. Вопишь из пелен. На площади наглой – сегодня – казнен.
Включила я как-то волшебный железный ящик, где вся память мира хранится под квадратным железным лбом, брожу по просторам тогдашней, призрачной Всемирной Сети, и вдруг натыкаюсь на свои стихи. И опять – на переделанные, источенные чужим червем, обданные чужим дыханьем, но – мои! Неужели я бы их не узнала! Да за версту! И читаю, читаю жадно, страшно, и погружаюсь… все глубже погружаюсь в ужас, вязну в нем, выбраться не могу…
Вот мои! Народ, терпения наберись! Мне – за них – не стыдно. Потому что они мои и только мои.
…в этой гиблой земле, что подобна костру, разворошенному кочергою, я стою на тугом, на железном ветру, обнимающем Время нагое. Ну же, здравствуй, рубаха наш парень Норд-Ост, наш трудяга, замотанный в доску, наш огонь, что глядит на поветь и погост Аввакумом из хриплой повозки! Наши лики ты жесткой клешнею цеплял, Мономаховы шапки срывая. Ты пешней ударял во дворец и в централ, дул пургой на излом каравая! Нашу землю ты хладною дланью крестил. Бинтовал все границы сквозные. Ты вершины рубил. Ты под корень косил! Вот и выросли дети стальные. Вот они – ферросплавы, титан и чугун, вот – торчащие ржавые колья… Зри, Норд-Ост! Уж ни Сирин нам, ни Гамаюн не споют над любовью и болью – только ты, смертоносный, с прищуром, Восток, ты пируешь на сгибших равнинах – царь костлявый, в посту и молитве жесток, царь, копье направляющий в сына, царь мой, Ветер Барачный, бедняк и батрак, лучезарные бэры несущий на крылах! и рентгенами плавящий мрак! И сосцы той волчицы сосущий, что не Ромула-Рема – голодных бичей из подземок на площади скинет… Вой, Норд-Ост! Вой, наш Ветер – сиротский, ничей: это племя в безвестии сгинет! Это племя себе уже мылит петлю, этот вихрь приговор завывает, – ветер, это конец! Но тебя я – люблю, ибо я лишь тобою – живая! Что видала я в мире? Да лихость одну. А свободу – в кредит и в рассрочку. И кудлатую шубу навстречь распахну. И рвану кружевную сорочку. И, нагая, стою на разбойном ветру, на поющем секиру и славу, – я стою и не верю, что завтра умру – ведь Норд-Ост меня любит, шалаву! Не спущусь я в бетонную вашу нору. Не забьюсь за алтарное злато. До конца, до венца – на юру, на ветру, им поята, на нем и распята.
О-о-о… Тяжко мне здесь, старой, сейчас, вам, молоденьким петушкам, эти старые стихи бормотать. Ничего, что хриплю? Извините. Старая глотка, изработанная. Сколько концертов… сколько сцен… и вот… себя как в зеркале я вижу, ха-ха… но это зеркало мне… льстит?.. или внезапно разбивается на тысячу осколков, и осколки те, мелкие, злобные, ледяные, впиваются в меня… да норовят – прямо в сердце.