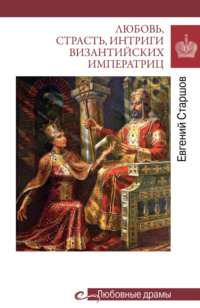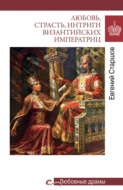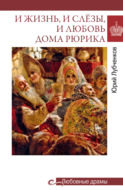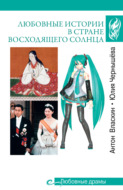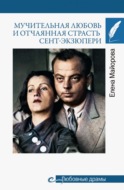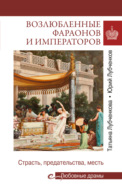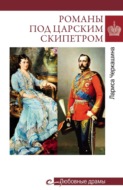Kitabı oxu: «Любовь, страсть, интриги византийских императриц»
© Старшов Е.В., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
* * *

Глава 1. Византийские императрицы. Чувственный мир византиек
Византии, павшей под ударами турок-османов, нет уже почти шесть веков, но ее призрак, проступающий сквозь мистический церковный туман, пленяет по-прежнему сильно – как и в те незапамятные годы, когда великий город Константинополь, для русских – Царьград, столица великой страны, был центром мира, притягивая взоры и мысли народов – ближних и дальних, алчных и восхищенных. Расчетливый арабский купец, привозя драгоценные восточные товары, исподволь примечал, в каком состоянии находятся стены византийской столицы; покинувший свою суровую и неплодородную родину скандинав нанимался в элитный корпус гвардии императора, входя в число «варангов», которых местные жители за их неуемную страсть к вину называли «винными бурдюками василевса»; подавленный увиденной роскошью первый крестоносец уже помышлял о том, как бы всем этим овладеть, а русские ладьи везли вдоль побережья Понта Эвксинского как тароватых купцов, так и воинов, могших прибить свой щит на вратах Царьграда и на века внушить кровавый ужас, запечатленный бойкими перьями византийских хронистов… Всякое бывало за одиннадцать веков.
Олицетворением мощи и власти своей империи был византийский император, василевс. Практически земной бог, разве что не называемый таковым – все же религия Византии – христианство, не те времена, когда эллинистического царя или римского императора именовали богом… Хотя многое от старой психологии и обычаев в этом отношении все же осталось. Неудивительно, коль скоро византийский василевс – прямой преемник диадохов Александра Македонского (а значит, и его самого) и римских цезарей. Византию очень метко охарактеризовали как сложный синтез трех составляющих: римского права, восточной веры и греческой культуры. Так оно и было со всеми вытекающими отсюда достоинствами и недостатками. Факт воцарения снимал с нового василевса все грехи, включая, например, цареубийство предшественника: тогдашние византийцы не мудрствовали – если старый василевс свергнут и убит новым, значит, от него отступился Бог, слава новому царю-батюшке. Христос, Царь Небесный, был соправителем царя земного, и для этого существовал видимый знак – трон василевса был двойным, и шесть дней в неделю он восседал справа, в то время как по воскресеньям – слева, уступая почетное место невидимому Христу. Своего рода напоминанием о бренности жизни и правления служил и мешочек с прахом земным под названием «акакия», который вручали василевсу при коронации. Он часто держал его в левой руке при различных важных церемониях, которыми был столь богат византийский двор… Один арабский историк зафиксировал следующий ритуал с «акакией»: «Царь кладет земли внутрь золотого ларца и держит его в своих руках. Когда он сделает три шага, визирь (такими, привычными ему категориями мыслит автор. – Е.С.) обращается к нему со словами “Памятуй о смерти!” После этих слов царь открывает ларчик, смотрит на ту землю, целует и плачет». «Акакия» была не просто символом, она на самом деле была преисполнена зловещего содержания: из порядка 88 византийских императоров лишь 36 умерли от естественных причин, и то эта цифра может быть и уменьшена, если отравители искусно замели свои следы. В бою пали всего 4, а насильственно устранены – 20; 18 изувечены; 12 свергнутых закончили жизнь в заключении или монастыре, некоторых просто уморили… Издержки профессии!
Но, как известно, за каждым мужчиной стоит женщина. Жизнь и деятельность византийских императриц («василис») по своему драматизму нисколько не уступает деяниям их мужей, благо византийские хронисты и историки не обходили их вниманием, предлагая своим читателям материал равно интересный и нравоучительный. Финал их царствования был, как правило, менее трагичен, чем у их мужей, – по большей части овдовевших или опостылевших василис ждал монастырь, из убитых можно припомнить лишь несколько имен. Не все, правда, мирились с подобной перспективой и вступали в новые браки, сотворяя, таким образом, из очередных мужей новых императоров Византии, но и такие случаи единичны; при этом не было особой разницы, была ль это императрица по крови, как Зоя «Могучая»1, или по первому (и второму) мужу, как Феофано2 – дочь простого трактирщика, чьи истории мы расскажем подробно.

Трапезундский император Алексей III Великий Комнин с супругой Феодорой Кантакузиной. Средневековое изображение
Сразу следует отметить, что сюжет сказки «Золушка» был широко применим по отношению к византийским императрицам. И дело здесь не просто в любви «принца» к бедной девушке; это неудивительно потому, что сами многие императоры происходили из низов, и некоторые из них возводили на трон своих жен, не менее простых: типичнейшая пара – неграмотный иллирийский воин Юстин (дядя Юстиниана), некогда купивший себе в наложницы варварку Лупакию (Лупицину), которая стала императрицей Евфимией, когда и ее супруг стал василевсом Юстином I. Кстати, не исключено, что Лупакия – это не имя, а прозвище, тем более «говорящее», указывающее на ее, скажем так, профессию. Ведь римляне называли проституток «волчицами», «волчица» по-латыни – Lupa, отсюда и «публичный дом» – lupanar. Достаточно вспомнить фрагмент из Тита Ливия, в котором он трактует воспитание полумифических близнецов Ромула и Рема вовсе не знаменитой Капитолийской волчицей, а падшей женщиной: «Рассказывают, что, когда вода схлынула, оставив лоток с детьми на суше, волчица с соседних холмов, бежавшая к водопою, повернула на детский плач. Пригнувшись к младенцам, она дала им свои сосцы и была до того ласкова, что стала облизывать детей языком; так и нашел ее смотритель царских стад, звавшийся, по преданию, Фавстулом. Он принес детей к себе и передал на воспитание своей жене Ларенции. Иные считают, что Ларенция звалась среди пастухов “волчицей”, потому что отдавалась любому, – отсюда и рассказ о чудесном спасении» («История Рима от основания города», I, 4, 6–7).

Императрица Феодора I. Фрагмент мозаики базилики Сан-Витале, Равенна, Италия
Если кому-то это покажется домыслом, следует вспомнить историю Феодоры I, подробно изложенную Прокопием Кесарийским в его «Тайной истории». Сюжет, ставший поистине классическим – артистка-проститутка, ставшая византийской императрицей; все попытки и известного византиниста Ш. Диля, и псевдоисториков «от православия» обелить ее, очернив таким образом Прокопия как источника сведений, не выдерживают критики, ибо даже, скажем так, сторонник Феодоры, историк и еретический епископ-монофизит Иоанн Эфесский упоминает о ней в своей «Истории» не иначе как о Феодоре «из борделя». Приведем фрагмент из сочинения Прокопия – не для «клубничного смакования», «ни в суд или во осуждение», но для прекрасной иллюстрации византийского общества того времени; не жалея дегтя в своей палитре, Прокопий (между прочим, секретарь полководца Велизария, близкий ко двору и посему все прекрасно знавший) тем не менее дает справедливое описание того, как именно социальная несправедливость и нищета подвигли будущую императрицу на торговлю собой:
«Таков был нрав Юстиниана, насколько нам удалось передать это словами. В жены же он взял себе ту, о которой я сейчас расскажу: как она родилась и воспитывалась и как, соединившись брачными узами с этим человеком, она до основания потрясла государство римлян. Был в Визáнтии3 некто Акакий, надсмотрщик зверей цирка (его называют медвежатником), принадлежавший факции прасинов, “зеленых”, одной из двух главнейших партий Византии, другая – венеты, “голубые”, изначально цирковых, а позже – политических. – Е.С.). Этот человек в то время, когда державой правил еще Анастасий, умер от болезни, оставив трех малых детей женского пола: Комито, Феодору и Анастасию, старшей из которых не было еще семи лет. Жена его с горя сошлась с другим мужчиной, который, как она рассчитывала, впредь разделит с ней заботы по дому и по ремеслу умершего мужа. Но орхист прасинов по имени Астерий, подкупленный кем-то другим, отстранил его от этой должности и без особых затруднений назначил на нее того, кто дал ему деньги. Ибо орхисты могли распоряжаться подобными вещами, как им заблагорассудится. И вот, когда женщина увидела, что весь народ собрался в цирке, она, надев трем девочкам на головы венки и дав каждой в обе руки гирлянды цветов, поставила их на колени с мольбой о защите. В то время как прасины не обратили никакого внимания на эту мольбу, венеты определили их [женщину и ее мужа] на подобную должность у себя, поскольку и у них недавно умер надсмотрщик зверей. Как только дети стали подрастать, мать тотчас пристраивала их к здешней сцене (ибо отличались они очень красивой наружностью), однако не всех сразу, но когда каждая из них, на ее взгляд, созревала для этого дела. Итак, старшая из них, Комито, уже блистала среди своих сверстниц-гетер; следующая же за ней Феодора, одетая в хитончик с рукавами, как подобает служаночке-рабыне, сопровождала ее, прислуживая ей во всем, и наряду с прочим носила на своих плечах сиденье, на котором та обычно восседала в различных собраниях. Феодора, будучи пока незрелой, не могла еще сходиться с мужчинами и иметь с ними сношение как женщина, но она предавалась любострастию на мужской лад с негодяями, одержимыми дьявольскими страстями, хотя бы и с рабами, которые, сопровождая своих господ в театр, улучив минутку, между делом предавались этому гнусному занятию. В таком блуде она жила довольно долго, отдавая тело противоестественному пороку. Но как только она подросла и созрела, она пристроилась при сцене и тотчас стала гетерой из тех, что в древности называли “пехотой”. Ибо она не была ни флейтисткой, ни арфисткой, она даже не научилась пляске, но лишь продавала свою юную красоту, служа своему ремеслу всеми частями своего тела. Затем она присоединилась к мимам, выполняя всяческую работу по театру и участвуя с ними в представлениях, подыгрывая им в их потешных шутовствах. Была она необыкновенно изящна и остроумна. Из-за этого все приходили от нее в восторг. У этой женщины не было ни капли стыда, и никто никогда не видел ее смущенной, без малейшего колебания приступала она к постыдной службе. Она была в состоянии, громко хохоча, отпускать остроумные шутки и тогда, когда ее колотили по голове. Сбрасывая с себя одежды, она показывала первому встречному и передние, и задние места, которые даже для мужа должны оставаться сокрытыми.
Отдаваясь своим любовникам, она подзадоривала их развратными шутками и, забавляя их все новыми и новыми способами половых сношений, умела навсегда привязать к себе распутные души. Она не считала нужным ожидать, чтобы мужчина, с которым она общалась, попытался соблазнить ее, но, напротив, своими вызывающими шутками и игривым движением бедер обольщала всех без разбора, особенно безусых мальчиков. В самом деле, никто не был так подвластен всякого рода наслаждениям, как она. Ибо она часто приходила на обед, вскладчину сооруженный десятью, а то и более молодцами, отличающимися громадной телесной силой и опытными в распутстве, и в течение ночи отдавалась всем сотрапезникам; затем, когда все они, изнеможенные, оказывались не в состоянии продолжать это занятие, она отправлялась к их слугам, а их бывало порой до тридцати, спаривалась с каждым из них, но и тогда не испытывала пресыщения от этой похоти.
Однажды, говорят, она явилась в дом одного из знатных лиц во время пирушки и на виду у всех пировавших, поднявшись на переднюю часть ложа, там, где находились их ноги, начала бесстыдно сбрасывать с себя одежды, не считая зазорным демонстрировать свою распущенность. Пользуясь в своем ремесле тремя отверстиями, она упрекала природу, досадуя, что на грудях не было более широкого отверстия, позволившего бы ей придумать и иной способ сношений. Она часто бывала беременной, но почти всегда ей удавалось что-то придумать и с помощью ухищрений вызвать выкидыш.
Часто в театре на виду у всего народа она снимала платье и оказывалась нагой посреди собрания, имея лишь узенькую полоску на пахе и срамных местах, не потому, однако, что она стыдилась показывать и их народу, но потому, что никому не позволялось появляться здесь совершенно нагим без повязки на срамных местах. В подобном виде она выгибалась назад и ложилась на спину. Служители, на которых была возложена эта работа, бросали зерна ячменя на ее срамные места, и гуси, специально для того приготовленные, вытаскивали их клювами и съедали. Та же поднималась, ничуть не покраснев, но, казалось, даже гордясь подобным представлением. Она была не только самой бесстыдной, но и самой изобретательной на бесстыдства. Часто, скинув одежды, она находилась на сцене среди мимов и то наклонялась вперед, выпятив и изогнув грудь, то старалась попасть в зад тех, кто уже испробовал ее, и тех, кто еще не был с ней близок, гордясь тем из гимнастического искусства, что было ей привычно. С таким безграничным цинизмом и наглостью она относилась к своему телу, что казалось, будто стыд у нее находится не там, где он согласно природе находится у других женщин, а на лице. Те же, кто вступал с ней в близость, уже самим этим явно показывали, что сношения у них происходят не по законам природы. Поэтому когда кому-либо из более благопристойных людей случалось встретить ее на рынке, они отворачивались и поспешно удалялись от нее, чтобы не коснуться одежд этой женщины и таким образом не замарать себя этой нечистью. Для тех, кто видел ее, особенно утром, это считалось дурным предзнаменованием. А к выступавшим вместе с ней актрисам она обычно относилась как лютейший скорпион, ибо обладала большим даром злоречия.
Позже она последовала за назначенным архонтом Пентаполиса Гекеболом из Тира, угождая его самым низменным страстям. Однако она чем-то прогневала его, и ее оттуда со всей поспешностью прогнали. Из-за этого она попала в нужду, испытывая недостаток в самом необходимом, и далее, чтобы добыть что-то на пропитание, она стала, как и привыкла, беззаконно торговать своим телом. Сначала она прибыла в Александрию. Затем, пройдя по всему Востоку, она возвратилась в Визáнтий. В каждом городе прибегала она к ремеслу, назвать которое, я думаю, человек не сможет, не лишившись милости Божьей, словно дьявол не хотел допустить, чтобы существовало место, не испытавшее распущенности Феодоры.
Так эта женщина была рождена и вскормлена, и так ей было суждено прославиться среди многих блудниц и стать известной всему человечеству. Когда она вновь вернулась в Визáнтий, в нее до безумия влюбился Юстиниан. Сначала он сошелся с ней как с любовницей, хотя и возвел ее в сан патрикии. Таким образом Феодоре удалось сразу же достигнуть невероятного влияния и огромного богатства. Ибо слаще всего было для этого человека, как это случается с чрезмерно влюбленными, осыпать свою возлюбленную всевозможными милостями и одаривать всеми богатствами. И само государство стало воспламеняющим средством для этой любви» («Тайная история», 9, 1—33).
Сословие трактирщиц, из которого вышла не только Феофано – жена Романа II и Никифора II Фоки, но и мать Константина I Елена, также приравнивалось к проституткам, что будет подробно рассмотрено в соответствующем месте. Все это делается вовсе не из некоего смакования, просто – наглядная иллюстрация тезиса о том, что не только всякая кухарка может управлять государством… Как не оценить тот величайший урок власти, который бывшая блудница Феодора дала императору, – когда Константинополь охватило грозное восстание «Ника» (532 г.) и Юстиниан был уже готов бежать из Константинополя! Прокопий пишет: «Василевс Юстиниан и бывшие с ним приближенные совещались между тем, как лучше поступить, остаться ли здесь или обратиться в бегство на кораблях. Немало было сказано речей в пользу и того, и другого мнения. И вот василиса Феодора сказала следующее: “Теперь, я думаю, не время рассуждать, пристойно ли женщине проявить смелость перед мужчинами и выступить перед оробевшими с юношеской отвагой. Тем, у кого дела находятся в величайшей опасности, не остается ничего другого, как только устроить их лучшим образом. По-моему, бегство, даже если когда-либо и приносило спасение, и, возможно, принесет его сейчас, недостойно. Тому, кто появился на свет, нельзя не умереть, но тому, кто однажды царствовал, быть беглецом невыносимо. Да не лишиться мне этой порфиры, да не дожить до того дня, когда встречные не назовут меня госпожой! Если ты желаешь спасти себя бегством, василевс, это не трудно. У нас много денег, и море рядом, и суда есть. Но смотри, чтобы тебе, спасшемуся, не пришлось предпочесть смерть спасению. Мне же нравится древнее изречение, что царская власть – прекрасный саван”. Так сказала василиса Феодора. Слова ее воодушевили всех, и, вновь обретя утраченное мужество, они начали обсуждать, как им следует защищаться» («Война с персами», I, 24, 32–38).
Происхождение будущей императрицы мало волновало константинопольский двор и в более поздние времена – когда, например, Роман Лакапин, тесть Константина Багрянородного, в Х в. искал невесту своему внуку Роману, когда тому было только еще 5 лет. Он решил остановиться на Берте, дочери короля Италии Гуго. Вот как об этом пишет и особенно как комментирует знаменитый своими записками о Византии епископ и дипломат Лиутпранд Кремонский: «Константинопольский император отправил вместе с послами короля Гуго своих собственных послов, сообщив, что даст ему корабли и всё, что он пожелает, если он отдаст свою дочь замуж за его малолетнего внука, сына Константина, носившего одно с ним имя… Король Гуго, выслушав это посольство, опять отправил к Роману послов, сообщив, что не имеет дочерей от законной супруги, но если [императора] устроят дочери его от наложниц, он может отправить ему одну из них, славную своей красотой. И так как греки при выяснении знатности рода обращают внимание только на то, кто был отцом, а не матерью, император Роман тотчас же приготовил суда с греческим огнём, отправил великие дары и [велел] сообщить, что [согласен] на то, чтобы её выдали замуж за его внука» («Антаподосис», 5, 14). Имя наложницы было Пецола, а современный греческий автор Э. Калделлис вообще именует ее проституткой.

Император Юстиниан и Феодора перед придворными во время мятежа Ника. Художник А. Дюрансо
Достоверно известно о своего рода «конкурсах красоты» VIII–IX вв.4, где роль судьи исполняли отец или мать холостого наследника престола или, в случае Феофила, самого василевса, получившего трон ранее, чем жену (и об этом будет особый разговор). Такого рода мероприятия тоже могли возвести на трон империи вполне провинциальную «золушку». Джудит Херрин пишет (пер. с англ. – Е.С.): «Одним из ключевых моментов конкурсов красоты было держать в тонусе все провинциальные семьи, чьи дочери достигли нужного возраста. Они явно понимали, что лишь одна из многих тысяч могла быть избрана, такова статистика! Но даже беднейшие представители провинциальной аристократии, каждая мать, да и большая часть отцов, надеялись, что по этому случаю красота их дочери обернется к славе и удаче всей семьи. Кроме того, они справедливо полагали, что “сошедшим с дистанции” тоже кое-что достанется. Те, кому не посчастливится быть избранными, могут все же найти выгодный брак при дворе, и таким образом войти в высшее византийское общество. Ибо семьям, желавшим обеспечить карьеру своим мужским представителям, возможности от показа своей дочери при дворе также были весьма выгодны. Так что независимо от того, реализовалась возможность [брака с василевсом или наследником] или нет, идея этакого шоу невест вдохновляла семьи провинциалов на возможность обрести столичную славу. Функция этой византийской адаптации суда Париса заключалась в обеспечении лояльности элит, направляя их взоры [и надежды] на Константинополь, как важнейший центр, где можно получить покровительство и выдвинуть себя. Эта концентрация внимания на императорский двор, где за единую ночь можно было обрести счастье, была характерна для всех амбициозных провинциальных родов». Сходство с судом Париса было неслучайным – жених предлагал избраннице золотое яблоко. Византийское «Житие Филарета Милостивого», написанное его собственным внуком Никитой в конце VIII в., предлагает нам одну интересную деталь – императорские посланцы обладали некоторым шаблоном красоты, которому должны были соответствовать избранницы: «Царствовавшая в это время христолюбивая императрица Ирина, которая правила вместе со своим сыном Константином (потом она же его и ослепила, см. ниже. – Е.С.), по всей ромейской земле, от восточных до западных ее пределов, разослала послов искать невесту императору Константину. Побывав всюду, но не найдя достойной девушки, они пришли в пределы Понта, в самое сердце Пафлагонии, деревню, где жил Филарет Милостивый… И когда послы императорской мерой стали мерить рост первой девушки, он оказался точь-в-точь, и размер ее головы тоже, и длину стопы они нашли такой, как нужно». О том же сказано у Клавдия Клавдиана в «Эпиталамии на брак Гонория Августа». «Царской не ревновал я той утехе и нраву, // Чтоб портрета искать, – чтоб, красу указуя для браков, // Сводней картина прошла по Пенатам неисчислимым» (23–25). Это позволяет судить о древности традиции, т. к. император Западной Римской империи Гонорий вступил в брак в 398 г.
«Житие» Филарета беспристрастно свидетельствует о том, что сейчас принято называть «договорняком» среди конкурсанток: «Мария просила своих товарок, говоря: “Сестры, давайте уговоримся друг с дружкой так: та из нас, которая по Божией воле станет императрицей, пусть не оставит своей заботой остальных”. А дочь стратилата Геронтиана ответила: “Я точно знаю, что владыка выберет меня, так как я самая из вас богатая, знатная, красивая лицом и обликом; вы же – нищенки и не имеете ничего, кроме прелести лица, которой красуетесь, и потому должны оставить надежду”». В другом «Житии», св. Феофании, рассказывается о том, как одна афинянка, попав в состав 12 «финалисток» для Льва VI, предложила другим погадать: они все разуются и сядут на пол, а когда войдет василевс, встанут, завяжут сандалии и поклонятся императору; та, которая успеет все сделать первой – победит. Тот же источник добавляет интересную подробность, что трех последних финалисток осматривала в бане голыми мать наследника, выбирая наиболее красивую и без изъянов.

Суд Париса. Художник П.-П. Рубенс
Возвращаясь к житию Филарета, отметим, что победила, разумеется, Мария, его внучка, и излишне говорить о том, что все семейство Филарета вкатилось в столичные роскошества, словно сыр в масло, что было сочтено божественной наградой праведнику. «Пристроенными» мгновенно оказались все три внучки Филарета: «Император Константин, императрица Ирина и первый при дворе человек Ставракий, увидев поразительную красоту женщин, дивились их скромности и стыдливости, а также благородной осанке, и потому император выбрал Марию, внуку5 праведника, вторую внуку взял в жены один из его вельмож, по имени Константинакий, почтенный титулом патрикия, а третью вместе с богатыми дарами отправили в жены славному лонгобардскому королю Аргусу6, ибо Аргус этот хотел, чтобы ему сосватали девушку из Константинополя, пусть бедную, но красивую». Но если Феофан Исповедник прав, обвиняя Никифора I, человека, вообще-то, довольно аскетического нрава, то была у имперского «конкурса красоты» и порочная сторона – как и у всякого другого подобного, уже в наши дни: «20 числа декабря месяца7 Никифор после долгого выбора девиц во всем своем царстве, чтоб женить сына своего Ставракия, нашел наконец невесту, родственницу блаженной Ирины, и хотя она уже обручена была за мужа, с которым часто разделяла брачное ложе, но он развел их, и выдал ее за несчастного Ставракия, бесстыдно нарушая закон, как всегда, так и теперь; нашлись еще две девицы, прекраснее этой. Он, скверный, в самый день брака пред всеми растлил их и подвергся общему посмеянию».
Окончательный выбор невесты отделял от брака довольно длинный период времени, в случае Ирины, супруги Льва Хазарина, например – полтора месяца. На это время невеста вручалась под надзор огромному количеству «мамок-нянек» самого разного ранга, которым надлежало за отпущенный срок подготовить молодую к прохождению всех положенных церемоний – помолвки, коронации, венчания и т. п. (об этом подробнее – ниже), при этом, что характерно, ей не нужно было заучивать каких-то речей или фраз – все вершилось в ее безмолвии, но вот позы, жесты, поведение – все было крайне регламентировано. Как быть облаченной в тунику и принять на главу корону от василевса и жениха; когда стоять; когда, как и куда идти; как и когда повернуть, поклониться, остановиться; как перенести целование колен всем двором – словно Маргарита на балу у Воланда, откуда, видимо, М.А. Булгаков и заимствовал описание этой процедуры – сначала мужчинами, а потом женщинами согласно придворным рангам – от патрикий первого ранга до протикторисс и кентархисс пятнадцатого ранга, получить от них всех «аккламацию» – обрядовое одобрение («Много хороших лет!»), равно как и от представителей народа в виде цирково-политических партий «зеленых» и «голубых», устраивавших на ипподроме аккламацию в виде целого многоактового действа в форме диалога – в частности, пелось (пер. с англ. – Е.С.): «Это – великий день Господа, это – день спасения ромеев (так называли себя византийцы. – Е.С.), этот день – радость и слава мира, в который корона империи достойно увенчала твою главу. Слава Богу – владыке всего сущего! Слава Богу, Который сделал тебя императрицей! Слава Богу, Который увенчал короной твою главу, и пусть Тот, Который короновал тебя, Своей собственной рукой, хранит тебя в пурпуре (цвет императорской власти. – Е.С.) много лет, на славу и возвышение ромеев!» Да что там – даже как новой императрице свечи запалить и поставить перед крестом на трибунале ипподрома при склоненных императорских штандартах и инсигниях, и то был подробный инструктаж. Немудрено – она ведь в центре всеобщего внимания! По возвращении с ипподрома новую молодую хозяйку аккламировали уже евнухи, причем, что интересно, на латыни – «Bene, bene!» – «Хороша, хороша!» – даже когда латынь уже практически вышла из употребления двором в VII в., при Ираклии8. За этот же срок шился и подгонялся гардероб на все случаи жизни. Определенный курс молодой жены, наверняка, тоже преподавался, учитывая, что невеста, как правило, была девственной.

Мученицы, изображенные в виде византийских придворных дам. Мозаика базилики Сант-Аполлинаре-Нуово, Равенна, Италия. Фото Е.В. Старшова
Император Константин Багрянородный в X в. оставил в своей книге «О церемониях» подробное описание многоэтапной царской свадьбы, вот, к примеру, как проходила помолвка: «Вечером приходят две партии (“зеленые” и “синие”, о них уже упоминалось ранее. – Е.С.) с собственными органами каждая, и, когда приходит невеста и ее приветствует толпа и музыканты с кимвалами, а она, подъехав на лошади, останавливается, два полухория возглашают: “Прекрасен приход твой, раба благочестия!” Народ трижды повторяет: “Прекрасен приход твой!” Канторы: “Прекрасен приход твой, провозвестница милосердия!” Народ четыре раза повторяет: “Прекрасен приход твой!” Канторы: “Святый Господи, помилуй жениха и невесту! Святой Дух, помилуй их близких! Свят, трижды свят, помилуй спутников невесты!” И поют в тоне первом: “Собрала я цветы в поле и поспешила в свадебный чертог. Видела я солнце на золотом брачном ложе; все благословляет желанный союз. Пусть радость будет союзником их ослепительной красоты, пусть они видят розы и красоту, подобную розам. Пусть радость сияет над золотой четой!”» (гл. 81).
Интересно, что державное бракосочетание следовало за коронованием, а не предшествовало ему. В этом отношении ценны комментарии Ш. Диля: «Императрица приобщается всемогуществу вовсе не потому, что она жена императора; вовсе не от супруга получает она как бы отражение власти. Она облекается верховной властью актом, предшествующим бракосочетанию и не зависящим от него, и эта верховная власть, какой она облекается, подобно императору, как избранница самого Бога, вполне равна власти василевса. Это наглядно видно из того, что и народу не император представляет новую императрицу. Когда через возложение на нее короны она облеклась высшею властью, она идет не сопутствуемая императором, а лишь в сопровождении своих камергеров и женщин; медленно, меж живыми стенами, образуемыми при ее прохождении охранной стражей, сенаторами, патрикиями, высшими сановниками, проходит она рядом комнат во дворце и поднимается на террасу, вокруг которой внизу выстроились войска, высшие сословия государства и народ. В роскошном царском наряде, сверкающем золотом, она показывается своим новым подданным и торжественно признается ими. Пред ней склоняются знамена, великие мира и чернь падают ниц, простершись во прахе, вожди партий выкрикивают свои освященные обычаем приветствия. Она же, в строгой торжественности, с двумя свечами в руках, склоняется сперва перед крестом, потом кланяется своему народу, и к ней летит его единогласный крик: “Боже, спаси августу!”»
Бракосочетание происходило в храме Св. Стефана, после чего, как продолжает тот же автор, «супруги в сопровождении всего двора, мужчин и женщин, направляются в брачные покои. При их проходе народ стоит стеной и, приветствуя, обращается с пожеланиями к новой василисе: “Добро пожаловать, августа, избранная Богом! Добро пожаловать, августа, покровительствуемая Богом! Добро пожаловать, ты, облеченная в порфиру! Добро пожаловать, ты, для всех желанная!” И толпа допускалась в самые брачные покои, к самой императорской золотой кровати, и тут еще раз новобрачные должны были выслушать от нее приветствия и пожелания счастья и согласия. Наконец, вечером за свадебным пиршеством самые важные придворные сановники, так называемые друзья императора, и самые знатные дамы обедали все вместе в триклинии Девятнадцати аккувитов в обществе монархов. И что в особенности поражает во всем этом церемониале – это то, до какой степени мужчины и женщины бывают вместе при этом дворе, по общему мнению, таком недоступно строгом, и как мало похожа на затворничество жизнь этой императрицы, которой сам церемониал предписывает как первый акт ее высшей власти являть свое лицо перед всей собравшейся Византией… Когда через три дня после бракосочетания новая императрица выходила из супружеских покоев, чтобы принять ванну в Магнаврском дворце, в садах, через которые проходило шествие, придворные и горожане стояли сплошной стеной. И когда, предшествуемая служителями, несшими на виду у всех пеньюары, коробочки с ароматами, ларцы и сосуды, сопровождаемая тремя придворными дамами, державшими в руках, как символ любви, красные яблоки с жемчужной инкрустацией, царица появлялась перед глазами зрителей, раздавались звуки механических органов, народ рукоплескал, придворные шуты отпускали свои шутки, а высшие государственные чины сопровождали царицу до входа в ванную и ожидали ее у дверей, чтоб торжественно отвести ее потом обратно в брачные покои».