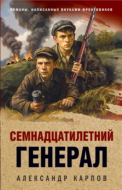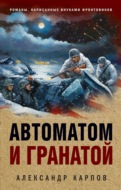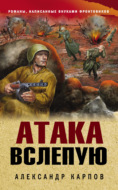Kitabı oxu: «Балтийская гроза»
© Сухов Е., 2025
© ООО «Издательство „Эксмо“», 2025
Часть первая
Операция «Гренадер»
Глава 1
9 июля 1944 года. Цель – выход к морю
Витебск освободили две недели назад в результате Белорусской наступательной операции «Багратион»1. Город все еще лежал в руинах, хотя многочисленные пожарища, которыми он встретил Красную Армию, были потушены, только на окраинах кое-где прорывался шаткий огонек – дымились головешки, уничтожая то немногое, что еще оставалось. В городе невозможно было встретить гражданских – гитлеровцы увели в Германию практически все местное население. Повезло лишь единицам, сумевшим скрыться в схронах и спрятаться в подвалах. А так – всецело военный город: с вереницей громыхающей техники, громкими командами командиров, колоннами уставших солдат, грезящих об отдыхе и густой наваристой похлебке.
Пехотинцы, прибывшие в Витебск первыми, по всему городу тотчас разбили палатки – некое временное пристанище, другие залатали в стенах домов пробоины от артиллерийских снарядов, убрали в помещениях расколоченный кирпич и приспособили их для жилья, а кое-кто, не особо мудрствуя, протянул брезент между деревьями и под этим шатким навесом расположился на ночлег.
Солдаты расчищали небольшие территории от каменных обломков и прочего мусора и понемногу налаживали нехитрый прифронтовой армейский быт: между развалинами обретались полевые кухни; организовали и бани: обычно в автозак с герметичным кузовом вмонтировали печь и бак с водой. В свободное время занимались личными делами: кто подшивал оторвавшуюся пуговицу, кто писал весточку домой. Работали банно-прачечные батальоны, успевавшие стирать ежедневно до полусотни тонн солдатской одежды и белья. Служили в них в основном девушки. Встречались, конечно, и мужики, но большей частью покалеченные и контуженные, не желавшие расставаться с армией. Сапожные мастерские, действовавшие при фронтах в каждой дивизии, тоже не пустовали, были загружены работой по горло. Спрятавшись от палящего солнца под каким-нибудь козырьком, а то и вовсе устроившись подле уцелевшей стены, дивизионные сапожники шили, кроили, резали и латали обувку, получая поощрение от начальства и материальное вознаграждение от бойцов. Крепкая обувь на фронте ценилась – без подошвы не очень-то и повоюешь.
Глянув в окно автомобиля, Яков Григорьевич Крейзер2 обратил внимание на танкиста, взобравшегося на почерневший корпус подбитой немецкой тяжелой самоходно-артиллерийской установки «Фердинанд». Он наматывал на голые стопы портянки невыносимо белого цвета. Оставалось только гадать, где он раздобыл столь диковинную тряпицу, когда повсюду копоть, грязь, развороченная до самого нутра землица. По всей видимости, для танкиста это был какой-то своеобразный ритуал. Возможно, что уже на следующий день портянки поменяют белоснежный цвет на темно-серый, а то и вовсе станут черными от грязи и копоти, но сейчас он испытывал настоящее упоение, сродни счастью. Каждый боец свою малую победу отмечает по-особенному.
– Танкист! Видно, после боя где-то белоснежную скатерку раздобыл да на портянки ее порезал. Всему танковому экипажу хватит.
– Они все немного пижоны, – задорно произнес двадцатипятилетний водитель, угадав, о чем размышляет генерал-лейтенант.
Солдаты понемногу расчищали дороги, на многих улицах теперь без особого труда могли разъехаться грузовики. На широком перекрестке, стоя на небольшой круглой тумбе, несла службу задорная регулировщица в звании старшины. Увидев подъезжающую «эмку» с командующим, она показала белым флажком, что легковому автомобилю следует ехать в объезд.
Действительно, далеко впереди просматривались блоки обвалившегося дома, перекрывающие дорогу, а на тротуарах и во дворах работали саперы. Среди них были даже гражданские – обычные пацаны, каждому из которых не более шестнадцати лет. Но саперное дело они знали исправно – разминировали осторожно и умело, даже с каким-то ребячьим задором. Обезвреженные мины со смехом складывали в большую кучу, словно это не мины, а бесполезный хлам…
Трудно было поверить, что Витебск еще можно восстановить или хотя бы придать ему зачатки гражданской жизни. Но уже в первые часы освобождения от немцев в нем назначили военного коменданта и администрацию, которые активно взялись за воскрешение города. Проезжая по улице Лобазной, Яков Григорьевич увидел на фасаде дома, крепко подраненного осколками, большой четырехугольный белый щит, в центре которого был нарисован красный крест. Это был хирургический эвакогоспиталь, развернутый в составе госпитальной базы фронта. К госпиталю подъехали два грузовых автомобиля, и из зеленого кузова бойцы бережно выгружали на носилках тяжелораненых.
У четырехгранного черного рупора, закрепленного на углу уцелевшего дома, собралась плотная толпа из военнослужащих с редкими гражданскими. Приостановив на время работу, люди слушали последние сводки «Совинформбюро». Сообщения с фронта и бодрый голос Левитана радовали, внушали надежду на лучшее; и лица у слушателей были просветленными. Как же эти собравшиеся не похожи на тех, кого приходилось наблюдать в первые месяцы войны, – суровые, мрачные, унылые, в глазах безысходность. Сегодняшнее настроение вполне объяснимо: за прошедшие три года ситуация на фронте кардинально изменилась, – теперь советские войска давили немцев и уже почти подошли к границам Германии.
Якову Григорьевичу приходилось бывать в Витебске еще до войны. Первое знакомство с городом началось с вокзала – трехэтажного добротного вытянутого здания из красного кирпича с высокими панорамными окнами. На первом этаже вокзала помещались залы для пассажиров, почтовое отделение и телеграф. На втором и третьем обретались служебные помещения и жилые комнаты. Но сейчас на этом месте были только руины, подле которых проходили уже восстановленные железнодорожные пути. Вместо платформ – расчищенная от обломков узкая, вытянутая полоса. Немного поодаль – два длинных каменных ангара для ремонта поездов, крепко покалеченных взрывами. Оставалось большой загадкой, как им удалось уцелеть во время бомбардировок и при плотном артобстреле.
Ангары уже вовсю эксплуатировались: из одного торчал покореженный и помятый вагон, а из другого выглядывала почерневшая голова локомотива, и мастеровые в перепачканных солидолом гимнастерках, вооружившись разводными ключами и молотками, колдовали подле громоздких колес.
Пыхнув черным угольным смрадом, на второй путь подъехал военный эшелон, из которого расторопно повыпрыгивали солдатики в новом обмундировании, чтобы в спешке выкурить на свежем воздухе заготовленные цигарки.
Сигареты с папиросами на войне – невероятная роскошь, доступная разве что старшим офицерам, а потому курили махорку или даже самосад, выращенный на дедовском огороде. Среднеазиатский табак выдавали солдатам в качестве пайка в небольших бумажных пачках. Но и здесь была своя градация на качество – наиболее душистой махоркой считался «Укртютюн», затем предпочтение отдавалось «Крымтабаку». Чтобы спасти табак от влаги, его пересыпали в кисеты. Для солдата перекурить – это не только потребность подымить, это своеобразная церемония, когда не нужно куда-то спешить, когда можно отдохнуть от затянувшегося перегона, переговорить с такими же, как ты сам, новобранцами; поделиться небольшим опытом службы, послушать, о чем говорят другие.
Место остановки военного поезда перекрыто вешками, через которые была протянута красная лента, за ней, не давая возможности пересечь запретную зону, находилась охрана вокзала, усиленная группой автоматчиков, – вокзал являлся режимным объектом. Фронт находился неподалеку, а потому нельзя исключать появление вражеского десанта.
Пассажиры, сгрудившись на первом пути, ожидали подхода своего поезда. Видно, ожидание затягивалось, собравшиеся откровенно скучали, и множество узлов, что были прихвачены с собой в дорогу, использовались в качестве лежаков и сидений; громко капризничали уставшие дети.
Миновав вокзал, «эмка» подъехала к двухэтажному приземистому зданию, какие предприимчивые купцы выстраивали для гостиниц и прочих доходных домов. В нем располагался штаб 1-го Прибалтийского фронта. Дом выглядел целехоньким; на фасаде сохранились даже барельефы с лепными нишами. Каменные атланты продолжали подпирать тяжелый выступающий каменный карниз.
Козырнув у входа вооруженному караулу, генерал-лейтенант Крейзер вошел в просторное помещение штаба и поднялся на второй этаж, где находился кабинет командующего 1-м Прибалтийским фронтом генерала армии Баграмяна3.
Во время оккупации Витебска в здании помещалась немецкая комендатура. От прежних владельцев мало что осталось, разве что массивные шкафы с готическим курсивом на металлических пластинках. А вот в узком дворике среди кострища валялись прогоревшие штандарты и лоскуты от немецкой формы; в обломках зданий ржавело еще не собранное покореженное оружие; под каменной аркой торчал поломанный немецкий пулемет «косторез»4, невесть каким образом уцелевший. Ожесточенные сражения продолжали напоминать о себе рваным немецким тряпьем да поломанным стрелковым оружием, затерявшимся в развалинах и попрятавшимся в засыпанных взрывами воронках.
Штаб 1-го Прибалтийского фронта был переполнен. По его гулким коридорам громко вышагивали офицеры; из комнат раздавались оживленные разговоры, а в дальнем углу боевито стучали клавиши печатной машинки.
В приемной, исполняя обязанности секретаря, сидел грузный лейтенант в возрасте и старательно подшивал толстой иглой кипу документов.
– Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант! – поздоровался он, заметив в дверях Якова Григорьевича. – Командующий фронтом ждет вас.
51-я армия под командованием генерал-лейтенанта Якова Крейзера за прошедший год успела повоевать на различных фронтах. В августе сорок третьего – в составе Южного фронта (в октябре переименованного в 4-й Украинский), где она особо отличилась при освобождении Донбасса и Крыма. В мае сорок четвертого ее перебросили в резерв Ставки Верховного Главнокомандования, и вот уже десятый день находилась в подчинении 1-го Прибалтийского фронта, которым командовал генерал армии Иван Христофорович Баграмян.
Крейзер был знаком с ним еще до войны. Тогда он даже не предполагал, что придется воевать под его началом, но довелось уже в самом начале войны…
В июле сорок первого года Киевский особый военный округ был преобразован в Юго-Западный фронт, и Иван Христофорович занимал должность начальника оперативного отдела штаба, совмещая назначение с должностью заместителя начальника штаба фронта, а Яков Григорьевич был поставлен командующим 3-й армией Брянского фронта, которую вскоре передали в состав Юго-Западного фронта.
В последующие фронтовые годы они не единожды встречались по службе, но столь плотной совместной работы, как в начале войны, более не было. И вот теперь судьба вновь свела их. Возможно, что такое назначение являлось личной инициативой Баграмяна, который не упускал из вида деятельного и толкового командарма. И когда 51-я армия оказалась в резерве Ставки, он запросил ее в состав 1-го Прибалтийского фронта в качестве существенного довеска к предстоящему наступлению на Курляндию.
Как бы там ни было, но предстоящей встрече с Иваном Христофоровичем генерал-лейтенант был искренне рад. В последний раз они виделись в прошлом году, что для войны значительный срок, за минувшее время оба пережили немало событий. Вот опять они вместе, и опять он под началом Баграмяна, вот только в этот раз в качестве командарма.
Распахнув дверь, Крейзер вошел в небольшую комнату и, увидев сидящего за столом Баграмяна, колдовавшего над оперативной картой, негромко поздоровался:
– Здравия желаю, товарищ генерал армии!
Командующий фронтом вышел из-за стола. Крепкий, коренастый, с располагающей улыбкой, он мгновенно вызывал доверие у каждого собеседника.
– А я уже начал волноваться, Яков Григорьевич, – крепко стиснул он ладонь Крейзера. – Как добрались? Присаживайтесь, не стесняйтесь, – показал он на стул, стоявший напротив стола, а сам расположился на прежнем месте, негромко шаркнув ножками кресла.
– Спасибо. Без приключений. На шоссе, конечно, заторы, но сейчас везде так. Да и с мостами не все в порядке. Где-то они разрушены, а где-то их восстанавливают, пришлось добираться объездными путями.
– Инженерно-саперные батальоны делают все, что могут, но ситуация действительно непростая, – произнес Баграмян с мягким армянским акцентом. – Немцы отступают, взрывают мосты, калечат дороги. Мост через Витьбу5 разрушен. Инженеры стараются, делают все возможное. Думаю, что дня через три они его восстановят. Нужно бы, конечно, еще через Лучесу6 движение наладить. Но все это, видно, придется оставить на потом. Сейчас не до того… Всю технику, в том числе строительную, гоним на запад. Наступательная операция развивается. Перешли ко второму этапу стратегической Белорусской наступательной операции – к Шауляйской операции. В первой половине операции вы не участвовали, но вот во второй нужно постараться. Очень на вас рассчитываю!
– Сделаю все, что в моих силах, товарищ генерал армии.
– Задача нашего фронта такая… Мы наступаем в направлении на северо-запад, идем к Двинску и далее по направлению к Каунасу и Свенцянам. Нам нужно занять выгодное охватывающее положение по отношению к группе армий «Север»7. То есть, по-другому, мы берем ее в крепкие клещи. Общий план таков… Мы должны пробиться на Балтику и отсечь группу армий «Север» от остальных вооруженных сил вермахта. Именно для этой цели из резерва Ставки нашему фронту было передано четыре армии, в том числе ваша, 51-я. Конечно, мы бы хотели продолжать наступление без перерыва, чтобы не дать немцам возможности отдышаться и перегруппироваться, подтянуть технику, усилить свои позиции. Но подтягивание к нашему фронту тыловых частей и дополнительных резервов для предстоящего наступления вынуждают нас сделать кратковременную паузу. Тут еще одно… 39-я армия находится на марше после разгрома немцев в Витебском котле… Там немцам здорово досталось! Ваша армия тоже только что совершила затяжной марш. Так что некоторое время придется переждать. С расположением никаких проблем не возникло?
– Все в порядке, Иван Христофорович. Армия после марша расположилась за городом. С тылами тоже все в порядке, подтянулись! Бойцы обуты, накормлены, и сейчас подразделения проходят боевое слаживание.
– Это хорошо… По донесениям разведки нам известно, что немцы ожидают продвижения наших войск на Двинск и перебросили в этот район значительную часть сил из группы армий «Центр». Сейчас Курляндская группа усиливается новым танковым корпусом, переброшенным из Румынии в Восточную Пруссию. А также в ее состав уже вошла дивизия «Великая Германия»8. Также по данным разведки мы знаем, что под Двинском имеется пять свежих дивизий, пришедших из тыловой зоны, а еще бригада штурмовых орудий, саперные штрафные и охранные части. И все они умеют хорошо воевать…. Так что какого-то превосходства в живой силе и технике мы иметь не будем. А тут еще немецкая авиация разбомбила склады с оружием, и наша авиация испытывает значительные затруднения с горючим. Именно поэтому она вынуждена снизить свою активность. В связи со всеми этими трудностями наступление наших войск заметно ослабло… Главная задача 1-го Прибалтийского фронта – выйти к морю! Ваша армия, Яков Григорьевич, выступает после 20 июля. Достигаете линии фронта, а там, буквально с марша, ввязываетесь в бой, освобождаете Паневежис и продолжаете двигаться к Шауляю. Разумеется, после тщательной разведки – немцы умеют преподносить сюрпризы… При дальнейшем продвижении вам очень поспособствует 3-й гвардейский механизированный корпус. И двигайтесь дальше на Елгаву! Задача непростая, по нашим данным, на подступах к городу сосредоточены танковые части первого армейского корпуса СС. А как мы знаем, воевать немецкие танкисты умеют добротно. После того как город будет взят, двигайтесь дальше. Но нам нужны надежные разведданные. У вас найдутся подходящие люди для глубинной разведки?
– Найдутся, товарищ генерал армии.
– 3-й гвардейский механизированный корпус, как наиболее подвижная группа фронта, практически под прямым углом направляется с запада на север. – Подняв со стола остро заточенный простой карандаш, Иван Христофорович прочертил на карте две линии. – Цель – выход к морю… Вы будете дополнять друг друга и усиливать тылы. А теперь давайте выпьем чаю. Не откажетесь? Я ведь большой любитель краснодарского чая, а тут как-то мне китайский подарили. Попробовал. Очень даже ничего! И к чаю кое-что найдется.
– С удовольствием, Иван Христофорович, – охотно откликнулся Яков Григорьевич, потирая руки.
– Григорий! – позвал Баграмян ординарца. На зов в комнату вошел паренек лет восемнадцати. – Организуй-ка нам чайку, как ты умеешь. Ну и к чаю что-нибудь принеси.
– Сделаю, товарищ генерал, – ответил ординарец, расплывшись в широкой улыбке, и вышел за дверь.
Глава 2
Начало июля 1944 года. Переезд в «Вольфшанце»
В середине марта сорок третьего, воспользовавшись затишьем на фронте, Адольф Гитлер принял решение поехать в Оберзальцберг. В Генеральном штабе новость встретили позитивно – офицеры надеялись, что в обществе Евы Браун, к которой фюрер был очень привязан, его уныние уйдет и улучшится общее состояние.
Но уже после взятия Киева советскими войсками в ноябре сорок третьего командующие армиями убеждали Адольфа Гитлера быть поближе к Восточному фронту, на котором военные действия развивались для Германии не самым лучшим образом. Однако рейхсканцлер не спешил переносить ставку из «Бергхофа» 9 в «Вольфшанце»10. Тому были свои веские причины.
Первая из них: он любил альпийскую ставку, расположенную вблизи от границы с Австрией. Величественная природа с острыми горными пиками напоминала ему родные места в Браунау-ам-Инн11. Была бы его воля, так он и вовсе никуда бы оттуда не съезжал. Адольф Гитлер всегда говорил о том, что чувствует себя хорошо только здесь.
Вторая причина заключалась в том, что с «Бергхофом» Гитлера связывало немало сентиментальных воспоминаний из его политического прошлого, именно с этих мест он начинал свою политическую карьеру.
Впервые он посетил Оберзальцберг12 в 1923 году, незадолго до «Пивного путча», когда решил проведать в пансионате своего товарища по партии Дитриха Эккарта13, и влюбился в эти места сразу и бесповоротно. Покидая Оберзальцберг, Адольф дал себе твердое слово купить здесь в ближайшем будущем какое-нибудь скромное жилище.
Двумя годами позже в небольшой хижине на территории пансионата Гитлер продиктовал вторую часть «Майн кампф» Рудольфу Гессу14, с которым отбывал наказание в тюрьме Ландсберг15. Еще через пять лет, получив немалый гонорар за книгу, Гитлер за 40 000 золотых марок купил жилище под названием «Дом Вахенфельд»16. А в 1933 году, сделавшись рейхсканцлером, он назвал его «Бергхоф» (Горный дом). Адольф Гитлер невероятно гордился своим приобретением, проводя в нем больше времени, нежели в Берлине.
Вскоре число строений близ Бергхофа значительно разрослось. Сюда вслед за фюрером стали переезжать высшие чины Рейха, и административная жизнь Германии понемногу сместилась на одиночный выступ горы Кельштайн, на высоту 1834 м, где был построен «Чайный домик» и куда можно было добраться лишь по крутой горной дороге, давшей неофициальное название всему комплексу «Орлиное гнездо».
По-настоящему возведение резиденции началось спустя два года, в 1936 году, когда Гитлер поручил начальнику Партийной канцелярии Мартину Борману17 строительный надзор как в Оберзальцберге, так и в самом Бергхофе. Для начала потребовалось снести частные постройки, каковых на горе было возведено немало, не имевших никакого отношения к высшей власти в Германии, с чем Мартин Борман справился блестяще. Поначалу дома выкупались за приемлемую цену, вскоре плату за недвижимость решено было значительно понизить. Случалось, что владелец жилища отказывался расставаться с фамильным имением, тогда ему предлагали переселиться в концентрационный лагерь Дахау18. Собственник вынужден был согласиться, а строение приобреталось буквально за гроши.
Большинство выкупленных домов, не представлявших даже малой материальной и исторической ценности, незамедлительно сровняли с землей, а вместо них на склонах и горных площадках возвели административные и государственные здания, откуда руководством рейха велось управление страной.
Здесь же, на территории «Бергхофа», были возведены каменные казармы для элитных подразделений СС, а также гостиницы для высокопоставленных посетителей, в которых проживали и личные секретари фюрера. Немного в стороне были построены здания для обслуживающего персонала и роскошные особняки для самых влиятельных лиц государства, желавших находиться поближе к рейхсканцлеру.
Строительство комплекса «Бергхофа» было завершено к дню рождения фюрера – Мартин Борман умел делать прекрасные подарки!
Гитлер высказывал немало доводов и контраргументов, почему он не желает переезжать в Пруссию, где находилась отлично оборудованная ставка. Из его уст они звучали вполне убедительно. Но первой главной причиной своего нежелания перебираться в «Вольфшанце» рейхсфюрер называл незавершенность строительства ставки, что неизменно скажется на качестве принимаемых решений, и отсутствие должного комфорта, к каковому он привык в Бергхофе. Второе основание: ему очень не нравился влажный климат Пруссии (Адольф Гитлер предпочитал разреженный горный воздух, способствующий оздоровлению). Третий аргумент состоял в том, что его личный блиндаж не был до конца достроен и система безопасности оставалась недостаточно защищенной.
Доводы представителей Генерального штаба, что именно в «Вольфшанце» рейхсканцлер отдал приказ провести операцию «Барбаросса»19, что именно в этой ставке он руководил боевыми действиями на Восточном фронте, принесших ему наиболее значимые победы, не возымели на него действия (в общей сложности фюрер провел в «Вольфшанце» около двух лет). Гитлер посчитал их второстепенными, не имевшими отношения к делу.
Немалую роль в переезде Гитлера в Восточную резиденцию сыграли начальник оперативного отдела генерального штаба сухопутных войск генерал-лейтенант Адольф Хойзингер20 и начальник управления сухопутных войск генерал-лейтенант Рудольф Шмундт21, которые в один голос утверждали, что на Восточном фронте угрожающее положение и из «Бергхофа» невозможно руководить военными операциями и назрела острая ситуация для переноса ставки в Восточную Пруссию. Рейхсканцлер как мог противился настойчивым уговорам и наконец заявил, что из Бергхофа переедет только тогда, когда будет оборудован его личный блиндаж.
К следующей встрече с Адольфом Гитлером генерал-лейтенант Хойзингер подготовился весьма основательно, даже взял с собой объемный фотоальбом, куда были вклеены снимки блиндажа для гостей, который послужит временным прибежищем фюрера, пока не будет достроен его личный блиндаж. После того как рейхсканцлер пролистал весь альбом, внимательно всматриваясь в фотографии, где гостевой блиндаж предстал как настоящая египетская пирамида, в виде лабиринта из множества коридоров, переходов, жилых и служебных помещений, достаточно укрепленных как сверху, так и по сторонам, он дал свое согласие на переезд в Восточную Пруссию.
Ева Браун, узнав о намерении Гитлера покинуть Западную резиденцию, впала в глубокое уныние и даже попыталась уговорить его остаться. Гитлер, прекрасно осознавая, как ей тяжело дается расставание с ним (даже самое кратковременное), попытался утешить:
– Малютка, ты не должна терзать себя, наша разлука не продлится долго. Я скоро вновь буду здесь. Рядом с тобой.
Существовала еще одна причина, по которой Ева Браун не желала покидать Оберзальцберг, – она буквально сроднилась с Западной резиденцией, в которой вот уже почти десять лет проживали ее многочисленные подруги и родственники. В окружении близких людей Ева чувствовала себя в Оберхофе настоящей хозяйкой и прекрасно осознавала, что в «Вольфшанце» все будет совсем иначе.
– Мой фюрер, я буду ждать тебя с нетерпением.
Гитлер выглядел слегка взволнованным (он всегда был таким перед предстоящей дорогой), и, глядя на фюрера, Еве Браун думалось, что он действительно верит в то, что говорит.
Еще через два дня рейхсканцлер, а с ним и вся ставка отправились на военный аэродром под Зальцбергом, откуда вылетели в Восточную Пруссию.