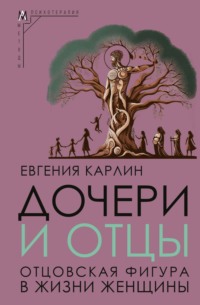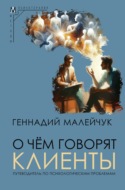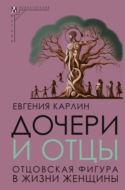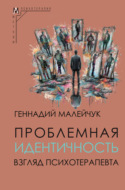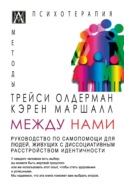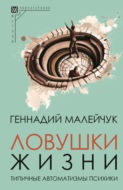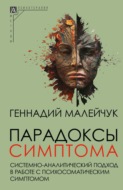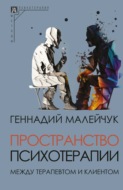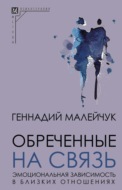Kitab fayl olaraq yüklənə bilməz, yalnız mobil tətbiq və ya onlayn olaraq veb saytımızda oxuna bilər.
Kitabı oxu: «Дочери и отцы. Отцовская фигура в жизни женщины»
* * *
© Карлин Е., 2025
© Издательская группа «Альма Матер», оригинал-макет, оформление, 2025
© Издательство «Альма Матер», 2025
От автора
В начале 2022 года вышла моя книга про отношения дочери и матери. В ней я рассказываю о том, каким образом мать и отношения с ней становятся частью психики, проявляющейся в самых разных аспектах: от внутренних убеждений женщины о себе самой до ее конкретных поведенческих реакций в отношении окружающих. Впоследствии мне задавали вопросы о том, типично ли это и для фигуры отца, становится ли и он внутренним объектом, частью психики? Влияет ли опыт взаимоотношений с отцом в детстве на последующую жизнь женщины? Безусловно, да.
Папа…
Если про мам нам всем есть что сказать, то, поднимая тему отца, мы часто чувствуем растерянность. Отсутствующие отцы, авторитарные и агрессивные, эмоционально недоступные, оставленные мальчики и слабые мужчины, порой – призраки и тени, порой – любимые папы и папочки. И хотя надежные близкие отношения с отцом большая редкость, а отчасти и роскошь, фигура отца – одна из важнейших в формировании личности. С помощью отца мы отделяемся от матери, он первый другой в нашей жизни, он не принимает нас безусловно, только потому что мы есть: как сверхродитель (общество или Бог) он ставит определенную планку и предъявляет требования. Общество предстает именно символическим отцом, а не матерью, потому что требовательно и принимает не всякого. Чтобы быть принятым обществом, нужно соответствовать. Природа – символическая мать, а Общество как социальный строй – отец.
Отец открывает социальные двери, учит постоять за себя, помогает формировать границы. Я знаю, что многие читатели тут же возразят, что ничего подобного отцы не давали им, что не способствовали их социальной реализации, не давали чувства защищенности, не учили давать отпор, а иногда и вовсе отсутствовали. Да, это тоже правда. И именно такие разные правды мы будем исследовать в этой книге, многомерно изучая и осмысляя свой опыт и фигуру отца не только как живого человека, но и как психологическое явление.
Не каждый «дорастает» до отношений с отцом. Это не значит, что до отца нужно «дотянуться», но значит, что вопросы и проблемы, глубинно связанные с фигурой отца, – это вопросы более поздних этапов развития. Многие из нас фиксированы на материнском дефиците – на том, что мы не смогли получить от матери в раннем детстве, а потому впоследствии продолжаем искать в других людях, женщины – часто в мужчинах (муже, друге, наставнике). Травмированные своими матерями, женщины и мужчины пытаются восполнить детские утраты в отношениях с самыми разными людьми, проецируя свои ожидания на близких; жаждут безусловного принятия, понимания и гиперзаботы, хотят быть «взятыми на руки», что, в сущности, является ранними нуждами маленького ребенка, обращенного к мамочке. В этом случае женщины ищут даже не отца, а папика, ожидая занять позицию крошки, которая сможет освободиться от ответственности и заботы о себе самой. Многие из нас продолжают стремиться оставаться в слиянии как форме отношений, столь естественной для самых ранних этапов развития, но препятствующей дальнейшему росту.
Как и когда проявляется роль отца в жизни ребенка? Какую роль отец играет в развитии? Как влияют на нас наши реальные отцы: сильные, слабые, вовлеченные, безучастные, а иногда полностью отсутствующие? На эти и другие вопросы мы будем искать ответы в этой книге.
В моем кабинете женщины больше говорят о своих матерях, но иногда дело доходит и до отцов. На то, что отцовская фигура появляется реже, есть разные причины. Папы, как правило, участвуют в жизни детей, а особенно дочерей, значительно меньше, чем мамы. Быть брошенным отцом, при этом живя с ним, – довольно типичная история. Реальные отцы чаще похожи на персонажей народных сказок: глупых королей и безвольных мужей мачех, чем на справедливых богов и мифологических героев. При этом высокая социальная значимость мужчины (в том числе как главы семьи) в патриархальном обществе сохраняется, создавая явный диссонанс между декларируемым и фактическим.
На группах, посвященных теме отношений, я спрашиваю участниц: что вам было нужно, но вы так и не получили в детстве? Этот вопрос можно сузить: что вам было нужно от вашего папы в детстве, но вы так и не смогли получить? Часто в качестве ответов называются базовые эмоциональные потребности: быть в безопасности, быть увиденной и услышанной, быть признанной, быть любимой, мочь быть уязвимой и маленькой, научиться быть смелой… Стремление удовлетворить то, что было не удовлетворено в детстве, часто становится лейтмотивом всей последующей жизни.
Путь к наполнению детских дефицитов и заживлению детских травм, как правило, долгий и тернистый. Сначала многие годы уходят на осознание того, как ты устроен: где ты, а где твои психологические защиты, выстроенные в ответ на травматический опыт, на боль, на невозможность принятия; затем идут годы терапии (излечения и заживления ран в широком смысле этого слова), внутренней работы по наполнению себя, а иногда – бережного вынашивания и рождения себя заново. На этом пути мы множество раз встречаемся с нашими родителями внутри себя самих, с самыми разными сторонами наших матерей и отцов, год от года меняющих свои лица и характеры, и в наших силах сделать так, чтобы эти изменения были для нас гармоничными.
Так же, как и в случае отсутствующей матери, даже если отца нет рядом, внутренние отношения с ним все равно существуют. Я знаю это не только как психолог, но и как человек, выросший без отца, как женщина, которая когда-то, будучи маленькой девочкой, а потом девочкой постарше, вела вдумчивые и незамысловатые внутренние диалоги со своим придуманным папой, меняющим свои лики от активного успешного человека, живущего в вымышленном нарядном особняке, до присматривающего за мной Бога, оберегающего меня и периодически подшучивающего надо мной. Папа, совершенно непохожий на моего реального отца (с которым я познакомилась, когда мне было чуть больше тридцати лет), неплохо устроился в моих ранних детских фантазиях, изображенный широкими яркими мазками, и в более поздних – кропотливо прорисованных в моих детских пестрых грезах.
В моем воображении папа жил вполне достоверной жизнью во множестве ее деталей. Он был обаятелен, отлично сложен, подтянут, занимался спортом (любил играть в теннис и плавать), со вкусом одевался, много работал, читал, играл в преферанс и на бильярде, водил новенький автомобиль и имел блестящий финансовый доход, позволявший делать щедрые подарки… Здесь можно задать резонные вопросы: как эти детские грезы влияют на последующие отношения с мужчинами? Не создают ли они утопические представления касательно того, каким должен быть мужчина? И что лучше: если ребенок растет с разрушающим абьюзивным отцом в полной семье или если он растет в неполной семье, но где нет скандалов? По своему опыту (хотя мой биологический папа и не был тираном, психопатом или химически зависимым, то есть не обладал ни одной из тех характеристик, которые в глазах большинства оправдывают развод) я могу сказать, что меня вполне устраивает, как сложилось мое детство и принимаю дальнейшую жизнь со всеми ее радостными и грустными моментами, в том числе и факт того, что, не имея опыта общения со своим реальным отцом, я имела возможность создать его сильный ресурсный внутренний образ, давший мне опору. Его формировали встречи с другими людьми, книги, кино и прочие впечатления взаимодействия с большим и разнообразным миром, где мужское проявляется в самых разных чертах. Безусловно, мой образ отца был идеализирован и неправдоподобен. Это не хорошо и не плохо – просто факт моего развития, отразившийся, в том числе, в моих завышенных ожиданиях в отношении мужчин и порой их обесцениванию из-за этого. Но, с другой стороны, эта та планка, которую мой внутренний отец ставит и для меня самой, способствуя развитию моей воли, усердности и умению идти вперед.
Безусловно, как девочка, взрослевшая без отца, я имела определенные дефициты и прочее психологическое «наследство», которое я пробую с любопытством разбирать в своей душе и на последующих страницах. Но кто из нас не имел дефицитов? Даже при обоих родителях рядом. Ведь родители почти всегда не дают достаточно: нам либо слишком много чего-то, либо слишком мало. И только наша задача научиться давать себе достаточно. Одной такой задачи может хватить на всю жизнь.
Опыт отсутствия внешней фигуры отца – один из вариантов развития. Встречи с моими клиентами и друзьями, истории их жизни и очень разные отношения с их отцами – множество других жизненных вариантов. Все они легли в основу этой книги, которая, я смею надеяться, уравновесит тему яда и меда материнской любви, окажется интересной и полезной, позволит прикоснуться к важному.
Евгения Карлин, Рига, 2023–2024 гг.
Глава 1
Папины дочки
И неважно, что многие из них росли без своих отцов…
– Я всегда чувствовала себя папиной дочкой. Знала: где-то он есть, думает обо мне, тоскует. В том, что он живет не со мной, виновата мама. У нее тяжелый характер, с ней сложно ужиться. Второй раз она не вышла замуж, и друзей у нее почти нет, что немудрено. О моем папе мы с ней не говорим. Разве что как-то она кинула, что человек он пропащий. Но я не верила ей и не верю. Хотя и мало знаю о нем.
– Прошло столько лет, есть ли возможность поговорить с мамой теперь, когда ты взрослая, задать те вопросы, которые ты не решалась задать раньше?
Инга пожимает плечами.
Ее отец – фигура умолчания. И мама, и бабушка Инги (теперь уже покойная, ушедшая из жизни три года назад) избегали говорить о нем. Как и любой ребенок, Инга следовала родительскому предписанию и хранила молчание, внутри же продолжало расти напряжение.
Семейная тайна – пустота. Семейная тайна вызывает тревогу. Тревога заполняет собой пустоту. Как все вытесненное, тайна помещается в тень, в бессознательное, продолжая незримо существовать, ища выхода. Симптом (физический или психологический, как нежелательное проявление) есть способ вывести напряжение. Как бы странно это ни звучало, но в определенном смысле симптом – это не проблема, а специфическое решение проблемы, которые находит семья или человек. Симптом (ссоры, измены, алкоголизм, пищевые расстройства, психосоматические болезни и др.) позволяет выйти внутреннему напряжению, обратить внимание на то, что игнорируется. В случае Инги игнорируется ее право принадлежности – право знать историю своего рождения, мочь принять и свою мать, и своего отца, говорить о них обоих свободно, без чувства вины и предательства по отношению к матери.
Недавно ко мне обратилась за помощью семья по поводу сына-подростка. С двух лет воспитываемый любящим отчимом, он лишь год назад узнал, что это не его биологический отец. Сейчас мальчику тринадцать, и у него начались «странности» поведения, в том числе нервные тики, которые и обеспокоили его мать. Когда мы углубились в то, что происходит в семье, то обнаружили, что, несмотря на то что сын узнал столь значимый факт истории своего рождения, он не имел возможности говорить об этом, потому как мать, рассказав ему о том, как сильно была ранена и обижена его отцом, ясно выразила свое отношение к отцу, в том числе и неприязнь к его национальности. В свою очередь, мальчик внешне похож именно на него, и как уместить в себе свое происхождение, свою кровь без чувства стыда и вины, он не знал. Как кентавр, он был разделен надвое и надрывался от этого конфликта.
Вытесняя фигуру отца, свою естественную привязанность к нему, не говоря о чем-то важном, мы не избавляем себя от фигуры, о которой умалчивают, но оказываемся захвачены ею на неосознанном уровне. Мы чувствуем присутствие чего-то в «воздухе», чего-то подобного радиации, невидимого, но разъедающего семью, отношения между ее членами или наиболее уязвимого члена семьи. В случае Инги, с истории которой я начала эту главу, росла ее враждебность к матери, а также еще в детстве развилась физическая болезнь – астма.
Фантазия Инги рисовала идеального отца на фоне далеко не идеальной растившей ее мамы, при этом обида и злость на мать подавлялись. Инга не могла открыто говорить, задавать неудобные вопросы, проявлять злость, дышать полной грудью – в буквальном смысле она задыхалась. И чем более демонической становилась в глазах Инги ее мама, тем более идеальным – отец. Мать представала разлучницей, лишившей дочь отцовской любви, а бабушка – сообщницей, и выйти за пределы такой внутренней картины мира Инга не могла и не хотела.
Инга тянулась к старшим мужчинам, идеализировала их, ценила, а порой и переоценивала. Например, преданно следовала за руководителями мужчинами и не любила руководителей женщин. Трижды она влюблялась, каждый раз это был недоступный, статусный мужчина, значительно старше ее. Больше всего Инга боялась разочаровать объект своей любви, тратя всю свою энергию на то, чтобы соответствовать тому образу, который придумала сама, – сильной, смелой, выносливой и решительной – противоположности своей матери, которую оставил отец.
До того, как Инга обратилась ко мне, она не видела связи между выгоранием на работе и потребностью в отцовском признании. Это были отдельные для нее темы. Более того, и враждебность к матери, как и эмоциональный треугольник «мать – отец – она», Инга видела туманно, замечая лишь импульсы, которые время от времени рождались внутри нее, – например, желание накричать на мать, отвергнуть ее без особого повода, периодическое волнение или замешательство, которые она испытывала, казалось бы, в абсолютно простых рабочих ситуациях.
Постепенно мы обнаруживали то, как она переносит свой предыдущий опыт на настоящее. Характер отношений с одним из родителей или треугольник, образованный родителями и ребенком, часто становится основой последующих отношений. И хотя во взрослом возрасте реальные мать и отец уже могут не быть рядом, их психических внутренних «двойников» достаточно для того, чтобы заданный сценарий продолжал разворачиваться. Например, старший мужчина, имеющий высокий статус (преподаватель, руководитель и др.), может ассоциироваться с отцом, как это было у Инги, и, соответственно, возникающие к этому человеку эмоции и чувства часто оказываются не адекватны ситуации здесь и сейчас. Или пьющего отца напоминает оказавшийся в беде человек, которого хочется спасти, «расколдовать», изменить. Снова и снова я вижу наслоения двух реальностей (далекого прошлого и настоящего), когда слушаю людей, рассказывающих, как они вовлекаются в чужие жизни и страдания, как делают больше, чем хотели бы, как испытывают необоснованное чувство вины или обрывают контакт, не давая возможности быть в близости. Испытывая страх, стыд, беспомощность, столь похожие на чувства из раннего детства, они бегут из отношений или удерживают всеми силами то, что разрушает их самих.
«Я готова стать душой умершего во младенчестве сына своего папы, только бы он полюбил меня, как его», – такой фразой можно отразить боль моей матери, верящей в то, что она и ее старший брат, первенец родителей Витя, проживший всего несколько часов и ставший огромной утратой для моего дедушки, есть одна и та же душа.
«Я никогда не повзрослею, папочка, только не переставай меня любить», – демонстрирует своим инфантильным поведением нарядная сорокалетняя Люся, продолжающая играть и соблазнять, чтобы быть принятой.
«Я готова отказаться от собственной жизни, только не отвергай меня», – говорит отказом от своих желаний Маша, из последних сил тянущая карьеру финансиста, которая лично ей невыносима.
«Я буду бороться с любой авторитарной властью, напоминающей мне тебя, я не подчинюсь», – снова и снова выходя на митинги, отстаивает свое право на свободу талантливая оппозиционная журналистка Нина, обесцененная своим не менее талантливым, но властным отцом.
Как работает отцовское заклятье? Или заколдовывают только ведьмы-матери, подобны злобным мачехам, колдуньям из сказок и мстительным древним богиням?
Отцы оказывают психологическое влияние на развитие ребенка с самого начала его жизненного пути, хотя, в отличие от материнского, такое влияние часто неявно и опосредовано. Материнское питает нас изнутри, отцовское – разворачивает вовне. Отец обращает нас во внешний мир, помогая выйти из слияния с матерью, осознать свою инаковость и индивидуальность. Но прежде отец создает внешний круг защиты и безопасности, внутри которого молодая мать кормит и покачивает свое дитя, вначале он признает ребенка как своего… Так хотелось, чтобы так оно и было, но в действительности… В действительности чаще всего иначе.
Бойкая Рони, дочь разбойника Маттиса, мечтательная Ассоль, дочь отвергнутого в Каперне замкнутого Лонгрена, Пеппилотта Длинныйчулок, дочь капитана дальнего плаванья негритянского короля Эфроима, женщина-скелет1, брошенная в море отцом, – такие разные дочери таких разных отцов: добрых, благородных, мудрых, глупых, слабых, сильных, властных, жестоких, защищающих или предающих, надежных или покидающих, оберегающих или насилующих своих дочерей…
Папины дочки психологически обращены к своим отцам, они пытаются им угодить или противостоять, заслужить любовь или доказать свою ценность. Зависимые или контрзависимые по отношению к своим отцам, они активные и по-мальчишески резвые, продолжающие отцовское дело или, напротив, стыдящиеся или отвергающие своего отца, желающие вычеркнуть его из своей жизни. Боящиеся отцов, чтобы ступить на мужской берег (мир мужчин с характерными занятиями и явлениями), или шагнувшие на него, но не совершившие следующего шага обратно на женский берег. Выбранные своими отцами и не выбранные ими, столь по-разному переживающие значимость отца в своей жизни и судьбе.
При предложении клиентам поговорить об отцах беседа часто обрывается. «Многие из нас практически не знакомы со своими отцами. И речь не обязательно идет о фактической безотцовщине. Конечно, многие могут сообщить конкретные факты, такие как возраст, место рождения, работа или состояние здоровья отца. Однако в целом отцы выглядят в их описании как некие бесформенные, мифические, несуществующие персонажи»2, – пишет в своей статье моя коллега Тина Уласевич.
Подобно многочисленным сказочным героям, реальные отцы не присутствуют при рождении принцесс, исчезают при появлении злых мачех и ведьм, оказываются глупыми королями, теряющими своих дочерей. И все же в жизни или в душе порой возникает образ сильного, смелого и любящего Маттиса, отца, подхватывающего свою дочь на руки, показывающего ей дикие леса, учащего стоять на крепких ногах, следовать по дорогам, полным приключений, уметь противостоять внутренним и внешним чудовищам:
– У меня ребенок! Эй, слышите все, у меня родился ребенок!
– Мальчишка или девчонка? – спросил из своего угла Лысый Пер.
– Счастье мое! Радость моя! – вопил Маттис. – Вот она! Дочь разбойника!
Он взял девочку из рук Ловисы и подошел с нею к каждому из двенадцати разбойников.
– Вот, любуйтесь, если хотите, самым прекрасным ребенком, который когда-либо рождался в разбойничьих замках! – дочь лежала на огромной ладони отца и глядела на него, не мигая.
Люся воссоздает в памяти образ молодого отца, сидящего у ее кроватки, считая это первым своим воспоминанием. Свет в детской комнате приглушен, поздний вечер наполняет комнату уютным треском кузнечиков за окном. Отцовская ладонь касается детской ладошки сквозь деревянные перекладины. Столько уверенности в этом касании, столько нежности и любви; маленькая девочка и большой мужчина. Это один из наиболее счастливых моментов жизни Люси, запечатленных памятью. Минуты принятия и безопасности, обеспеченных старшим мужчиной, которые в дальнейшем, уже во взрослом возрасте, она будет стремиться пережить снова, чтобы удовлетворить очень раннюю детскую тоску. «Маленькая девочка и большой мужчина», – так звучит мечта… Так же звучит иллюзия Люси.
– Что ты хочешь получить от мужчин?
– Обожание. Хочу, чтобы они любили, как никого на свете.
Приглушенный свет в моем кабинете. Я прошу Люсю подняться с кресла и найти позу, которая бы отражала ее состояние, когда она говорит о своем желании быть обожаемой. Она медленно движется вдоль стены, опускается на напольные подушки, садится, поджав колени к подбородку. Челка опустилась на лицо, нижняя губа закусана, она похожа на маленькую девочку.
– Как ты чувствуешь себя здесь?
– Никак. Пустота. Как будто меня не существует… Мне необходима любовь, обожание, чтобы они любили сильнее всех, чтобы я стала самой главной в их жизни, чтобы я была.
– Чтобы ты была?
– Да, будто иначе меня не существует.
То, как чувствует себя Люся, можно сравнить с голограммой – объемным изображением, воспроизводимым интерференцией волн с некоторой поверхности. Голограмма выглядит вполне достоверной и даже яркой, пока на нее светят лучи извне, но стоит им погаснуть – она тут же исчезает.
Много раз мы возвращались с Люсей к теме мужчин и жажды их любви, отчаянного желания стать самой главной в их жизни и тем самым обрести собственное право жить, собственную ценность. Описывая себя и свои отношения с мужчинами, Люся называет себя исключительно девочкой. Мужчины и девочка. Мы ясно видим параллели между отсутствием отца в ее детстве и ее отношениями с мужчинами в настоящем. В течение нескольких сессий я поддерживаю Люсю в проявлении и проживании чувств: покинутости, горечи утраты, злости на отца, тоски. Мы выходим на понимание связи между зависимостью от отношения мужчин (часто случайных), которых Люся наделяла властью, и давней потребностью в папиной любви, и однажды Люся заключает:
– Это не работает. Так много сил уходит на то, что не работает… Как перестать следовать за этой невосполнимой утратой его в детстве? Как стать самой для себя главной теперь?
Другие люди редко относятся к нам лучше, чем мы сами к себе. Но иногда мы все же получаем от жизни «авансы», и кто-то может оказаться к нам доброжелательнее. Однако со временем, продолжая «настаивать» на собственной недостаточности и дефективности, на том, что с нами что-то не так, мы обычно добиваемся своего, и изначально хорошо к нам относившейся человек начинает менять свое мнение. Именно так воспроизводится и подтверждается то, во что мы верим. Например, тот, кто больше всего боится быть отвергнутым, делает все для того, чтобы отвергнутым стать. Или изначально выбирает человека с теми чертами характера, который будет вести себя так, как предписывает сценарий. В случае Люси – эгоцентричные и яркие недоступные мужчины.
Но и будучи расположенным к созданию прочных отношений, другой человек может устать убеждать, что ему хорошо, изматываться в противостоянии встречному недоверию. В какой-то момент он может проявить резкость и раздражение. И тогда недоверяющий партнер восклицает: «Я так и знал! Знал, что тебе плохо со мной. Что ты уйдешь от меня, что бросишь». Так работают самосбывающиеся пророчества: человек ведет себя согласно своим же прогнозам, что приводит к тому, что эти прогнозы реализуются.
Pulsuz fraqment bitdi.