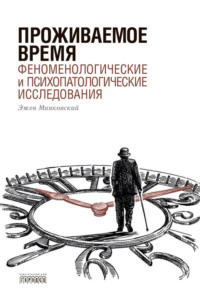Kitabı oxu: «Проживаемое время. Феноменологические и психопатологические исследования»
Eugène Minkowski
Le Temps vécu. Étude phénoménologique et psychopathologique
* * *
© D'Artrey, 1933
© Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, 1968
© Presses universitaires de France, 1995
© ИД «Городец», 2018
Введение
Проживать время: Эжен Минковский
«Проживаемое время» – шедевральное произведение Эжена Минковского, в котором ему удалось раскрыть все богатство и благородство психологических описаний, проявить особую точность в подборе выражений и изящно применить их в этих описаниях. Более того, он в своем роде – первооткрыватель: воспитанный на нормах классической психологии, во время учебы Минковский больше внимания уделял представителям немецкой школы, затем попал под влияние идей Блейлера, а впоследствии сам стал признанным представителем всемирного культурного наследия. Будучи острочувствующим философом, особо увлекаясь идеями гуманизма, он изучал труды Бергсона, Жане, Брентано, талантливо и разумно выдвигал феноменологические идеи вместе с Гуссерлем, взаимодействовал со многими современниками: Ясперсом, Куном, Виршем, фон Гебзаттелем и, в особенности, с Бинсвангером.
Однако Эжена Минковского нельзя классифицировать по какому-то одному отдельному аспекту: он не принимал во внимание психоаналитические концепции, недостатком которых считал их генетическую направленность и зависимость от каузального мышления. А его приятельские отношения с Бинсвангером и Медардом Боссом привели к тому, что для себя он определил собственную независимую позицию в изучении глубинной психологии.
Одно из важных направлений книги Эжена Минковского – оригинальное использование понятия «жизненного порыва», введенного Бергсоном. Именно порыв создает будущее, преобразуя его в нерушимое становление и наделяя более полным смыслом. Жизненный порыв – это, по сути, личный порыв. Будущее представляет собой надежду, которая приближается, на основании чего мы получаем тот восхитительный урок этики, что согласовывает ход нашей жизни с плодами коммуникации с внешним миром, придавая всему этому форму проживаемого синхронизма или симпатии, которые поддаются анализу. Нам удалось соприкоснуться с психологизмом творческого гения Минковского. Это может показаться вполне логичным, особенно то, каким образом он признает, в рамках своего исключительно динамичного мышления, возможность существования некоторых излишне «формализованных» теорий. Достаточно посмотреть, как Минковский, приняв за основу противопоставление между синтонией и шизоидией, выведенное Блейлером, формулирует возможность возникновения тяги к религиозности или стремления вернуться к истокам. В данном случае прав Эй Анри, отмечавший глубочайшую значимость такого клинического подхода.
Конечно, у Минковского были предшественники. Он прочитал все, что заслуживало внимания, и смог выделить самое ценное, воплотив в своих работах отдельный принципиально новый предмет исследования. Проанализируем, например, каким образом он использовал для рассмотрения новой концепции времени введенное Жане понятие «презентификации».
Здесь логична отсылка к тексту Дильтея («Типы мировоззрения»), который как нельзя лучше объясняет проблематику феноменологии Минковского, а также и его рассуждения, связанные с этим.
В одном из классических документов 1894 года Дильтей говорит об изъяснительной психологии («которая может объяснить строение психического мира при помощи его элементов, его энергий и его законов точно так же, как физика и химия объясняют особенности материального мира») в описательной науке: ощущение внутренних состояний «является результатом проживаемого жизненного опыта и постоянно связано с ним. Особенный факт в данном случае коррелирует со всем многообразием психической жизни и присущим ей единством. Таким образом, отношения, связанные с целостностью психической жизни, подчеркивают ее ближайшее выражение». Очевидно, что Дильтей не признает предложенную Гербартом «физику души». Он предвидел феноменологическую теорию.
Усилие, которое следует приложить, чтобы понять, тем более не может быть в полной мере описательным и статичным, как об этом говорил Ясперс. В качестве основы следует принять единственно верную феноменологическую реальность, направленную на поиск смысла, а не объяснений, для того чтобы выделить объекты сознания.
Этот анализ раскрывает расстройство, а также формирует и выражает его динамическую форму, являющуюся одновременно подвижной и упорной.
По мнению Минковского, структурная психопатология на первый план выводит скорее саму личность со всем ее жизненным многообразием, нежели какие-то психические соединения, уровень сложности и последовательность которых могли бы все объяснить. Минковский обучался по работам Блейлера: концепция аутизма, написанная им в 1911 году, достаточно хорошо структурирована, однако Блейлер сохранил большую часть теорий, основанных на идеях ассоцианизма. Минковский же смог развить его суждения о шизофрении (1927), приняв за основу теорию утраты контакта с действительностью и развитие патологического рационализма. Он признает позицию Бергсона, но не является ее слепым заложником.
Стиль его письма живой и открытый, это позволяет нам прикасаться к насущным явлениям, к различным формам их существования. Прежде всего феноменология интересуется не самим генезисом, а его сутью, самым основным. В «Трактате о психопатологии» вновь раскрывается необходимость выявления зависимостей, основанных на самой природе феномена, изучения их глубоких последовательных изменений и оценки особых категорий искривления сознания, причиной которого они являются.
В клинической практике нам следует избегать искушения наложения различных признаков друг на друга, для того чтобы достигнуть, вместе с самими феноменами, разрыва ощущений, резкого стирания признаков витального контакта с реальностью. «Проживаемое время» – это то, что люди проживают конкретно, просто, изо дня в день, это то, что отображает величие и неудачи, тонкости и непоследовательность мышления. Так, например, время, проведенное в депрессии, представляет для нас истинный калейдоскоп, возникающий по причине ограниченности мышления, сокращения расстояния между индивидами и предметами, перечеркнутым будущим и прошлым, обездвиженным и раздавленным чувством вины.
Невозможно измерить то, каким образом будет расценена значимость работы Минковского. Эта работа является одним из источников вдохновения Телленбаха, подвигнувших его на написание знаменитой «Меланхолии».
Обратимся к статье в «Journal de Psychologie» (№ 6, 1923), где рассказывается об одном из случаев меланхолической шизофрении. Это знаменитая история о «политике отходов»: пациенту, о котором идет речь, казалось, что все отходы, все сигаретные окурки, все куриные кости, все пустые бутылки, все овощные очистки и даже трупы предназначены для того, чтобы ввести их ему в брюшную полость. Кстати, помимо самой невероятной формальности поведения больного, странным нам кажется еще и строгая последовательность составления схем, основанная на проживаемом опыте пациента. В такой повторяемости отходов нет ничего, кроме особенного способа выражения, полностью захваченного болезненным эмоциональным состоянием, из которого исключен любой эмоциональный контакт. Будущее, как и настоящее, не имеет больше никакой ценности – только страдания и разрушение жизненных сил.
Дело в том, что интуиция, присущая живым существам, является не чем иным, как особым способом относиться к происходящему вокруг.
Дениз Оссон в своем труде «Травматическая дезориентация во времени и пространстве» изучает различные расстройства у людей, которые постепенно восстанавливают способность сознательного существования. Она подчеркивает значение механизмов разрыва и соединения, помогающих заметить именно феномено-структуральный анализ. Минковский, рассуждая о сумеречном воображении, напоминает нам о том, что оно является неотделимым составным элементом, позволяющим регулировать наше отношение к существующей реальности: нереальное – это неотъемлемая часть реальности!
Таким образом, воображаемое раскрывает перед нами все жизненные феномены, а также обладает самым элементарным динамизмом.
Давайте еще раз обратимся к причинам.
Жизнь – есть движение, говорит Эжен Минковский; учитывая движущуюся реальность любого человека, следует остерегаться навешивания ярлыков, например, таких как «ассоцианизм» или «экзистенциализм». Причем сам он, человек, которого мы с легкостью могли бы назвать врачом-философом, отрицает «заражение» психологии философией. Какими бы значимыми ни были рассуждения Гуссерля и Бергсона, он считает необходимым сохранить независимость психопатологии от других наук.
На самом деле нам следует вести речь об антропологическом подходе, вместо того чтобы называть все это феноменологией, бергсонизмом, экзистенциализмом или любым другим словом, известным каждому либо относящимся к чему угодно.
Минковский, к примеру, рассуждает о сходстве принципов между ближайшими сведениями (Бергсон) и видением основного (Гуссерль). «Обе эти точки зрения в некотором роде схожи, они закладывают основы антропологического направления, коим вдохновляется современная мысль, все более и более стимулирующая развитие всех наук, предметом изучениях которых является человек, трансформируя их в различные гуманитарные науки» («Дань уважения Минковскому», Журнал Группы Франсуазы Минковска, 1965). В данном случае, речь идет прежде всего о том, чтобы создать учение о психопатологии, основанное на онтологии, а не о том, чтобы показать возможность возникновения антропологии психического заболевания. Психопатологический синдром ни в коем случае не может представлять собой набор различных, отдельно существующих симптомов, он является выражением глубинных изменений, характерных для личности в целом. Отсюда вытекает особая значимость понятия первичного расстройства при психозах, суть которого состоит в фильтрации симптомов, при этом их структурная организация имеет специальную иерархию клинических проявлений.
Именно антинозографическая точка зрения Блейлера дала ему возможность рассматривать личность человека целостно, охватывая все проявления вместе, на основании чего расценивать это как особый способ человеческого существования.
Хочу еще раз напомнить: Э. Минковский постоянно стремился к тому, чтобы оградить психопатологию от пристального контроля психологии. Однако смог ли он этого добиться?
В «Трактате по общей психологии» (1946), Морис Прадин возвращается к теории Минковского о том, что забывание прошлого является живым принципом памяти. «Нам кажется, что прошлое не просто предоставлено нам нашей собственной памятью каким-то простейшим способом». По большей части именно забывание, выступающее в качестве неясного сознания, возвышает нас над самими собой. В данном случае речь идет о движущей силе скрытой памяти. Прошлое может лишь устареть…
Жан Сюттер также принял за основу концепцию Минковского, согласно которой «наша жизнь по большей части направлена в будущее»; его собственные рассуждения на этот счет были более глубокими и касались переоценки понятия «антиципации». «Для нас антиципация – это движение, позволяющее человеку всем своим существом вырваться за пределы настоящего, достичь ближайшего или отдаленного будущего, которое по большей части и является его собственным будущим».
В работе «О скачке идей» (1933) Бинсвангер по-дружески упрекает Минковского за то, что тот не слишком внимательно отнесся к феномену времени, в ущерб использованию понятия жизненного опыта. Хотя, по сути, для самого Минковского любое из этих понятий тесно связано с «проживаемым временем» и пространством.
Работа Минковского «Шизофрения. Психопатология шизоидов и шизофреников», появившаяся только в 1953 году, спустя двадцать лет после книги «Проживаемое время», считается одной из самых значимых среди многообразия научных трудов автора. Как и все прочие психиатры того времени, Минковский признает особую значимость, даже, можно сказать, считает ключевыми концепции Крепелина и введенное им понятие «раннего слабоумия». Однако он также обучался и на работах Блейлера, которого принято считать мэтром, признающим абсолютное верховенство естественных наук со свойственными им механизмами – эволюционизмом и ассоцианизмом. При этом Блейлер ввел одно из самых знаковых понятий современной психиатрии, понятие «аутизма», хотя сам он считал его всего лишь простым ослаблением возникновения ассоциаций. В перспективе развития структуральной психопатологии, Минковский описывает фундаментальный феномен утраты витального контакта, а также патологического рационализма, как чрезмерную тягу к пониманию размеров и количества, пространственное и излишне логичное мышление, скрупулезное составление распорядка дня, часто встречающуюся потребность во властной организации. С другой стороны, если шизофреник продолжает поддерживать контакт с окружающей реальностью с должной эффективностью, то данный контакт лишен всяческой жизнеспособности, он характеризуется обесцвечиванием всех окружающих явлений. В этом проявляется богатство и многообразие анализа, которым занимался Минковский.
Эжен Минковский, врач-психиатр, родился 17 апреля 1885 года в Санкт-Петербурге, в еврейской семье польского происхождения. Среднюю школу он закончил в Варшаве, там же несколько лет изучал медицину. После закрытия медицинского факультета отправился в Мюнхен, где завершил обучение в университете и получил степень Доктора медицины. Поскольку его диплом не был признан в России, он получает еще одну степень в Казани. Вернувшись в Мюнхен, Минковский решил изучать философию. Однако война 1914 года застала его врасплох, ему пришлось уехать в Швейцарию. Его супруге, Франсуазе Минковска, психиатру по специальности, удалось получить для мужа место добровольного ассистента врача в университетской клинике при госпитале Бургхельцли (Burghölzli), недалеко от Цюриха, где Блейлер разрабатывал свои концепции шизофрении. В марте 1915 года Эжен Минковский вступает в ряды французской армии, за доблесть и отвагу на фронте он награжден орденом. После окончания войны семья перебирается в Париж, но, чтобы иметь возможность продолжать медицинскую практику, ему приходится подтверждать свои дипломы во Франции (1926).
Как мы уже упоминали, Эжен Минковский – одновременно и врач, и философ, хотя он достаточно долго сомневался, по крайней мере в юные годы, какое направление все-таки выбрать, настолько сильно был увлечен философией. Даже сам он порой говорил, что его квалификация – врач-философ, таковым его зачастую и считали.
Сам же Минковский предпочитал рассуждать скорее об антропологии, нежели о психологии или нейропсихологии: он полагал, что именно антропология предоставляет нам исходные, ближайшие и неоспоримые сведения. Именно в антропосе скрыта «первичная межчеловеческая связанность».
«Психопатология, которую мы рассматриваем, – это психопатология, имеющая два голоса: она берет свое начало от случайной человеческой встречи». Отсюда понятно, почему Минковский не мог выявить противоречий между своими медицинскими и философскими увлечениями.
И в одном, и в другом случае ему отведена оригинальная позиция, в соответствии с его независимым сознанием, его беспокойством о человечестве и уважением к другим.
На протяжении всей своей долгой и плодотворной карьеры значительно чаще он пытался убеждать, а не побеждать. Имея твердые взгляды, что, безусловно, так, он не был при этом излишне принципиальным, не слыл догматиком. Достаточно долгое время его жизнь была нелегкой, ему приходилось работать в частных психиатрических клиниках, а также консультировать в больницах. Эжен Минковский не получил ни университетского признания, ни академических почестей – и это человек, который почти полвека оказывал влияние на развитие французской и международной психиатрии.
Первый руководитель группы и главный редактор журнала «Развитие психиатрии» («L'Évolution psychiatrique»), Эжен Минковский был участником всех крупных конгрессов и любых дискуссий, где разрабатывалась и развивалась современная психиатрия.
Во время Второй мировой войны Эжену Минковскому и всей его семье удалось избежать депортации. Испытания, перенесенные им в этот непростой период, значительно усилили такие черты его личности, как серьезность и доброжелательность. Он умер 17 ноября 1972-го, на двадцать два года пережив жену Франсуазу Минковска, с которой его связывала не только глубокая взаимная привязанность, но и неописуемая преданность работе.
О духовном развитии личности Эжена Минковского Жан Сюттер проникновенно писал: «Эжен Минковский мог смотреть, представлять себе что-то, действовать, только основываясь на созданную им самим шкалу ценностей, которую он применял на практике при любой возможности. В нем совершенно не было никакого скептицизма и уж тем более системного нонконформизма. Он был очарован феноменологией и постоянно обращался к ней. Благодаря своим познаниям в философии и великолепному владению немецким языком, он почерпнул для себя все то, что ему казалось там верным и плодотворным, при этом ни в одном направлении мышления его нельзя было упрекнуть в тяге к ортодоксальным взглядам. Сталкиваясь с чем-то неизвестным, неведомым, он легко мог признать это, но, чтобы найти выход, рассчитывал только на собственные силы, а не на какие-то источники со стороны. Кроме того, он не сдерживал порывы своего сердца, позволял себе доверяться интуиции, если ему казалось, что в какой-то ситуации следует руководствоваться не только разумом».
Уже давно Гастон Буассье выпустил восхитительную книгу о Цицероне и его друзьях, основанную на научных фактах. Хотелось бы увидеть подобную книгу об Эжене Минковском. В ней мы могли бы отметить, что почти полстолетия он занимался интеллектуальной и профессиональной деятельностью, столкнулся и обменялся мнениями со всеми, кого психиатрический и философский мир считал знаковыми личностями или мыслителями: от Бинсвангера до Анри Барюка и Анри Эй, от Куна до Вирша, и со многими другими, которых он встретил на своем жизненном пути. У него были ученики и последователи. Зена Хелман, профессор из Лиля, работавшая вместе с семьей Минковских, часто вспоминала о том, что их мэтр, рассказывая об интеллектуальных событиях, отразившихся на его жизни, называл эссе «Опыт о непосредственных данных сознания» Бергсона и книгу «К феноменологии и теории симпатии и о любви и ненависти» Шелера (1913), переработанную и изданную в 1923 году под названием «Сущность и формы симпатии».
Хотя, возможно, это всего лишь несколько строк из предисловия к «Трактату о психопатологии», в котором содержится послание Эжена Минковского: «…жизнь проявляет себя сама как таковая: стычки, соревнования, враждебность, ненависть, все есть в ней; а люди, чтобы урегулировать конфликты, занимаются рукоприкладством, но не в этом заключено многообразие человеческой жизни. Это всего лишь один из ее аспектов, один из планов. В рамках этого плана тоже возникают позитивные факторы, по сути, они хотят смягчить ситуацию, ограничить негативное воздействие, однако такие позитивные критерии изначально превосходят рассматриваемый здесь план, запускают свои корни далеко вглубь, находя там истинный смысл существования. Кроме ежедневных рыночных отношений между людьми, существуют также единство, общение, родственная близость, солидарность между разными индивидами, которая отзывается эхом из глубины души каждого из них».
Вспоминая своих родителей, именитый педиатр Александр Минковский пишет: «Моя мать говорила: „Мы любим психические заболевания“. [Вместе с отцом] они были просто увлечены этим. Их жизнь была похожа на сражение, такой же стала и моя, может, в некотором смысле даже вопреки моей собственной воле. Они никогда не говорили, что мне стоит быть увлеченным; это шло изнутри».
Ив Пелисье
Почетный профессор Медицинского факультета
Университетского госпиталя «Неккер»
Библиография
Fouks L., Guibert S., Montot M. La notion du temps vécu chez Minkowski. Ann. Mid. Psychol., 1988, 146, n° 8, 801–809.
Recueil d'articles (1923–1965) d'Eugène Minkowski. Cahiers du Groupe Françoise Minkowska. Au Livre psychologique, 1965.
Minkowski E. Le Temps vécu. Étude phénoménologique et psychopathologique. D'Artrey, Paris, 1933; Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, 2е éd., 1968.
Minkowski E. Traité de psychopathologie. PUF, Paris, coll. «Logos»,1966.
Minkowski E. La schizophrénie. Paris, Desclée de Brouwer, 1953.
Minkowski E. Vers une cosmologie. Fragments philosophiques. Aubier-Montaigne, Paris, 1953.
Minkowski A. Le vieil homme et l'amour. Paris, Robert Laffont, 1994.