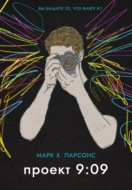Kitabı oxu: «Вопль кошки»
Francesca Zappia
KATZENJAMMER
© Сол Сильвестров, перевод, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024 Издательство Азбука®
* * *
Всем, кто изменился, и всем, у кого не было шанса
Я не могу объяснить ни тебе, ни кому-либо другому, что во мне происходит. Да и как я смог бы это сделать, когда я даже себе не могу этого объяснить.
Франц Кафка. Письма к Милене1



Глазницы
У меня больше нет глаз.
Оно и понятно.
Две минуты я пялюсь в зеркало школьной женской раздевалки, изучаю незнакомую пустоту в глазницах маски. Жду еще минуту и втыкаю туда палец аж по вторую костяшку.
Там ничего. А должны быть уже мозги.
Вопрос дня: что страннее – месить себе мозги или мечтать об этом?
Проехали. Не больно-то и нужны мне глаза.
Засовываю голову в раковину и мочу волосы. Раньше в душевых можно было помыться, но сейчас они только брызжут кровью. Даже кран поворачивать не надо, она везде – горячая, густая, склизкая, почему-то напоминает первую сцену из фильма «Кэрри»2. Красный дождь бьет по плитке, и я представляю девчонок, хором скандирующих: «Затыкай, затыкай!»
Душ бы этот заткнуть. Воняет.
Разглядываю себя в зеркале и пытаюсь понять, как я тут оказалась – как я умудрилась застрять в Школе, где по трубам течет кровь, а у меня вот такое лицо.
Я не помню.
Никто из нас не помнит.
1
Едва подумала, чтоне помню, в голове всплывает первое воспоминание – незваное и кристально чистое.
Мне было шесть. Я сидела посреди школьного спортзала, пока нас сортировали по классам и раздавали учителям в первый день первого класса. Первый раз в Первый Класс. Я впервые надела вельветовое платьице с лямками. Впервые оказалась среди ровесников без присмотра мамы и папы.
Меня вызвали по имени. Тогда я его знала, но теперь в памяти оно превратилось в помехи. Палец указал в предназначенном мне направлении, на группку детей в дальнем углу. Класс мистера Лама. Я вскочила на ноги, вся такая очаровательная в своих кожаных туфельках, и подбежала к ним.
Шесть девочек, пять мальчиков. Я села рядом с девочкой в фиолетовых штанах и с темными кудрями. Она поздоровалась и сказала, что ее зовут Присцилла, но лучше Сисси, потому что Присцилла звучит как имя прилизанной белой кошки, которая ест из фарфоровой тарелочки. Я подумала, стоит ли ей сообщить, что Сисси тоже звучит так себе, но решила, что хочу с ней подружиться.
Мальчик, сидевший по другую руку от Сисси, не сводил с меня глаз, и я предположила, что он тоже хочет дружить. Но когда я посмотрела на него в ответ, он выставил перед глазами пальцы и раздвинул, будто у него глаза разъехались. Они с соседом засмеялись – не очень-то дружелюбно.
Как на меня ни смотрел, сразу вот так делал пальцами.
Это мне и вспомнилось отчетливее всего. Как жутко он выглядел, когда надо мной смеялся.
Кошка
Что ж. Видимо, что-то да помню.
Намыливаю волосы жидким мылом из автоматов, смываю, вытираю теми раздевалочными полотенцами, что еще, к счастью, не испачканы кровью. Затем вытираю капельки с маски. Края полотенца окунаются в мои глазницы, и каждый раз я вздрагиваю, хоть и не чувствую ничего особенного.
Остальные напрягутся, что у меня больше нет глаз. Нужно поосторожнее, когда вернусь, чтоб они понимали: я – все еще я.
Я помылась (то есть помыла голову, потому что с раздеванием у меня в последнее время проблемы) и аккуратно складываю полотенце на полку над раковинами, пальцами в черных перчатках причесываю черные-черные волосы и напоследок проверяю, не изменилась ли за сегодня маска.
Не-а. Все еще Кот. Кошка.
Из всех перемен, которые случились со студентами Школы, маска кошки из затвердевшей плоти – это скорее скучно. Выразительность лица уже не та, вдобавок и глаз теперь нет, зато я всё та же.
О других такого не скажешь.
2
Откуда ни возьмись возникает второе воспоминание.
Мальчика, который смеялся над моим косоглазием в первый день школы, звали Райан Ланкастер. Остальным детям со временем это наскучило, поэтому он стал искать, чем бы еще привлечь их внимание.
Одной из его мишеней стала Сисси. Вообще Сисси. Ее кудри. Ее живот. Волосы на ее руках. Ее сэндвичи с арахисовой пастой, порезанные не по диагонали, а поперек.
Однажды на уроке физкультуры нам пришлось играть в кикбол3. Сисси встала на домашнюю базу и пнула переданный учителем мяч так сильно, что он взмыл над площадкой, пролетел над полем и ударился о забор. Наша команда заулюлюкала, Сисси рванула к первой базе, но быстро бежать у нее совсем не получалось.
– Нечестно! – закричал Райан Ланкастер с поля, вместо того чтобы побежать за мячом.
Сисси устремилась ко второй базе.
– Почему это нечестно? – крикнул ему в ответ учитель физкультуры.
– Потому что только мальчики так далеко бьют, а она в команде девочек! Значит, она мальчик, а не девочка!
Сисси споткнулась между второй и третьей базой.
– Я не мальчик! – крикнула она в ответ.
– Врушка!
– Я не врушка!
– Сисси – пацан! – заорал Райан.
– Неправда!
Остальные дети начали скандировать: «Сисси – пацан! Сисси – пацан!»
– Ну-ка тихо! – рявкнул учитель.
На поле воцарилась тишина. Я вжалась в железную сетку, мне хотелось исчезнуть. Учитель погнал наш класс обратно внутрь. Я плелась в конце процессии, позади меня с красным лицом шла Сисси: она храбро закусила губу, стараясь не плакать, но по ее щекам все равно катились слезы.
Хотелось как-то поднять ей настроение, но в голове было одно: «Как же хорошо, что не меня».
Вдох
Выходя из раздевалки, замечаю, что длинный коридор за спортзалом стал шире, а потолок в нем выше. Вереница дверей удлинилась. Школа вдыхает. Все здание растянулось, как высокий человек, вылезший из крошечного автомобильчика. Это гораздо лучше, чем когда она выдыхает, потому что тогда приходится месяцами ползать по стиснувшимся проходам и сжавшимся кабинетам: стулья, парты, шкафы и книжные полки нависают над нами, и остается только надеяться, что мы не застрянем где-нибудь насовсем.
Еще один плюс: когда коридоры расширяются, в них темнеет. Появляется много укромных уголков, можно спрятаться. Когда коридоры маленькие, в них мегаярко, столкновений не избежишь. Такая вот странная Школа. По-моему, ей кайфово над нами издеваться.
Да что я такое говорю? Конечно, ей кайфово издеваться.
Она сама нас заперла внутри себя.
3
Почему воспоминания возвращаются именно сейчас?
Я любила рисовать. В четвертом классе обязательно было ходить на одно дополнительное занятие в день: во вторник музыка, в среду физкультура, в четверг библиотека, а в понедельник и пятницу – рисование. Рисование было, по сути, посиделками с бумагой и мелками, но меня учитель посадил в углу с карандашом, и я нарисовала первое, что пришло в голову, – сову, которая сидит на дереве, сделанном из рук.
Райан Ланкастер пронесся мимо, перечеркнув мою страничку черным мелком, и сказал:
– Все равно некрасиво, чего злишься?
Учитель отправил его к директору, но Райан, по-моему, даже не расстроился.
Школа научила меня любить рисование, но только дома я могла рисовать и не надо было при этом защищать свой рисунок.
Маме с папой очень нравилось, что я рисую. То есть маме нравилось, а папа был не против, но не отказывался от мысли отдать меня на теннис. Хотел добавить в свою коллекцию еще спортивных трофеев, только чтобы теперь на них было мое имя вместо его. Трофеев он так и не получил, но жаловался на это лишь в мои дни рождения и на Рождество, когда они с мамой дарили мне очередную партию скетчбуков, карандашей, маркеров, красок и холстов. Все, что помогало мне очищать голову от образов, которые плодились там, как паразиты. Абсурдные пейзажи, извилистые коридоры, проблески в черноте – как лезвия ножей в ночи.
– Все такое мрачное, – однажды сказал папа, когда я работала за кухонным столом, а он подглядывал мне через плечо. – Нарисовала бы голубое небо, или цветочное поле, или птицу на ветру? Что-нибудь радостное, чтобы мама могла повесить на холодильник.
– Пусть вот это и повесит на холодильник, – сказала я.
– Ну хоть один цветочек? – спросил он.
– Там, где я живу, цветочков нет, – сказала я.
Стул
Оно и понятно, что ко мне возвращаются только самые бесполезные воспоминания, вовсе не объясняющие, как я здесь оказалась, как мы все здесь оказались.
Прижимаюсь к стенам и крадусь мимо кабинетов английского языка. Двигаюсь осторожно. Позвать Джеффри нельзя, я не могу – не ровен час услышит то, что бродит по коридорам. Такой уж порядок в Школе. В коридорах никто не разговаривает – вдруг что-то или кто-то услышит. Всегда есть вероятность, что тот, кто ответил, добра тебе не желает.
Моя кофта, штаны, ботинки, перчатки – все на мне черное, так что я не выделяюсь. Остальным не так повезло: некоторые изменились настолько, что не пропустишь. Но не я. Я могу исчезнуть в тени, когда пожелаю. Даже блеск глаз меня больше не выдаст.
Миссис Ремли сидит в кабинете одна. Странно. Джеффри обычно успевает раньше меня. Как и все здание, кабинет озарен неуловимыми источниками света вне поля зрения: едва обернешься, свет сразу меняется. Миссис Ремли сидит за своим столом, тускло поблескивая лаком. Я смахиваю с нее пыль и снова придвигаю к столу. Наверное, кто-то приходил и вытащил ее, потому что не узнал. Но вот кто это был? Этим кабинетом пользуемся только мы с Джеффри. А миссис Ремли редко двигается сама по себе.
В коридоре раздаются шаги.
4
С Джеффри мы познакомились в средней школе.
Это было во вторник.
В столовой были пицца-палочки, а их готовили только по вторникам. Я стояла в очереди за ними позади кого-то в вязаном жилетике. Пока я пыталась осмыслить этот вязаный жилетик, к нам подошла группка мальчиков в футбольной форме. Они поздоровались с Вязаным Жилетиком и пролезли вперед него.
– Они же все пицца-палочки съедят! – Первые вырвавшиеся у меня слова, просто гениально.
Вязаный Жилетик обернулся. Я несколько раз видела его в коридорах, но никогда не обращала внимания. У него были такие большие карие глаза и густые русые брови, будто медовые гусеницы. Медогусеницы. Будто холодным зимним днем в них можно завернуться и будет тепло. Когда он посмотрел на меня, гусеницы столкнулись лбами.
Он сказал:
– Прости, пожалуйста, можешь пройти вперед меня.
– Ты уверен? – спросила я.
Меня это удивило, ведь, когда большая группа популярных мальчишек подреза́ла кого-то в очереди, все обычно притворялись, что ничего не видели, – и на этом всё.
Он кивнул, я встала на его место, и последние пицца-палочки достались мне.
Потом я увидела, как он сидит за тем же столом, что и футболисты: у дальнего конца, поодаль от них. С тарелкой начос.
Я тронула его за плечо и сказала:
– Хочешь сесть со мной и моей подружкой? Я отдам тебе половину пицца-палочек.
Он посмотрел, куда я показала, – на стол, за которым, прислонившись к стене, сидела Сисси и выковыривала ветчину из шефского салата.
– А то! – ответил он.
– Меня зовут (), я люблю пицца-палочки, – сказала я.
– Меня зовут Джеффри, мне пицца-палочек еще ни разу не досталось, – сказал он.
Квадратный
– Кот! Ох, Кот, как хорошо, что ты тут!
В дверях кабинета миссис Ремли появляется Джеффри. Хочется на него зашипеть: типа научись ходить потише. Он слишком круто заворачивает за угол, задевает головой дверную раму и в испуге шарахается. Не вреза́ться в углы он уже хорошо научился, но время от времени от нетерпения забывает, что его голова – картонная коробка. Он прикладывает ладонь к ее боковой стороне и ошеломленно моргает.
Каждый раз, когда вижу Джеффри, в груди ёкает и я убеждаюсь, что с нами все будет в порядке, хоть мы и застряли тут. Это из-за того, кто Джеффри на самом деле, а не потому, что он теперь так выглядит. Лицо Джеффри – накаляканная мелком рожица, два круглых глаза и прямоугольный рот с квадратными белыми зубами. Когда он моргает, кружок превращается в полукруг, как анимация из двух кадров.

Он поправляет свой голубой вязаный жилет и осматривается, словно кто-то мог заметить его осечку, хоть и знает, что миссис Ремли никогда не станет смеяться над учениками.
– Кот, – начинает он заново, на сей раз медленней. – Просто ужас… Пойдем, я тебе покажу…
Когда я делаю шаг к нему, он осекается – я теперь на свету, и видны мои глаза. Их отсутствие. На лбу у Джеффри появляются прямые черточки бровей, между ними формируется картонная борозда. Уголки прямоугольного рта загибаются вниз.
– Кот?
– Все со мной в порядке, – отвечаю я. В пыльных стенах кабинета мой голос слишком громок. – Что там такое?
Он горбится и ладонью приплющивает закрытый глаз.
– Господи, Кот. Я думал, ты совсем того.
– Не-а, пока цела.
Он выглядывает поверх ладони. Один его глаз – закрашенный кружок, второй – пустой.
– Ты все равно видишь?
– Увижу все, что ты мне покажешь.
Теперь я меньше волнуюсь о своих глазах и больше о том, почему Джеффри так торопился. Он никогда не торопится. Иногда тревожится, но делает это с добродушным спокойствием ведущего телеигры, представляющего дерьмовый приз. Джеффри – тихая гавань, потому что у него нет выбора: он поддерживает мир между нами.
Всеми нами: теми, что преобразились, и теми, что остались прежними.
Pulsuz fraqment bitdi.