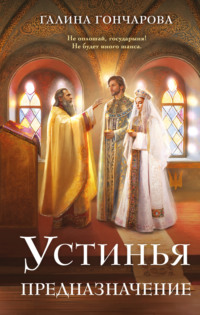Kitabı oxu: «Устинья. Предназначение», səhifə 2
И такой волной тепла ее затопило… ради такого она и долг супружеский стерпит. Хоть и говорили бабы в монастыре, что это не боль, а радость вовсе даже, Устя в то не верила. Может, для мужчин так-то и есть, это для Устиньи все болью да тоской оборачивалось? Наверное, так, все ж Федор после опочивальни завсегда довольный был, а она ног не таскала. Ну и пусть, ради Бори потерпит она что угодно! И… и делать ничего не станет! Ни травы пить, ни дни считать, ни времени спокойного ждать. Пусть ребеночек будет!
Наконец, проводили молодых в опочивальню.
Устя, пока отвлеклись все, из-за стола улизнула, за ней и Агафья Пантелеевна выскользнула. По коридорам дворцовым они словно две тени промелькнули неслышно, только в горнице Устиньиной волхва рот открыла:
– Права ты, внучка. Не знаю, откуда родом мать царицы, но и она ведьмой была, и сама Любава – ведьма. Только слабенькая очень, вот ведь как! Хлипкая она совсем, ей разве что в травницы подаваться да от тараканов избы заговаривать. И то, поди, кипяток по углам лучше с тварями ползучими справится. Ведьма она, да бессильная, а оттого злая вдвойне. И кое-что на ней есть, не сказала бы ты, я и не углядела бы. Закрывается она от чужого взгляда, ей и хватает. Сил-то, считай, и нет у нее…
– А Федор?
– А вот тут самое интересное и начинается. Ты такое и правда не видывала, и понять не могла, а я приметила. Гореть мне на этом месте, ежели и Любава, и сынок ее – не от ритуала черного на свет появились. Когда рядом они, сравнить можно, прикинуть – верно ты догадалась. Поодиночке не видно так-то, а вот когда вместе их увидишь, сразу и понимаешь, что гадина гаденыша породила.
– И Любава тоже ритуальная?!
– И Федор, и Любава. Когда б можно было, показала я тебе, как это увидеть, да не ко времени. И ведьма, и патриарх рядышком, и дело в храме… сама-то посмотрела я, а уроки давать не получится. И что самое интересное, бесплодна царица-то! Не могла она сына зачать, по всему – не могла, а вот он! Есть и есть будет! Чужие жизни заедать…
Устя невольно пальцами по столу забарабанила.
– Бабушка, а как возможно такое?
– Вот так, когда жизнь на жизнь поменяли, и получается. Мать Любавы, судя по всему, ведьмой сильной была, она точно могла такой ритуал провести, вот и родилась у нее доченька.
– А Любава сама?
– Ежели Федор на свет появился, то и она могла. Или ей провел кто-то. Она все ж слабенькая, верно, брат сильнее был, он и помог.
– Боярин Данила?
– А ты сама подумай, когда они брат да сестра, а Любава старшая и ритуалом черным на свет появилась, так и брат ее тоже от ритуала зачат был. А когда мать его ведьма, то и он тоже колдуном получился. Книжным, конечно, не природным, а слабым или сильным, не ведаю, не видывала я его, но ежели ритуал провели… сильная ведьма его сама для себя проведет и для другого может.
– Но тогда… ежели Любава слабая, да от ритуала, и Данила от ритуала – он еще слабее быть должен?
– И то верно. Значит, и еще кто-то есть, третий, покамест нам неведомый.
– Искать гадюку надобно, бабушка. Значит, было колдовство черное, запретное. А Федор теперь тоже ритуал проводить должен? Чтобы ребеночек у него был?
– Или он, или для него кто другой – неважно. Сам по себе он ребенка не сделает.
– А ежели от такой, как я или Аксинья?
Задумалась Агафья.
– Зачать может, наверное. А только или плод мертвый будет, или скинешь ты его – не получится от него родить. Сам по себе с девками он быть может, а вот род свой продолжить не сможет он.
– Только после ритуала ребенок живой от него появится?
– Более того, даже проведет для него кто ритуал, ребенка его выносить будет очень тяжко. Тут права ты – женщина нужна будет с сильной кровью, а рядом с ним две таких, ты и Аксинья…
Устя кивнула.
Почему-то так она и думала.
– А боярин Утятьев что?
– Дочь его не видела я, а боярин человек самый обычный. Нет в нем никакой силы, ни спящей, ни в крови растворенной, ничего от него ждать не надобно. Не знаю, за что они титул получили, но причин может быть множество, чего уж сейчас разбираться, старые кости тревожить?
Устя кивнула задумчиво.
Значит, Анфиса Утятьева Федору не подошла. Да и так понятно, была б в ней хоть кроха силы, Федора бы в такой приступ не сорвало.
Памятна Устинье была та ее жизнь, черная, в которой приходил к ней Федор, клал на колени голову, и надо было его обнимать и гладить. Ей после такого завсегда тошно становилось, а он уходил, как водицы живой напившись, сил насосавшийся… клоп гадкий! И приступов у него опосля не было, что верно, то верно.
Когда он уезжал надолго – случались, а рядом с Устей – нет.
– Бабушка, вернулся ли Божедар?
– Вернулся, Устенька.
– Попроси его, пожалуйста, пусть узнают все возможное про мать Любавы. Чует мое сердце, неладно там… вроде бы и ясно все: вот Любава, вот брат ее, но кажется мне, что мало узнали мы. Слишком мало. Расспросили слуг боярских и успокоились, а ведь и до замужества была у нее жизнь? Мало ли кто был в той жизни?
Чутью Устиньи Агафья доверилась.
– Хорошо, все узнаем, дитятко. А покамест – завтра бы день пережить.
Устя кивнула.
– Бабушка, еще одно. О Пронских узнайте, что только возможно. О боярыне Пронской.
– Степаниде?
– Нет, о молодой боярыне. Не знаю, как зовут ее, а только кажется мне, что и она как-то тут связана. Ты к ней не приглядывалась?
– Даже и не подумала, на Любаву смотрела, на Федора, некогда мне по сторонам глазеть было. Так, взором прошлась… Ты думаешь, с ней неладно – или в ней?
– Не знаю я, что и думать. Не нравится она мне, а что неладно – не знаю я.
– Хорошо, Устя, расспросим да и знать тебе дадим. Покамест же осторожнее будь, вдвое, втрое. Завтра у тебя врагов вшестеро прибавится, вдесятеро.
Устинья это и так знала. Но ради Бориса – пусть враги прибавляются! Она их всех похоронит!
* * *
Аксинья и свадьбу-то свою запомнила плохо. Когда б сказали ей, что всему виной капелька дурманного зелья, кое подлила ей царица Любава, так и не поверила бы.
Но и зелье было, и смотрела она на все, ровно через толстое стекло.
И даже когда они с Федором вдвоем остались, не испугалась она ничего, словно не с ней, с кем-то другим все происходило.
На ком-то другом платье рвали, рыча от злости, с кого-то другого рубашка в угол улетела, и потолок над кем-то другим поплыл, и почти не больно даже, просто подушка почему-то горячая и мокрая, как и ее щека…
И Федор, получив свое, отстраняется, довольно падает рядом и тут же засыпает.
Аксинья – не Устинья, но похожи две сестры, в полусумраке спальни, в зыбком пламени свечей, что одна, что вторая – почти едино ему. Главное – кровь, одинаковая у обеих девушек.
Аксинья медленно встает с кровати, обмывается из кувшина, неловко проливая воду на пол – и съеживается на лавке.
Ей больно, тошно, страшно и одиноко. И даже дурман этого не смягчает.
Не так ей мечталось, не так думалось, не то было с Михайлой, от его поцелуев голова плыла, сердце замирало сладко, а тут все тошно, страшно, и болит все сильнее, и пятна синие на запястьях, на бедрах – намеренно грубым Федор не был, просто не думал ни о ком, кроме себя.
И ноет что-то внутри.
Болезненное, беспомощное, словно струна натянулась и вот-вот лопнет…
Аксинья не понимала, что происходит, а все просто было. Первая кровь женщины пролилась, утрачена ее невинность, которую отдала она Федору и которая связала мужчину и женщину. С Михайлой – это так, игрушки были, а вот сейчас все всерьез, и связь между мужем и женой образовалась. Ущерб Федора теперь ее силой заполнялся, ей приходилось мужа поддерживать. А что не знала она, не понимала происходящего, так с неопытной еще и лучше тянуть силу, потому как легче и проще.
Федор на бок повернулся, руки протянул, жену рядом не нащупал и глаза открыл.
Подошел, сгреб Аксинью в охапку, перетащил на кровать, ну и еще раз долг отдал, зря тащил, что ли? Потом пригреб ее к себе поближе, как была, и, не слишком заботясь об удобстве жены, снова засопел. Только уж теперь выбраться не получилось у женщины.
Аксинья лежала и тихо плакала. И старалась не шевелиться, потому что дурман развеивался окончательно, а боль нарастала. И внутри, и снаружи…
За происходящим в спальне наблюдали двое. Не из любопытства, а надо так было. Ежели Федор и эту удавит… или, что хуже, с ним припадок случится, помогать надо будет – они мигом придут. Но не пришлось.
Ведьма еще раз спящего Федора осмотрела, кивнула, глазок закрыла.
– Отсюда плохо видно, но мне кажется, установилась привязка. Первое время им бы лучше рядом побыть, потом уж легче им расставаться будет. Но девка слабенькая, надобно кого посильнее, этой не хватит надолго.
– Сестра ее посильнее, да там покамест не получится ничего. – Платон недовольно бороду огладил.
Ведьма только плечами пожала:
– Значит, еще кого искать будем. Феде сейчас полегче будет, вот ребеночка… не знаю, получится ли. Там придется кого-то из родственников Аксиньи… отец или брат подойдут.
– Брат, – кивнул Раенский. – Не сразу, конечно, месяца через два или три, как привязка установится.
– Хорошо. Что для ритуала нужно, все приготовлю. – Ведьма платок поправила и к выходу развернулась.
А что? Все необходимое она уж увидела, а остальное ей и не надобно. И так неуютно ей на свадьбе было, ровно чей-то взгляд спину сверлил, пристальный, холодный, как клинок меж лопатками уперся.
Кто?
У кого она подозрения вызвала?
Выяснять надобно. И – устранять. Ни к чему человеку с такими подозрениями на белом свете жить. Она поможет.
* * *
На рассвете в церкви, считай, никого и не было.
Патриарх лично.
Семья Заболоцких – вся, кроме Вареньки маленькой и Аксиньи.
Боярин Пущин.
И самые главные люди – жених да невеста.
Борис и Устинья.
Боря невесту к алтарю вел, в нарушение всех правил, а Устя ровно от счастья светилась под покровом легким, кружевным. Вот уж не знала она, что получится, когда кружево плела, а вышел для нее покров: легкий, летящий, снежный…
Патриарх и сам улыбнулся невольно.
Не женятся так цари-то. А только видно, что у этих двоих счастья да любви куда как побольше будет, чем у Федора с Аксиньей. Там и жених стоял, ровно гороха наевшись, и невеста пошатывалась, глаза у нее тоскливые были, а тут оба светятся.
И государь – уж и не думал Макарий, что с такой теплотой Борис на невесту смотреть будет. Но тут явно не только расчет, хотя и он оправдан.
Заболоцкие – род не слишком богатый, но древний. И не слишком многочислен этот род, многое для себя не попросит, а государя поддержит. А еще Федор на Аксинье женился…
Ох, не нравился патриарху этот брак, но Любава настояла, надавила. А вот сейчас венчал он царя и внутренне понимал – все хорошо, все правильно, и на сердце легко и приятно было.
Наконец, последние слова отзвучали, Борису невесту поцеловать разрешили. Государь покров приподнял – и к губам невесты потянулся, а та руки ему на плечи положила, навстречу приподнялась – и так у нее глаза сияли…
Любит она его.
И Макарий поневоле взмолился Господу. И не думал он, а вот само как-то вырвалось.
Господи, спаси их и сохрани! Долгих лет им и детишек побольше!
* * *
Пира тоже не было, молодые в покои государевы прошли, к изумлению всех встречных. А и то – идут по коридору ни свет ни заря двое, рука об руку, государь и боярышня Заболоцкая, и лица у них счастливые… в покои государевы прошли – и там заперлись.
И как понимать такое?
И Борис еще охрану у дверей поставил и приказал никого не впускать! Хоть тут бунт под дверью развернется – гнать всех нещадно, хоть с оружием, хоть в пинки и тычки.
Стрельцы переглянулись, но на охрану встали, бердыши скрестили.
Потом уж, минут через пять, боярин Пущин пришел, Егор Иванович. Его стрельцы любили и уважали за справедливость и кулак тяжелый, спрашивать не решились, да боярин и сам все объяснил, улыбнулся хитро:
– Государь только что с боярышней обвенчался. Вот и не надобно мешать им.
Едва бердыш подхватить успел, а то бы грохнул тот об пол не хуже колокола. Второй стрелец крепче оказался, удержал оружие, но челюсти оба уронили. Полюбовался боярин на зрелище, головой покачал:
– Рты захлопните. Чего удивительного-то? Отбор для царевича был, так и государь себе кого присмотрел да брату выбор давал, не женился. А как обвенчали Федора, так и государь тянуть не стал. Чай, две свадьбы подряд – много, и так похмелье у всех лютое будет.
Стрельцы переглянулись, потом один все ж решил вопрос задать:
– Говорят, старшая боярышня Заболоцкая того… порченая? В обморок она упала на смотринах, оттого и царевич на сестру ее польстился?
– Не упала, а договорились они поступить так, чтобы Федор мог младшую сестру выбрать, – не сильно покривил против правды боярин. Устя от Бориса таить не стала ничего, а Борис Егору Ивановичу рассказал. Считай, и не соврал боярин Пущин, лишь не уточнил, кто и с кем договаривался.
– А-а…
Особо ничего стрельцы не поняли, ну да боярин на то и не рассчитывал.
Он сплетню кинул, Илья Заболоцкий добавит, а дальше люди и сами управятся. Таких кренделей небесных наплетут – куда ему? Еще и сам будет слушать да удивляться…
А пока он Борису чуток времени выиграет. Пусть у них с женой хоть пара часов будет наедине, потом-то кошмар начнется.
Боярин даже поежился чуток и проверил кусочек воска в кармане.
Как самый крик да лай пойдет, надобно будет уши залепить потихоньку. А то болеть потом будут… он и на заседаниях думы Боярской так поступал, когда визг поднимался, вот и сейчас надобно, чай, уши свои, не казенные…
А визг точно будет, или он царицу вдовую не знает. Интересно, доложили ей уже?
И боярин приготовился ждать визит Любавы. Пропустить такое? Да век он себе не простит, это ж какое представление будет! Можно будет потом и внукам рассказывать!
* * *
Борис и Устинья друг на друга смотрели, никто первый шаг сделать не решался. Потом Борис руку протянул, жену к себе привлек, Устя вперед подалась, доверилась безоглядно.
Вот она я, вся твоя, что хочешь, то и делай со мной, люблю я тебя!
Люблю, без меры, без памяти… столько лет оплакивала, столько лет о тебе безнадежно думала, теперь, когда мечта сбылась, ничего не страшно уже…
Ан нет. Страшно.
Мечты лишиться.
А остальное – пусть кто другой боится.
Борис о ее мыслях не знал, только губы розовые, приоткрытые совсем рядом были, и как тут удержаться? Он и поцеловал девушку, и еще раз, и еще… и отклик почувствовал, и ручки маленькие по его груди заскользили… Утро?
А кому важно, утро или ночь?
Важно, что между двумя людьми происходит, словно молния ударила, обожгла, опалила, воедино слила – где чье дыхание? Где чьи руки? Чье сердце бьется так отчаянно, чей стон прозвучал в полусумраке спальни?
Неважно это уже.
Все равно двое на кровати стали единым целым – и это правильно.
А когда стихли последние вспышки молнии, сняла Устинья с себя коловорот, подарок волхва, да мужу на шею и повесила.
– Не снимай никогда, Боренька. Он тебя от беды убережет, мне минуту лишнюю даст, случись что.
Боря кивнул, ладошку супруги поцеловал.
– Устёна… счастье мое нежданное.
– Боренька…
И столько света в серых глазах было, столько ласки да любви, что не удержался государь. Поцеловал ее еще раз, и еще… Не ждал он такого, не гадал, а получилось вот!
Устёнушка…
* * *
Как волна сплетня пошла по терему, побежала от человека к человеку. Зашептались, зашушукались по углам люди, дошло и до Любавы.
Та спервоначалу рукой махнула:
– Бред все это!
– Не знаю уж, как бред, государыня-матушка, – боярыня Пронская на своем стояла, – а только Иринка, Матвейкина дочь, сама видела, как вел государь боярышню Устинью в покои свои!
– И что?
– И про жену боярин Пущин стрельцам сказал! Анька на тот момент рядом была, она и услышала…
Любава только головой помотала. Не могла она себе такого даже представить, это ж… это ж стольким ее планам крах придет! Как в такое поверить? Думать о таком и то страшно: чтобы Борис на такой бабе женился, бабе сильной старой крови! Она ж Федору нужна! И Любаве нужна – а тут все их планы рухнули враз! Нет, нельзя в такое поверить!
– Лжу молвишь! Не мог Боря так с братом поступить!
Степанида только руками развела:
– Казни, государыня, когда так, а что слышали девки, то и передаю.
Любава брови сдвинула:
– Сейчас сама схожу к пасынку да разберусь, чтобы не мололи пустое, не трепали языками грязными честь государеву.
О боярышне промолчала Любава, другое подумала.
Свадьба?
Да какая тут свадьба быть может, Борис с Устиньей и словом, считай, не перемолвился, взгляда не бросил лишнего, не то что на боярышню Данилову, но ту устранила она. Значит, когда не свадьба, то блуд промеж ними?
А и такое быть может, государь захотел да и взял, ничего удивительного. Отец его на такое способен не был, а вот у государя Сокола, говорят, кроме жены законной еще шесть наложниц имелось, и все довольны были. Что ж, Любавины планы это не сильно нарушает. Девственная кровь мужа с женой связывает, а только и иначе привязать бабу к мужику можно, и ритуал на то есть, не пожалеет, чай, для своих-то…
Феденька расстроится, конечно, что не первым он станет у зазнобы своей проклятой, ну так порченую-то девку и замуж не позовут, и останется она при сестре в приживалках. Борис на ней точно не женится, и выбора не будет у Устиньи. Федор и попользуется, ну и Любава тоже. Авось как обломают мерзавку, так посговорчивее будет, гадина!
С тем государыня и направилась к покоям пасынка.
Неладное она на подходе почуяла: сидит неподалеку от дверей государевых на табурете резном боярин Пущин, щурится лукаво, смотрит дерзко.
– Пожаловала, государыня?
И вопрос так задан, с такой подковырочкой, что Любава аж зубами скрипнула. Не любит ее старик этот, ой как не любит, может, и стоило его раньше извести…
– Чего удивительного, Егор Иванович, – улыбнулась приторно, пропела любезно. – Сплетни да слухи по палатам поползли, пасынка моего опорочить вздумали, подлость ему приписывают, будто он любимую Феденьки к себе уволок.
– Не бывало здесь Аксиньи Алексеевны. – Боярин ухмыльнулся, белыми зубами из бороды густой сверкнул. – С мужем она любимым да любящим. Это тебе соврали, государыня, прикажи пороть мерзавцев нещадно.
Любава аж зубами заскрежетала.
Уел, мерзавец! Не скажешь ведь, что Феде та Аксинья – замена жалкая…
– Устинья Алексеевна зато была, а ведь сестра она Аксинье, Феденьке свояченица.
– А-а… ну, когда о государыне Устинье Алексеевне речь, так верно все, была она, только беспокоить не велено, почивают они с супругом.
Егор Иванович издевался в удовольствие. Ух, не любил он государыню Любаву, его б воля – гнал бы он ту девку со двора во времена оны, плетьми гнал! Отца опутала, теперь до сына добирается, паразитка… Ужо он ее! Хоть словами, когда за кнут взяться не дозволено.
– Государыне?!
И так это прозвучало – гадюка б прошипела ласковее. Любава глазами в боярина впилась: хитер гад да умен, не оговорится он так просто, а значит… что?!
– За супругу свою я отвечу, Егор Иванович. – Борис тихо говорил, да отчетливо.
Любава развернулась, вскрикнула невольно от отчаяния, руку ко рту подняла.
Стоят перед ней двое, за руки держатся и смотрят так… Не соврали языки змеиные, ни словечка лжи не прошипели. Сразу видно, муж и жена это.
Борис плечи расправил, смотрит соколом… Вот ради этого и хотела Любава, чтобы Устинья Федору досталась, и лучше бы нетронутой. Так бы она всю силу мальчику отдала, помогла бы матушка, а сейчас уж, и случись меж ними чего, не достанется Феденьке ни единой искорки.
Сразу видно – все в Бориса влилось, да по доброй воле, да от всей души… дуры влюбленной!
Не смотрят так на супруга, только на любимого такой взгляд бывает, светлый, ясный, сияющий. И видно Любаве, что от Устиньи ровно облачко серебристое тянется, Бориса окутывает, лечит, ласкает… Все, что Маринка из него выпила, ему теперь втрое вернулось.
И Борис на супругу смотрит с любовью. Может, и сам не понял он, а только не похоть в его взгляде, как с Маринкой было, – любовь. Желание защитить, уберечь, собой закрыть – считай, один шаг ему до осознания остался, легко он его сделает.
Теперь Феде и надеяться не на что. И ритуал не поможет. Ежели б хоть не любили они, не была та любовь взаимной… бесполезно. Таким-то все колдовство побивается. Не получит от Устиньи Федя ничего, хуже яда для него теперь эта девка.
Как же…
Любава и сказать ничего не успела, за ее спиной хрип раздался:
– Супругу?! С-супругу?!
Федор по стене оседал, и лицо у него черное было от прилившей дурной крови. Только в этот раз Устинью ему на помощь и не потянуло ничуточки, она только вторую руку на запястье мужа положила, Борису улыбнулась:
– Может, Адама пригласить, любый мой? Пусть посмотрит молодожена, не хватил бы его удар… с маменькой вместе?
Эти слова для Любавы последней каплей оказались. Не привыкла она к такому-то… свиньей дикой завизжала:
– ГАДИНА!!! Предательница, ненавижу тебя, стерва такая подлая…
Борис брови сдвинул, но Устя и слушать не стала, и ругаться тоже.
– Не надо, не гневайся, Боренька, больной она человек, мачеху твою бы к людям знающим…
– В монастырь Оскольский, – тихо-тихо подсказал боярин Пущин, и Устя за ним громко уж повторила3.
Борис и спорить не стал, мачеха ему всегда поперек шерсти была, а тут сама и подставилась, как случаем не воспользоваться?
– Как скажешь, милая. Адам, наконец-то! Помощь окажи моей мачехе и брату единокровному, сам видишь, нервы у них шалят. А ты, боярин, патриарху скажи, пусть в монастырь отпишет, все ж царица к ним поедет, не чернавка какая, пусть приготовят все честь по чести.
Этого уж вконец не выдержала Любава, такое завизжала черное, что, когда б Адам Козельский ей в рот не влил ложку опиума, стекла б трескаться начали от чувства ее.
Федор так на полу и сидел. И видела Устя, что ночь с Аксиньей ему на пользу пошла, он ровно более цельным стал, спокойным… только теперь уж не стал, а был. Много из него дурной желчи выплеснулось, лицо все багровое, глаза навыкате, на шее жилы вздулись – дотронуться страшно, чудится, лопнут сейчас и из них не кровь – желчь брызнет черная, ядовитая.
– Устя…
То ли крик, то ли стон… Устя на него смотрела через сияние любви своей, и каким же Федор ей ничтожным казался.
– Я мужа своего люблю, Федя.
Вспомнил Федор их разговор – и по горнице вой звериный разнесся. Может, и кинулся бы али сказал чего, да Адам и до него со своей склянкой добрался, влил и ему ложку. Такой дозой опиума быка уложить можно было, так что и Федор поплыл, расслабился.
– Нехорошо такое людям видеть, – боярин Пущин головой покачал. – Давай, государь, я его к супруге под бочок отнесу, пусть она о нем и заботится. Да и вдовую государыню хорошо бы покамест чьим заботам поручить, неладно с ней, сильно неладно.
Борис и сам это видел.
– Макария прикажи позвать, Егор Иванович. И пусть боярыня Пронская за государыней приглядит, авось опамятуется мачеха моя. Разошлись, ишь ты… Устя моя им не по нраву!
Егор Иванович только поклонился, а слова свои прикусил тщательно, чтобы наружу не вылезли.
Не по нраву, государь? Ошибаешься ты, да и сам то поймешь скоро. Федор ее любит, а у царицы планы на супругу твою были, правильно ты гадину эту из дворца, наконец, убираешь, раньше надобно бы, ну так хорошее дело никогда сделать не поздно.
И подальше ее, и в монастырь, там настоятельница – родня Егора Ивановича по матушке, не откажет авось родственнику. Не вырвется оттуда змеица подколодная, не ужалит, матушка Матрена за ней в тридцать глаз следить будет!
А и поделом ей, гадине!
* * *
Борис хотел делами государственными заняться, Боярскую думу созвать… да и звать-то не надобно, считай, все в палатах государевых оставались после пира вчерашнего. Но и Устю от себя отпускать не хотелось ему.
Устинья сама решила:
– Боренька, когда дозволишь, ты бы делами занялся, а я за ширмой посидела, рядышком.
– Скучно тебе, поди, будет, Устёна?
– А я книжку возьму с собой, почитаю немного, вот время и пройдет.
Борис и сомневаться не стал.
– Когда так… пойдем, выберешь себе книгу, да и посидишь. Не хочу я с тобой разлучаться, даже ненадолго.
Устя к мужу прижалась, улыбнулась ему ласково. О причине говорить не стала, ни к чему. А просто все. Сейчас Борис от ее силы все получает, ровно пуповина между ними. Первая ее кровь связала мужчину и женщину, и она что может – все ему отдает. Оттого и хорошо ему, он восстанавливается.
Оттого и ей хорошо – не тянут из нее жилы, все по доброй воле она отдает, все с радостью, не так, как с Федором. А добром отданная сила втрое прибывает.
И… оказывается, не врали в монастыре бабы. Сладко это, когда с любимым и единственным, по-настоящему хорошо, и звезды днем увидеть можно.
Устя чуть покраснела, вечера ей дождаться тяжко будет, а потом Борис ей библиотеку показал.
– Выбирай, что пожелаешь…
Устя вдоль полок прошлась, на лембергском книгу выбрала, пьесы из новых, в монастыре таких точно не было. На мужа посмотрела:
– Можно?
– Ты на лембергском читаешь, Устёна?
– На лембергском, франконском, джерманском, ромский знаю, латынский, вот с грекским хуже всего покамест, читать на нем сложно мне, разговаривать тоже с трудом могу.
– Да ты у меня сокровище настоящее! Отец тебя обучать приказал?
– Илюшке учителей нанимали, а я подслушивала, сама повторяла, нравится мне учиться. – Устя улыбнулась стеснительно. – Языки учить несложно, интересные они.
– Наших детей учить будешь?
Устя вся покраснела, от ушей до кончиков пальцев ног горячая волна пролилась.
Детей…
А ведь и правда, от любви дети и случаются, и сейчас об этом особенно ясно думалось, когда узнала она, что такое любовь, что такое счастье…
– Буду, Боренька, буду…
– Пойдем тогда, радость моя. Покамест бояре соберутся, я тебя как раз устроить успею поудобнее.
Устя и не возражала.
Главное – поближе к мужу быть. И…
– Не снимай коловрат, родной мой! Жизнью своей прошу – не снимай.
Боря в глаза серые посмотрел, кивнул:
– Если только с головой снимут. Слово даю.
И Устя выдохнула, чуточку легче стало ей. Словно облако рассеялось над головой.
– Идем, Боренька.
* * *
Аксинья на кровати сидела, плакала тихонько.
Больно было и снаружи, тело все болело, но и душа болела, ее ровно судорогой сводило. Тоскливо, тошно, тяжко ей… Почему так?
Когда Федора ровно мешок внесли да на кровать сгрузили, Аксинья и не поняла сразу, что случилось. Только осознала – неладно что-то.
– А… что?..
Вопрос и тот задать не смогла, Адам Козельский замешательство ее понял, сам ответил:
– Когда царевич о свадьбе брата узнал, в буйство впал, пришлось его зельем сонным напоить. Как очнется, пить ему давать надобно, я кувшин оставлю и помощника еще пришлю. И выходить ему покамест нельзя, государь огневался, приказал брату у себя побыть.
Аксинья про свадьбу услышала, головой замотала, с трудом слова осознавала она. А все ж новость-то какая! Даже равнодушие ее не выдержало.
– Государь… женился?
– На сестре твоей, Устинье Алексеевне Заболоцкой. Государыня Устинья теперь у нас. – Адам, который Аксинью еще с первой встречи на ярмарке недолюбливал, щадить бабу не стал, резанул наотмашь, как хороший лекарь и должен. – Сегодня и обвенчались на заре.
И привычно полез за склянкой с опием, когда взвыла уже и Аксинья, забилась в истерике, едва мужа своего законного с кровати не снесла.
– Устька… гадина!!! НЕНАВИЖУ!!!
Да что ж с ними такое-то?
Придется помощника в покоях царевичевых оставить, пусть и мужа отпаивает, и жену… чего их разобрало-то так? Женился Борис – так что же? У них позволения не спросил, вот ведь еще чего не хватало государю! Нет бы порадоваться, что двое людей счастье свое нашли…
Ладно-ладно, знает Адам про чувства Федора, про них, почитай, весь дворец знал, ну так ты ж на другой женился, чего тебе еще надобно? Чтобы о тебе вздыхали всю жизнь?
И за брата бы порадовался, уж рядом с государыней Мариной Устинья Алексеевна – сокровище истинное, ровно алмаз драгоценный, хорошо, что разглядел ее государь. А ты…
Все вы! Ни радости, ни понимания, только злоба наружу лезет ошметьями грязными, ядовитыми.
Какая родня-то бывает гадкая! Смотреть на них и то с души воротит!
* * *
Заседание думы Боярской быстро началось, Устя едва за ширмой устроиться успела. Распорядился Борис, ей кресло поставили удобное, на столик рядом кувшин с водой принесли, заедки разные, орешки да сладости… Устя книгу открыла, но не пьесы ее внимание занимали. Тут перед глазами куда как интереснее действие разыгрывается.
Бояре собирались, шушукались, кому уж донесли о свадьбе государевой, кому не успели еще насплетничать, но Борис и сам тянуть не стал:
– Поздравьте меня, мужи честны́е. Сегодня на рассвете повенчались мы с Устиньей Заболоцкой, царица у меня теперь есть.
Тишина повисла.
Переглядывались бояре, думали, и не все о добром, о хорошем. Молчали… ждали, кто первый рот откроет. Оказалось – боярин Мышкин:
– Не любо, государь! Взял ты девку худородную, да еще, говорят, больную – к чему? Была уж одна такая… Не любо нам!
Когда б не открыл Фома рот, может, и сложилось бы иначе. А только крепко Мышкина в последнее время не любили, мигом укорот дали!
– Помолчи, отродье змеиное! – Боярин Орлов спускать отравление дочери никому не собирался. Да и государю благодарен был, и Устинье тоже… – Здорова боярышня, и деток крепких государю ро́дит! Лекарь ее осматривал, как и всех невест… гхм! Когда пировать-то будем, государь?
– Сегодня и будем, Кирилл Павлович, чего тянуть? Всех вас, бояре, на пир приглашаю, рад буду.
– И то! – Боярин Васильев опомнился да подхватил речь: – Совет да любовь, государь, кого б ни выбрал ты, а мы, слуги твои верные, тебя завсегда поддержим.
– Хорошо сказано, – боярин Пущин посохом об пол треснул. – Любо!
– А и то! – Боярин Репьев присутствующих обвел добрым взглядом, ласковым таким, в котором дыба заскрипела да железо каленое звякнуло. – Все мы боярышню видели, все одобрили. Хорошо ты, государь, выбрал. А вот что пир не устроил, мы попомним еще, «горько» не кричали, невесту не продавали… Непорядок!
Устя за ширмой к глазку приникла, на бояр смотрела, отмечала, кто за них, кто против.
На боярина Раенского посмотрела. Сидит Платон Раенский, ровно слив незрелых наелся. И живот у него крутит, и бежать бы ему, и нельзя, и тошно ему все слушать…
Оно и понятно, сегодня все планы их рухнули.
А вот боярин Пронский спокоен, не волнует его происходящее, сидит, разве что не позевывает. У него взрослых дочерей нет, ему и не важно, на ком государь женился.
Хм-м-м-м?
Так что же с супругой его неладно? Отчего получилось так? Вроде и не первый год женаты они, а детишек нет? Странно это…
Устя смотрела, бояре разговоры вели, потом Боря отпустил всех, часа два уж прошло, ширму в сторону отодвинул.
– Не утомилась, радость моя?