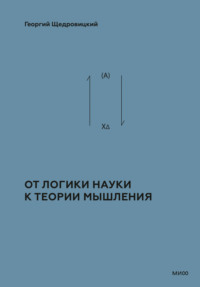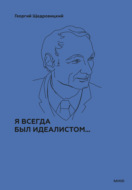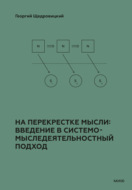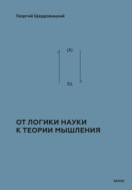Kitabı oxu: «Теоретико-мыслительный подход. Книга 1: От логики науки к теории мышления»
Информация от издательства
Издано при поддержке Некоммерческого научного фонда «Институт развития им. Г. П. Щедровицкого»

Редактор-составитель А. В. Русаков
Научные консультанты: к.ф.-м.н. Е. В. Поникаров, к.ф.-м.н. В. А. Школдин, Н. А. Малкин
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
© Текст, составление. Некоммерческий научный фонд «Институт развития им. Г. П. Щедровицкого», 2025
© Список литературы, примечания редактора, указатель имен, предметный указатель. А. В. Русаков, 2025
© Оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2025
* * *
Предисловие А. Г. Реуса к многотомному изданию «Учение Георгия Щедровицкого»
Перед вами главный проект моей жизни – издание Учения Г. П. Щедровицкого. Ничего более существенного и полезного для людей я сделать не в силах.
Идея издания появилась с момента смерти Георгия Петровича в 1994 году. Появились отдельные книги. Их вышло около двадцати. Но это не было целым. А целое замысливалось то в хронологическом подходе, то в тематическом, собирались деньги, работы начинались и останавливались, при этом публикация Учения становилась, на мой взгляд, все более актуальной задачей.
В начале 2021 года я понял совершенно отчетливо, что человек не вечен и, если не начать, все может расползтись и исчезнуть. Единственным утешением могла оказаться только та работа по архиву Георгия Петровича, которая была проделана в последние годы. Этот архив собран, оцифрован и с ним удобно работать1.
В этот раз составители предложили вместо хронологии и тематической логики логику подхода. И мне, после некоторых размышлений, эта идея показалась правильной. То ли потому, что я являюсь адептом СМД-подхода (системомыследеятельностного), то ли потому, что, будучи управленцем, понимаю, что самое главное, что подлежит трансляции в нашей среде, – это подход, то есть набор способов, инструментов интеллектуальной работы, которые позволяют нам мыслить мир, деятельность и мыследеятельность, участниками которой мы являемся.
Несмотря на политический флер, который в последнее время окружает Учение, когда разным как бы методологам приписывают серьезное политическое влияние на происходящее в России, я должен сказать, что «методологи» не оказали никакого, повторяю, никакого влияния на политические реалии.
При распространении Учение может кардинально поменять картину мира и, следовательно, мир как таковой. Но этот процесс займет как минимум сотню, а то и две сотни лет (хотя сетевые эффекты могут ускорять такие процессы).
Это не означает, что адепты Учения асоциальны. Нет, как люди они могут действовать: как управленцы – управлять, как образовыватели – учить, растить людей, способных меняться.
Люди живут лишь мгновенье, большинству попытка присоединиться к Великому и в нем существовать не нужна, ибо последствия зачастую несопоставимы с жизнью.
Жизнь апостолов, проповедников христианства – тому подтверждение. Только одному из них удалось умереть своей смертью – остальные были уничтожены людьми с предельной жестокостью. Но никто из них, несмотря на отсутствие интернета в то время, не исчез.
Это сравнение может показаться вычурным, но для меня оно житейское: если у тебя появилась идеология, то есть набор идей, которые после критического осмысления ты себе присвоил, превратив в подход, то они тобой движут, и ничего с этим не поделаешь.
Подход – это не концепции, это идеи и инструменты, реализуемые в живом мышлении, деятельности, коммуникации, мыследеятельности. Отдельные конкретные концепции могут быть ошибочными или неполными, а подход будет оставаться актуальным. Посмотрите на историю философии – там беспрерывно ошибались всю ее историю, но это, к счастью, не мешает человечеству философствовать.
Методология – это Учение, оно предполагает человека в деятельности, то есть человека, который постоянно практикует это Учение. А как только перестает практиковать, Учение исчезает.
Самое трудное – передать читателю Учение как подход. Поэтому мы решили, что предисловие должно состоять из живого текста тех, кто работал и продолжает работать в школе Щедровицкого, использует и развивает это Учение. Они ответили на вопрос: «Зачем это Учение нужно и что я делаю с ним?»
А. Г. Реус
Полный текст предисловия по ссылке: clck.ru/3AsXuY

I. Строение и развитие научных понятий
О некоторых моментах в развитии понятий
Введение. О тождестве логики, теории познания и диалектики
‹…› В «Философских тетрадях» В. И. Ленин писал, что существует одна наука о мышлении, которая должна быть итогом, суммой, выводом истории познания и которая на новой основе должна включать в себя то, что раньше существовало независимо друг от друга как логика, теория познания и диалектика. Последовательно проведенный в науке о мышлении историзм с необходимостью должен привести к объединению этих трех наук. ‹…›
«Если Marx не оставил “Логики” (с большой буквы), то он оставил логику “Капитала”…, – писал Ленин. – В “Капитале” применена к одной науке логика, диалектика и теория познания [не надо трех слов: это одно и то же] материализма, взявшего все ценное у Гегеля и двинувшего сие ценное вперед» [Ленин, 1969б, с. 301]3.
Однако до сих пор во многих конкретных работах и исследованиях по логике, в учебниках и руководствах логика, теория познания и диалектика отделяются друг от друга. Логика как наука о формах мышления противопоставляется теории познания как науке о содержании мышления. Обе они, в свою очередь, как науки о мышлении противопоставляются диалектике как науке о законах движения объективного мира и методу. При этом как логика, так и теория познания в этих работах остаются неисторическими науками.
Задача науки о мышлении состоит в том, чтобы в конкретных исследованиях объединять логику, теорию познания и диалектику. Их объединение предполагает исторический подход к процессам мышления, и, наоборот, исторический подход с неизбежностью объединит их.
* * *
Противопоставление логики и теории познания основывается на различении и противопоставлении формы и содержания в процессах мышления. Эти категории не могут быть ничем иным, как выражением определенного анализа процессов мышления. Но откуда, собственно, возник этот анализ и что он выражает?
Чтобы ответить на эти вопросы, нужно обратиться к некоторым моментам истории, логики и философии.
§ 1. Из истории логики
По-видимому, в древнегреческой философии человечество впервые начало отличать сам объективный мир от его отражения в сознании человека. Различение это нашло себе выражение в появлении науки о мышлении – логики. Основателем и создателем ее был Аристотель.
Первые определения и закономерности, которые удалось вывести этой науке, были, естественно, самого общего порядка. В категориях «понятия», «умозаключения» и в их классификации были зафиксированы наиболее общие определения и абстрактные моменты мышления. Несмотря на то, что Аристотелю удалось отразить лишь самые поверхностные и внешние моменты нашего мышления, эта работа делает ему величайшую честь, ибо, как говорит Гегель, «величайшей концентрации мысли требует именно отделение мысли от ее материи и фиксирование ее в этой отдельности» [Гегель, 1932, IX, с. 306].
Современная формальная логика стремится сделать Аристотеля создателем логики форм, но, по существу, эти стремления совершенно не обоснованы. Аристотель не делил мышление на формы и содержание, а поэтому не делал различия между логикой форм и логикой содержания. Он постоянно ставил и пытался решать вопросы о том, как в сознании, мышлении отражается действительность. Пользуясь «традиционной» терминологией, мы должны были бы сказать, что его логика была одновременно и теорией познания. Более того, Аристотель так и не смог последовательно и до конца провести отделение бытия от сознания. В его книгах очень часто переплетаются между собой законы существования объективного мира и законы мышления.
Логика Аристотеля устанавливала основные черты и свойства научного мышления человека, стремящегося к отражению в понятиях свойств и законов объективного мира4. Она по необходимости должна была быть диалектической теорией познания, то есть должна была ставить вопрос о том, как возникают и складываются понятия, как именно они выводятся из действительности.
Средневековая схоластика, наоборот, почти не ставила перед собой задач научного исследования. При своем формировании, в III–VIII веках, новый феодальный способ производства встал в непримиримое противоречие ко всему, что было связано с отжившим рабовладельческим строем.
Возникла идеология нового общества – христианство. Эта новая идеология встала в резкую оппозицию ко всей старой языческой культуре, а по мере усиления влияния христианства происходил упадок античной культуры. Став официальной религией, христианство «прославило» себя дикими выступлениями против «языческих» науки и искусства.
В VIII–XII веках феодализм переживал вторую фазу своего развития. «…В ту эпоху, – пишет Энгельс, – …земледелие и скотоводство были решающими отраслями производства. ‹…› Промышленность и торговля были подорваны уже в эпоху римского упадка; германским нашествием они были почти совершенно уничтожены. То, что из этого еще уцелело, было большей частью в руках несвободных и чужестранцев и продолжало считаться презренным занятием. ‹…› Народ растворился в союзе мелких сельских общин, между которыми не существовало никакой – или почти никакой – экономической связи, так как каждая марка5 сама удовлетворяла свои потребности собственным производством, а отдельные соседние марки производили к тому же почти в точности те же самые продукты. Обмен между ними был поэтому почти невозможен» [Энгельс, 1961д, с. 497, 496]6.
Благодаря всем этим обстоятельствам феодальное общество в VII–VIII веке не нуждалось в научных исследованиях.
Только по мере хотя и медленного, но непрерывного развития производства, мореплавания и торговли возникали потребности в науке, в развитии научного исследования. Но когда эти потребности возникли и стали появляться люди, звавшие к исследованию природы, против них «с огнем и проклятьем» выступила церковь. Когда же огня и проклятий стало недостаточно – им на помощь пришло богословие, ставшее официальной наукой феодального общества. Ее лозунг был сформулирован в «знаменитом» тезисе Фомы Аквинского: «Философия – служанка богословия»7. Но и официальная наука не могла устоять против духа времени. В рамках богословских споров возникала философская борьба, в недрах астрологии зарождалась научная астрономия, в рамках магии и алхимии – физика и химия. В области теории новые веяния нашли свое выражение в обращении к «языческим авторам». Аристотель «получил доступ» на университетские кафедры.
Однако это заимствование принесло мало пользы средневековой науке. Она получила достижения античной науки и философии как нечто внешнее – в виде категорий, не опирающихся на конкретное содержание предметного мира, и не знала, зачем и каким образом эти категории выведены. У древних греков все понятия были теснейшим образом связаны с предметной действительностью, с их производством и общественными отношениями, а средневековая схоластика разорвала эту связь и наделила абстракции самостоятельным, независимым от действительности существованием.
Это в полной мере относится и к логике. Найденные Аристотелем общие определения и закономерности мышления приняли вид чего-то извечно присущего нашему уму. Поэтому мы можем сказать, что средневековая логика была формальной, но только в том смысле, что она оторвала или, вернее, пользовалась оторванными от действительности понятиями, наделила категории самостоятельным существованием. В этом смысле она действительно была формальной. Но схоластическая логика совершенно неповинна в том формализме, который ей приписывает современная формальная логика.
Схоласты никогда не выделяли в самих процессах мышления форму и содержание. Поэтому наука о мышлении у них не была разделена на логику и теорию познания. Важнейшим вопросом, занимавшим средневековую философию в течение нескольких веков, был спор между номинализмом и реализмом, в котором неразрывно переплетались вопросы логики и теории познания. Именно потому, что схоласты получили аристотелевскую философию в наследство как нечто внешнее и чуждое, их больше всего должен был занимать вопрос: что же представляют собой употребляемые им (Аристотелем) категории?8
Хотя номиналистов в этом споре и называли иногда «формалистами», потому что они утверждали, что «роды» и «универсалии» – лишь название, нечто формальное по отношению к реальности, – легко видеть, что употребление этого термина имело совсем иной смысл, чем тот, который мы вкладываем или стараемся вложить в него сейчас. Не процессы отражения номиналисты делили на форму и содержание, а отношение между природой и отражением выражали в этих категориях.
Выделение формы и содержания внутри процессов отражения и их противопоставление состоялось значительно позднее. Оно ведет свое начало от И. Канта, и поэтому именно с его именем связан тот тупик, в который попала в дальнейшем наука о мышлении.
Общая позиция древнегреческой и средневековой логики исторически совершенно правомерна, а следовательно, и оправданна. Значение проделанной ею работы станет совершенно ясным, если мы разберем здесь одно место из «Экономических рукописей 1857–1858 годов» К. Маркса9.
Критикуя классическую политэкономию XVIII в. – Ф. Бастиа, Г. Ч. Кэри, П. Ж. Прудона и других, – Маркс писал, что выделенная ею абстракция производства имела свой смысл, поскольку она действительно выдвигала то общее, что действительно присуще всем историческим эпохам, фиксировала его и тем избавляла нас от повторений. Однако, – тут же добавляет Маркс, – с помощью этих абстрактных моментов и общих определений нельзя понять ни одной действительной исторической ступени производства. Чтобы выделить те существенные различия, которые образуют развитие производства, а следовательно, и законы его существования, нужно исследовать производство исторически10.
Позиция древнегреческой и схоластической логики имела смысл, поскольку, – говоря словами Маркса, – в открытых ею категориях и в их классификации действительно выдвигалось, фиксировалось общее и тем избавляло науку от повторений. Однако с помощью открытых ею категорий, то есть наиболее общих определений мышления, нельзя объяснить ни одного действительного этапа развития мышления. Поэтому дальнейшее плодотворное развитие науки о мышлении было возможно только на основе исторического метода.
К процессам мышления надо было подойти исторически. Но такому подходу была чужда вся новейшая философия вплоть до Г. В. Ф. Гегеля. Ф. Бэкон, Р. Декарт, Дж. Локк, Т. Гоббс, Г. В. Лейбниц – все они ставили проблему мышления всегда в целом, но правильно разрешить могли лишь мелкие вопросы именно потому, что им был чужд исторический подход. И более всего он был чужд Канту.
Вполне оправданную историческую ограниченность античной и средневековой логики, которую можно было преодолеть лишь с помощью исторического метода, он, благодаря своему антиисторизму, возвел в абсолют, канонизировал.
Начал Кант, вообще говоря, с правильного замечания о том, что в процессах познания всегда имеется два члена: объект и субъект и что поэтому само знание должно быть единством объективного и субъективного. После этого Кант поставил перед собой задачу отделить субъективное от объективного. Такая постановка вопроса была уже неправомерной, так как наше отражение не является механическим соединением объективной части с субъективной частью, а представляет собой объективное в субъективном, объективное, проявляющееся в субъективном и не отделенное от него. Поставив перед собой неразрешимую задачу, Кант, естественно, оказался в тупике. Наиболее общие, абстрактные категории нашего мышления, такие как пространство, время, количество, качество, причинность и т. д., происхождение которых он не мог объяснить, были объявлены формами нашей чувственности и нашего разума, независимыми от объективной действительности.
Согласно системе Канта, в процессах познания имеется: 1) предмет и 2) способность представления. Результат действия предмета на способность представления выступает как ощущение. Еще до того, как предмет начинает действовать на субъекта, – по кантовской терминологии, a priori, – в душе у последнего находится форма чувственности, которая может быть рассматриваема отдельно от самих ощущений. Последние составляют содержание чувственности. Формы чувственности Кант назвал чистыми представлениями и отнес к ним пространство и время11.
Точно так же Кант поступает и с мышлением. Он признает, что понятия образуются на основе представлений. Однако и здесь еще до того, как предмет начнет действовать на человека, до переработки представлений в понятия, существуют чистые формы мышления12. К ним Кант причисляет, например, категории, вид и деление суждений по количеству, качеству, отношение и модальности, виды связей между суждениями и т. д.
Функции мышления, по Канту, заключаются в том, чтобы придавать единство многообразию различных представлений13. Поэтому всякое понятие и всякое суждение может быть определено как то общее, что связывает в единство различные представления (а через них и различные ощущения). Но эта функция и способность разума была определена им раньше как априорная форма. Отсюда и возникает пресловутое определение формы как того общего, что существует в процессах мышления.
Разделив процессы отражения на форму и содержание, Кант разделил и логику. Общая логика в его системе должна была изучать исключительно формы мышления вне их отношения к содержанию. Но наряду с общей логикой Кант ввел трансцендентальную логику14, которая должна была исследовать соответствие формы нашего мышления предметам действительности, или, как это звучало в его идеалистической системе, – соответствие формы мышления содержанию нашей чувственности, опыту. Позднее ученики Канта стали называть трансцендентальную логику теорией познания.
Таким образом, именно в философии Канта наука о мышлении получила ставшее «традиционным» и сохранившееся до сих пор деление на логику (подразумевается – формальную) и теорию познания, деление, основанное на противопоставлении формы и содержания в мышлении. Тем самым Кант увековечил схоластическую логику и ее определения, противопоставив их всему последующему развитию науки о мышлении. Деление процессов мышления на субъективные и объективные, априорные и апостериорные, проведенное и закрепленное в категориях формы и содержания, было механическим, антиисторическим и поэтому ненаучным. В результате этого деления логика из науки, изучавшей познающее мышление, превратилась в руководство изложения уже известного. Последователи Канта откровенно признавали это и разрабатывали рядом с логикой теорию познания. Но так как, во-первых, они были идеалистами, а, во-вторых, большинству из них, так же как и самому Канту, был глубоко чужд исторический подход к процессам мышления, их теория познания всегда оставалась лишь ненаучным умозрением.
Дальнейшее существенное развитие наука о мышлении получила в философии Гегеля. «Гегелевский способ мышления отличался от способа мышления всех других философов огромным историческим чутьем, которое лежало в его основе» [Энгельс, 1959, с. 496]. Оно дало ему возможность преодолеть ограниченность предшествующей философии и двинуть далеко вперед науку о мышлении. Прежде всего, логика была сведена к истории развития мышления. Было уничтожено введенное Кантом противопоставление формы и содержания мышления. Наконец, что является самым важным, был сформулирован диалектический метод.
Но все эти действительные успехи человеческого ума в познании мышления приняли в философии Гегеля крайне абстрактную идеалистическую форму. Когда Гегель в своей критике обрушивается на противопоставление форм содержанию, когда он стремится доказать, что такое противопоставление ненаучно, то действительным основанием его критики, основанием, соответствующим природе вещей, является исторический метод. Но это требование метода выступает у Гегеля как требование идеалистической системы, в которой он отождествляет бытие и мышление, оставив первенство за последним. «‹…› Вещь не может быть для нас ничем иным, кроме как нашим понятием о ней, – пишет Гегель. – Если критическая философия понимает отношение между этими тремя терминами [субъект, объект и мысль – Г. Щ.] так, что мы ставим мысли между нами и вещами, как средний термин в том смысле, что этот средний термин скорее отгораживает нас от вещей, вместо того, чтобы смыкать нас с ними, то этому взгляду следует противопоставить то простое замечание, что как раз эти вещи, которые якобы стоят на другом конце, по ту сторону нас и по сю сторону соотносящихся с ними мыслей, сами суть вещи, сочиненные мыслью (Gedankendinge)» [Гегель, 1937, V, с. 11].
Таким приемом Гегель устраняет проблему отражения. Если сами предметы, их сущность и природа есть только мысль, то процесс превращения объективного в субъективное, в котором запутался Кант, не представляет никаких затруднений. Для Канта определения мысли были чем-то внешним по отношению к предметам и их отношениям, формой, отличной от содержания и только находящейся в нем. Для Гегеля, наоборот, определения мысли, понятия, то есть формы составляют само содержание.
«Но если верно то, что мы указали выше и с чем, в общем, соглашаются, а именно, если верно, что природа, своеобразная сущность, как истинно пребывающее и субстанциональное в многообразии и случайности явлений и преходящем проявлении есть понятие вещи, всеобщее в самой вещи (как, например, каждый человеческий индивидуум, хотя и есть нечто бесконечно своеобразное, все имеет в себе prius (первичное) всего своего своеобразия, prius, состоящее в том, что он в этом своеобразии есть человек, или как каждое отдельное животное имеет prius, состоящее в том, что оно есть животное), то нельзя сказать, что осталось бы от такого индивидуума (какими бы многообразными прочими предикатами он ни был снабжен), если бы из него была вынута эта основа (хотя последняя тоже может быть названа предикатом). Непременная основа, понятие, всеобщее, которое и есть сама мысль, поскольку только при слове “мысль” можно отвлечься от представления, – это всеобщее не может рассматриваться лишь как безразличная форма, находящаяся на некотором содержании» [Гегель, 1937, V, с. 12].
Таким образом, мысли о всех природных и духовных вещах составляют само их субстанциональное содержание. Отождествив бытие с мышлением, Гегель должен был либо совсем отказаться от применения к данному предмету категорий формы и содержания, которые были введены Кантом, чтобы выразить особенность сознания и его противоположность объективному миру, либо вложить в них новый смысл.
Он пошел по второму пути. Те мысли «всех природных и духовных вещей», которые составляют их содержание и природу и, по Гегелю, не являются мыслями отдельного индивида или человечества. Эти мысли – с большой буквы – Мысли Духа, Бога. Это они составляют многообразное содержание предметов, «их наивнутреннейшее», «их жизненный пульс», чистое понятие, и задача мышления состоит в том, чтобы осознать эту «логическую природу» Духа и вещей [Гегель, 1937, V, с. 12]. Поэтому Мысль Духа выступает как содержание, а мысль индивида как форма. Поскольку Мысль, «чистое понятие» выступает как нечто отличное от мысли индивида, причем последняя должна стремиться к слиянию с первой, к осознанию ее логической природы, постольку содержание у Гегеля не совпадает с формой, всегда противостоит ей. Но так как трудность превращения объективного в субъективное снята отождествлением объективного с субъективным, мысль индивида не встречает никаких преград для своего слияния с Мыслью Духа, кроме времени. Взятые в своей ограниченности и конечности, эти формы непостижимы, ибо содержание противостоит им как нечто другое15. Но если мы возьмем их в движении, в «саморазвитии», то они, во-первых, сами постоянно превращаются в содержание и, во-вторых, содержание постоянно превращают в формы.
Так устраняя проблему отражения, Гегель разрешает вопрос о соотношении формы и содержания в мышлении. Совершенно правильное научное положение о содержательности форм мышления выступает как требование ненаучной идеалистической системы, отождествившей бытие с мышлением.
Таким образом, то решение вопроса о соотношении формы и содержания, которое дал Гегель, так же неприемлемо для нас, как и решение, данное Кантом.
«Логику Гегеля нельзя применять в данном ее виде; нельзя брать как данное. Из нее надо выбрать логические (гносеологические) оттенки, очистив от Ideenmystik16; это еще большая работа», – писал Ленин [Ленин, 1969б, с. 238].
Точно так же обстояло дело и с диалектическим методом Гегеля, который был итогом, резюме, сутью его логики. Законы диалектики выступают у него не как законы движения всего объективного мира и познания, а как законы «саморазвития», «самодвижения» понятий. Благодаря этому они приняли извращенную, мистическую форму движения по трехчленной формуле17 с постоянным возвращением к исходному пункту.
Задача дальнейшего развития логики и диалектики заключалась в том, чтобы освободить диалектический метод от идеалистической оболочки и привести его к той форме, в которой он только и становился действительной формой развития мыслей.
«У Гегеля диалектика стоит на голове. Надо ее поставить на ноги, чтобы вскрыть под мистической оболочкой рациональное зерно» [Маркс, 1960, с. 22].
§ 2. О применении категорий «форма» и «содержание» к мышлению
В предыдущем параграфе мы видели, что как в логике Канта, так и в логике Гегеля категории формы и содержания применяются для того, чтобы выразить определенное отношение между сознанием и объективным миром. Однако как первое, так и второе решение этого вопроса не могут нас удовлетворить ‹…›.
Как мы уже говорили, вводя в логику категории формы и содержания, Кант хотел отделить субъективный момент в мышлении от объективного. Однако сделанная им попытка механически разделить мышление противоречит его действительной природе, так как мышление является также единством объективного и субъективного, в котором объективная сторона заключена не в самом процессе, а в его отношении к действительному миру. Выделяя в процессах мышления форму и содержание, противопоставляя их друг другу, Кант, по существу, отрицал возможность отражения, возможность познания в субъективном объективного.
Гегель, наоборот, отождествил мышление с бытием, форму с содержанием, уничтожив тем самым принципиальное различие между субъективным и объективным в процессе отражения. Эта точка зрения столь же неприемлема для нас, как и кантовская.
Задаваясь вопросом, можно ли применять к процессам мышления категории формы и содержания и если можно, то в каком смысле, мы должны, прежде всего, обратиться к классикам марксизма-ленинизма и посмотреть, как употребляли они эти категории в применении к другим процессам.
Во-первых, категории формы и содержания выражают часто отношение между двумя разными явлениями (или процессами), одно из которых предполагает другое. Так, например, мы говорим, что производственные отношения являются формой развития производительных сил18.
Во-вторых, категории формы и содержания применяются для анализа одного какого-либо предмета, процесса или явления. В этом случае они выражают отношение между «глубинными процессами» и «поверхностными явлениями», между сущностью и явлением.
‹…› Характерно, что категории формы и содержания применяются к процессам и выражают определенные закономерности этих процессов. Говоря, что производственные отношения являются формой в процессе развития производства, а производительные силы – содержанием19, Маркс выражает тот факт, что характер производственных отношений зависит от характера производительных сил, определяется последним.
‹…› Рассматривая мышление, мы замечаем, что оно содержит ряд черт, общих с экономическими процессами, разбираемыми К. Марксом ‹…›. Во-первых, мышление является процессом; во-вторых, мышление отражает объективный мир, действительность и в своем движении следует за развитием и движением объективного мира; в-третьих, объективный мир, действительность всегда выступает для человека как отраженная действительность, как отражение, и в этом смысле отношение между объективным миром и отражением подобно отношению между сущностью и явлением.
В силу этого мы можем применить к мышлению категории формы и содержания, чтобы выразить в них отношение мышления к объективному миру. Мышление, как и всякий процесс отражения, является единством субъективного и объективного по своему отношению к действительности. Называя мышление субъективным процессом и способом отражения, формой, а свойства предметов и явлений объективного мира, которые познаны в мышлении, – содержанием, мы производим тем самым определенный анализ процессов мышления, выражаем определенные закономерности его развития.
Каждое понятие и категория, каждое суждение и умозаключение являются только «ступеньками» в процессе познания природы. Они охватывают, отражают свойства предметов и явлений объективного мира всегда неполно и неточно, но в своем движении они постоянно приближаются к отражению все более точному и глубокому. Как субъективный процесс, как способ отражения понятия, суждения и умозаключения являются формами, но так как этот процесс определенным образом относится к действительности, отражает свойства предметов и явлений действительности, он имеет определенное содержание, состоящее из отраженных, то есть познанных свойств объективного мира.
В каждый момент времени каждой форме соответствует свое строго определенное содержание. Но наше знание никогда не стоит на месте, оно постоянно развивается, обогащается, охватывая все новое и новое содержание. Если мы мысленно разорвем этот процесс и будем следить за отдельным его актом, то нам представится следующая картина. На одном полюсе находятся сами предметы и явления, на другом – человек с его знаниями об этих предметах. Эти знания не исчерпывают всех свойств предметов и явлений, они отражают лишь их небольшую часть. Эта познанная часть свойств является содержанием знания. Ей соответствует определенная форма, зависящая от содержания. Цель дальнейшего процесса познания состоит в том, чтобы увеличить знание, расширить его содержание. Но процесс начинается с того, что мы соотносим наши формы с новым содержанием. Мы применяем к новым процессам и явлениям объективного мира понятия и законы, выражающие другое содержание. Возникает противоречие. Противоречие между старой формой и новым содержанием, которое решается изменением формы, то есть наших понятий и законов, приспособлением их к новому содержанию. Именно так и надо понимать общее утверждение о том, что между формой и содержанием в определенные моменты возникает конфликт, противоречие ‹…›.
Ср.: «Спекулятивное, или положительно-разумное, постигает единство определений в их противоположности, то утвердительное, которое содержится в их разрешении и переходе.
‹…› 1) Диалектика приводит к положительному результату, так как она имеет определенное содержание, или, иначе говоря, так как ее результат есть поистине не пустое, абстрактное ничто, а отрицание известных определений, которые содержатся в результате именно потому, что он есть не непосредственное ничто, а результат. 2) Это разумное, хотя и оно есть нечто мысленное и притом абстрактное, есть вместе с тем и конкретное, потому что оно есть не простое, формальное единство, но единство различенных определений. ‹…› 3) В спекулятивной логике содержится чисто рассудочная логика, и первую можно сразу превратить в последнюю; для этого нужно только выбросить из нее диалектическое и разумное, и она превратится в то, что представляет собой обычная логика, – в историю различных определений мысли ‹…›.
Относительно спекулятивного мышления мы должны еще заметить, что под этим выражением следует понимать то же самое, что раньше применительно в основном к религиозному сознанию и его содержанию называлось мистическим. Когда в наше время говорят о мистике, то, как правило, употребляют это слово в смысле таинственного и непонятного, и в зависимости от полученного образования и образа мыслей одни смотрят на это таинственное и непонятное как на нечто подлинное и истинное, а другие видят в нем суеверие и обман. Мы должны прежде всего заметить, что мистическое, несомненно, есть нечто таинственное, но оно таинственно лишь для рассудка, и это просто потому, что принципом рассудка является абстрактное тождество, а принципом мистического (как синонима спекулятивного мышления) – конкретное единство тех определений, которые рассудок признает истинными лишь в их раздельности и противопоставленности. ‹…› Но, как мы уже видели, абстрактное рассудочное мышление столь мало представляет собой нечто незыблемое и окончательное, что оно, наоборот, обнаруживается как постоянное снятие самого себя и как переход в свою противоположность, разумное же мышление как таковое состоит именно в том, что оно содержит в самом себе противоположности как идеальные моменты. Все разумное мы, следовательно, должны вместе с тем назвать мистическим, говоря этим лишь то, что оно выходит за пределы рассудка, а отнюдь не то, что оно должно рассматриваться вообще как недоступное мышлению и непостижимое» [Гегель, 1974, с. 210–213].